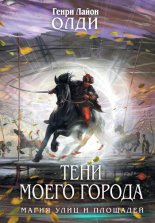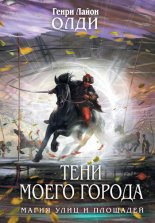Битва за Рим Маккалоу Колин
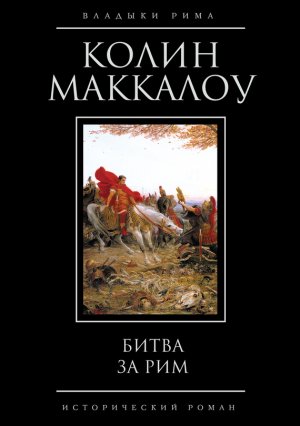
– Не горюй, наоборот, порадуйся за меня!
Они обнялись.
– Сейчас же схожу за Марком Ливием и Кратиппом, – скороговоркой произнесла Сервилия, откладывая работу и накрывая станок. – На одном я настаиваю: надо нанять строителей, которые превратят эту древнюю виллу в подходящее для тебя жилье.
Однако Ливия Друза не пожелала ждать. Уже через три дня она собрала дочерей, связки книг, прихватила немногочисленных слуг Цепиона и отправилась в Тускул.
Она не заглядывала туда с детства. Там мало что изменилось: все тот же оштукатуренный домик, желтый, как желчь, почти без сада и надворных построек, душный и темный, лишенный перистиля. Однако брат не терял времени даром: вокруг уже расхаживали люди, привезенные местным подрядчиком; сам он тоже оказался тут как тут и, почтительно поприветствовав новую хозяйку, пообещал, что уже через два месяца дом превратится в уютное гнездышко.
Самостоятельная жизнь Ливии Друзы началась в хаосе, хоть и не бесцельном: она задыхалась от пыли штукатурки, глохла от стука молотков, визга пил, постоянно выкрикиваемых команд и перебранок на сочной латыни тускуланцев, которые, живя в каких-то пятнадцати милях от Рима, редко туда наведывались. Дочери отреагировали на перемену обстановки в соответствии со своим характером: Лилла, которой исполнилось четыре с половиной года, была увлечена кипящей в доме работой, а сдержанная и замкнутая Сервилия терпеть не могла новый дом, стройку, свою мать – и еще неизвестно, кого или что сильнее. Однако Сервилия никак не выказывала своих чувств, а вдохновенное участие Лиллы в происходящем только усугубляло хаос.
Доверив дочерей старой няньке и строгому старому наставнику, обучавшему еще Сервилию, Ливия Друза следующим же утром отправилась на прогулку, чтобы полюбоваться красотой зимнего пейзажа и насладиться сельским покоем, сама не веря, что ей удалось наконец вырваться на волю. На календаре была весна, однако зима еще не думала отступать. Великий понтифик Гней Домиций Агенобарб не настоял на том, чтобы коллегия понтификов приводила календарные сезоны в соответствие с природными. В этом году в Риме и его окрестностях зима выдалась мягкой, снег почти не выпадал, Тибр не замерз. В то утро мороза не было, ветер напоминал дыхание спящего, под ногами шелестела свежая трава.
Ливия Друза чувствовала себя счастливее, чем когда-либо в жизни. Она прошла по заросшему саду, перелезла через низкую каменную стену, обошла поле, по которому уже успел пройтись плуг, преодолела еще одну стену и оказалась на овечьем выгоне. Косматые безмозглые создания шарахнулись от нее, когда она попыталась их подманить; улыбаясь, Ливия Друза продолжила путь.
За выгоном она нашла выкрашенный белой краской межевой камень, а неподалеку – маленькое святилище, обагренное еще не высохшей кровью жертвенного животного. С нижних веток стоящего тут же дерева свисали и деревянные куколки, и шары, и головки чеснока; все это, судя по виду, находилось здесь уже давно. Ливия Друза с любопытством взялась за перевернутый вверх дном глиняный кувшин, но тут же поспешно выронила его: под кувшином разлагалась большущая жаба.
Будучи горожанкой, она не поняла, что двигаться дальше – значит вторгнуться на чужую территорию, чей хозяин усердно ублажает богов своей земли. Она продолжила путь. При виде первого же желтого крокуса Ливия Друза опустилась на колени, любуясь цветком, а потом, выпрямившись, посмотрела на окружающие деревья новым взглядом: ей казалось сейчас, что и деревья, и все живое создано для нее одной.
На ее пути встал яблонево-грушевый сад; на ветках еще оставались груши, и Ливия Друза не устояла перед соблазном сорвать одну. Груша была настолько сладкой и сочной, что она мигом перепачкала руки. До слуха Ливии Друзы донеслось журчание воды, и она пошла на звук, раздвигая ветви, пока не увидела ручей. Вода в нем была обжигающе-ледяной, однако она отважно сполоснула в ней руки, а потом со счастливым смехом подставила их солнцу. Сняв с себя накидку, Ливия Друза, стоя у ручья на коленях, сложила ее треугольником и перекинула через руку. И тогда, поднявшись на ноги, она заметила его.
Перед этим он читал. Пергаментный свиток в его левой руке уже успел свернуться, поскольку мужчина совершенно забыл о нем, разглядывая незнакомку, вторгшуюся в его сад. Царь Одиссей из Итаки! Встретившись с ним глазами, Ливия Друза затаила дыхание, ибо это были настоящие Одиссеевы глаза – огромные, серые, прекрасные.
– Здравствуй, – произнесла она, улыбаясь ему без тени смущения. Она так много лет наблюдала за ним с балкона, что сейчас он и впрямь показался ей странником Одиссеем, возвратившимся из скитаний к своей Пенелопе. Прижимая к груди сложенную накидку, она зашагала к нему, продолжая улыбаться. – Я украла грушу, – сказала Ливия Друза. – Какая вкусная! Я и не знала, что груши висят на ветках так долго. Если я и покидаю Рим, то летом и сижу на берегу моря, а это совсем другое дело.
Он ничего не ответил, а лишь наблюдал за ее приближением своими сверкающими серыми глазами.
«Я по-прежнему люблю тебя! – кричала ее душа. – Люблю по-прежнему! Для меня не важно, что ты – потомок раба и крестьянки. Я тебя люблю! Подобно Пенелопе, я уже давно забыла, что такое любовь. Но вот ты снова передо мной через столько лет, и любовь проснулась!»
Остановилась она слишком близко от него, чтобы их встречу можно было назвать случайной; его обдало жаром, охватившим ее тело; огромные черные глаза, смотревшие на него в упор, горели любовью. Он сделал то, чего при таких обстоятельствах не мог не сделать: преодолел то небольшое расстояние, которое их разделяло, и обнял ее. Ливия подняла лицо, закинула руки ему на шею, и они поцеловались, продолжая улыбаться. Они были давними друзьями, давними возлюбленными, мужем и женой, не видевшимися два десятка лет, разлученные чужими кознями, божественные и бесконечно земные. Их встреча была долгожданным триумфом любви.
Его сильное, уверенное прикосновение сказало ей все; ей не было нужды подсказывать ему, как обнимать и ласкать ее; он был – всегда был! – властелином ее сердца. Торжественно, подобно ребенку, демонстрирующему свое бесценное сокровище, она обнажила грудь, а потом стала снимать одежду с него; он расстелил на земле ее накидку, и она улеглась рядом с ним. Дрожа от наслаждения, она целовала его шею и мочки ушей, сжимала ладонями его щеки, тянулась губами к его губам, осыпала его порывистыми ласками, шептала из уст в уста слова любви.
Сладкий и сочный плод, тонкие веточки, тянувшиеся к ней на фоне голубого неба, острая боль от ненароком зацепившихся за ветку волос, пташка, парящая в небе на фоне облака, наполняющий душу восторг, рвущийся наружу и наконец-то нашедший дорогу, – о, какой это был восторг!
Они долго лежали на ее накидке, согревая друг друга, улыбаясь друг другу, дивясь этой счастливой встрече, не терзаясь чувством вины, упиваясь сотнями маленьких открытий.
Любовные утехи сменялись разговорами. Ливия узнала, что ее «незнакомец» женат – на некоей Куспии, дочери публикана; сестра его замужем за Луцием Домицием Агенобарбом, младшим братом великого понтифика. Для того чтобы собрать денег на приданое для сестры, пришлось пойти на такие огромные расходы, что единственным выходом стала женитьба на этой Куспии, дочери сказочно богатого человека. У них еще не было детей – потому, должно быть, что он не находил в жене ничего привлекательного; та уже жаловалась отцу, что он избегает ее.
Ливия Друза рассказала ему о себе, и Марк Порций Катон Салониан примолк.
– Ты сердишься? – спросила она, приподнимаясь и тревожно глядя на него.
Он улыбнулся и покачал головой:
– Как я могу сердиться, когда боги ответили на мои молитвы? Ведь они послали тебя сюда, на землю моих предков, специально для меня. Я понял это, как только увидел тебя у ручья. Если ты связана с таким множеством могущественных семей, то это просто еще один знак их милости.
– Ты действительно не знал, кто я такая?
– Нет! – ответил он, несколько опечаленный. – Никогда в жизни тебя не видел.
– Ни разу? Неужели ты никогда не замечал меня на балконе дома моего брата, что стоит выше дома Гнея Домиция?
– Никогда!
– А я столько раз видела тебя за много лет!
– Я счастлив, что увиденное пришлось тебе по сердцу.
Она прижалась к его плечу:
– Я влюбилась в тебя, когда мне было шестнадцать лет.
– О своенравные боги! – воскликнул он. – Если бы я хоть раз поднял глаза и увидел тебя, то сделал бы все, чтобы ты стала моей женой. У нас народилась бы куча детей, и мы не оказались бы в таком ужасном положении.
Они инстинктивно стиснули друг друга в объятиях, чувствуя одновременно наслаждение и горечь.
– Будет беда, если они узнают, – прошептала она.
– Да.
– Это несправедливо.
– Несправедливо.
– Они не должны узнать о нас, никогда, слышишь, Марк Порций?
Он нахмурился:
– Нам следует гордиться нашей любовью, а не стыдиться ее.
– Мы и так гордимся, – серьезно ответила Ливия Друза. – Пусть сложившиеся обстоятельства корежат все на свой лад, я все равно счастлива.
Он сел и обхватил руками колени:
– Я тоже.
После этого он снова обнял ее и не выпускал, пока она не оттолкнула его, потому что ей хотелось рассмотреть его чудесное сложение, его длинные руки и ноги, гладкую безволосую кожу; редкие волоски на его теле были так же рыжи, как его голова. Тело было мускулистым, лицо худощавым. Настоящий Одиссей! Во всяком случае, ее Одиссей был именно таким.
Они расстались под вечер, договорившись, что встретятся на том же месте и в то же время на другой день. Прощание настолько растянулось, что, вернувшись, Ливия не застала строителей – те разошлись, сделав намеченное на день. Ее слуга Мопс уже подумывал, не отрядить ли людей на поиски госпожи. Но Ливию Друзу обуревало такое счастье, она ощущала такой подъем, что подобные мелочи ускользнули от ее внимания. Стоя перед Мопсом в предзакатном свете и растерянно моргая, она даже не потрудилась придумать никакого объяснения.
Выглядела она ужасно: волосы, в которых запутались комки земли и травинки, распустились, одежда была испачкана, рваные сандалии она несла за ремешки, руки и лицо – в грязи, ноги – в земле.
– Domina, domina, что случилось? – причитал слуга. – Ты оступилась?
К Ливии Друзе вернулась способность соображать.
– Да, Мопс, я упала, – беззаботно ответила она. – На страшную глубину, и все-таки осталась жива.
Завидя сбегающихся слуг, она шмыгнула в дом. В ее комнату был внесен старый медный таз с теплой водой. Лилла, разрыдавшаяся без матери, ушла, подгоняемая нянькой, чтобы съесть остывший ужин, однако Сервилия, никем не замеченная, не отставала от Ливии Друзы ни на шаг. Она стояла в тени, когда служанка, расстегнувшая на своей госпоже все застежки, зацокала языком, удивляясь, как хозяйка перепачкалась: тело оказалось еще грязнее одежды.
Стоило служанке отвернуться, чтобы проверить, достаточно ли согрелась вода, обнаженная Ливия Друза, отбросив смущение, так медленно и сладострастно заложила руки за голову, что девочка, подглядывавшая из-за двери, поняла значение этого жеста – пусть пока что на подсознательном уровне, ибо для того, чтобы разбираться в подобных вещах, она была еще слишком мала. Руки Ливии Друзы скользнули вдоль бедер, а затем подперли снизу пышные груди. Она с блаженной улыбкой провела по соскам большими пальцами, потом шагнула в таз и повернулась к служанке спиной, чтобы та могла лить воду ей на спину. Никем не замеченная, ее дочь выбежала из комнаты.
За ужином – Сервилии было позволено сидеть за одним столом с матерью – Ливия Друза с восторгом расписывала, что за чудесную грушу она съела, какой прекрасный крокус нашла в траве, какие чудные куколки висели на ветвях межевого святилища, какой быстрый ручей попался ей на пути и какое страшное падение со скользкого берега ее поджидало. Сервилия ела с изяществом, ничем не выдавая своих чувств. В этот момент мать больше походила лицом на беззаботное дитя, а дочь – на обеспокоенную женщину.
– Мое приподнятое настроение тебя удивляет, Сервилия? – спросила мать наконец.
– Да, это очень странно, – сдержанно ответила дочь.
Ливия Друза наклонилась к ней над маленьким столиком, за которым они сидели вдвоем, и убрала прядь черных волос с лица дочери, впервые в жизни проявив неподдельный интерес к этой миниатюрной копии ее самой.
– Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, – проговорила Ливия Друза, – моя мать никогда не обращала на меня внимания. А все Рим! Лишь недавно я поняла, что он так же действует на меня. Вот почему я оставила город. Мы будем жить сами по себе до возвращения отца. Я счастлива, потому что свободна, Сервилия! Я способна забыть Рим.
– А мне Рим нравится, – сказала Сервилия, облизываясь при виде разнообразных блюд. – У дяди Марка повар лучше.
– Мы найдем повара тебе по вкусу, если это твоя главная беда. Это – твоя главная беда?
– Нет. Строители – они еще хуже.
– Ну, они через месяц-другой нас покинут, и тогда здесь воцарится покой. Завтра, – она вспомнила о предстоящем свидании и тряхнула головой, пряча улыбку, – нет, послезавтра мы пойдем прогуляться вместе.
– Почему не завтра? – спросила Сервилия.
– Потому что я должна посвятить своим делам еще один день.
Сервилия слезла со стула:
– Я устала, мама. Можно я пойду спать?
Так начался счастливейший год в жизни Ливии Друзы, время, когда для нее померкло все, кроме любви, имя которой было Марк Порций Катон Салониан; о дочерях она вспоминала лишь изредка.
Влюбленные быстро научились необходимым хитростям и уловкам, поскольку Катон не мог проводить в Тускуле слишком много времени, – во всяком случае, у него не водилось такой привычки, пока он не встретил Ливию Друзу. Им требовалось более надежное укрытие, где не было опасности попасться на глаза садовникам или пастухам и откуда Ливия Друза могла уйти, не перепачкавшись в земле. Катон решил эту проблему: он выселил из домика, стоявшего в его имении на отшибе, проживавшую там семью под предлогом, что собрался написать книгу – и притом именно там. Книгой объяснялись также его участившиеся отлучки из Рима и от жены: следуя по стопам деда, он собрался заняться исследованием римской сельской жизни, включая говоры, обычаи, молитвы, суеверия и ритуалы; далее в его намерения входило описать современные способы земледелия и хозяйствования. Ни у кого в Риме такие замыслы не вызвали удивления, ибо все знали, какая у Катона семья и какие предки.
Всякий раз, когда Катону удавалось попасть в Тускул, любовники встречались в один и тот же утренний час, назначенный Ливией Друзой, – в это время дети занимались учебой; расставание – самый тяжелый момент – происходило в полдень. Даже во время визита Марка Ливия Друза, заехавшего как-то раз проведать сестру и взглянуть, как продвигаются строительные работы, Ливия Друза не отказалась от своих прогулок. Она так и светилась от счастья, но счастье это было до того простым и безыскусным, что Друз не мог не восхититься благоразумием сестры, решившейся на переезд; прояви она признаки беспокойства или вины, у него обязательно возникли бы подозрения. Однако ничего этого она не испытывала, поскольку считала свою связь с Катоном чем-то вполне достойным, правильным и желанным для них обоих.
Естественно, кое-что ее все-таки смущало, особенно в самом начале их связи. Ливию Друзу немного огорчало сомнительное происхождение возлюбленного. Теперь это, разумеется, не ранило ее так сильно, как давным-давно, когда Сервилия открыла ей глаза, однако вовсе не думать об этом она не могла. К счастью, она была слишком умна, чтобы открыто над ним подтрунивать. Вместо этого она всякий раз демонстрировала, что у нее нет ни малейшей причины смотреть на него свысока, – хотя на самом деле именно так она на него и смотрела. Это было, конечно же, не презрение или пренебрежение, а просто сожаление, основанное на непоколебимой уверенности в благородстве собственного происхождения. Как бы ей хотелось, чтобы эта наивысшая привилегия, о какой только может мечтать римлянин, распространялась и на него!
Его дедом был знаменитый Марк Порций Катон Цензор – Катон-старший. Порции Приски происходили из состоятельного латинского рода, принадлежали к римскому всадничеству на протяжении нескольких поколений. Обладая всеми правами гражданства и состоянием, они тем не менее жили не в Риме, а в Тускуле и совершенно не рвались к государственным должностям.
Ливия быстро удостоверилась, что ее возлюбленный вовсе не стыдится своей родословной. Вот как все это выглядело в его интерпретации:
– Легенда восходит к чудачествам моего деда: он стал прикидываться крестьянином после того, как в армии на него шикнул какой-то изнеженный патриций, когда деду было семнадцать лет, в начале войны с Ганнибалом. Роль крестьянина пришлась ему настолько по душе, что он играл ее до самой смерти. У нас в семье считается, что это был верный ход: «новые люди» приходят и уходят, их предают забвению – но кто забудет Катона-старшего?
– То же самое справедливо и в отношении Гая Мария, – неуверенно произнесла Ливия Друза.
Ее возлюбленный отпрянул, словно она его ударила.
– Он? Вот уж кто и впрямь «новый человек» – отъявленный деревенщина! У моего деда были предки! «Новым человеком» его можно назвать лишь с той точки зрения, что он первым в нашем роду стал сенатором.
– Откуда ты знаешь, что твой дед всего лишь прикидывался крестьянином?
– Из его писем. Они хранятся в нашей семье до сих пор.
– А разве его бумаги хранятся не у другой ветви вашего рода? Ведь та ветвь старше.
– Луцинианы? Даже не упоминай их! – В голосе Катона прозвучало отвращение. – Наоборот, наша ветвь, Салонианы, засверкает как алмаз, когда историки будущего станут описывать Рим наших времен. Мы – подлинные наследники Катона Цензора. Мы не важничаем и не зазнаемся, мы чтим Катона Цензора как великого человека.
– Только выдававшего себя за крестьянина.
– Вот именно! Грубоватого, добродушного, прямого, любившего старину – одним словом, истинного римлянина. – Глаза Катона сверкали. – Знаешь ли ты, что он пил то же вино, что и его рабы? Никогда не штукатурил своих вилл, не имел ковров и пурпурных одежд и ни разу не заплатил за раба больше шести тысяч сестерциев. Мы, Салонианы, продолжили его традиции, мы живем так же, как он.
– О боги! – вскричала Ливия Друза.
Однако Салониан не заметил смятения Ливии, ибо слишком увлекся, рассказывая своей возлюбленной о том, каким замечательным человеком был Катон Цензор.
– Ну разве мог бы крестьянин стать лучшим другом Валериев Флакков, а переехав в Рим, прослыть самым блестящим адвокатом всех времен? Даже сегодня такие переоцененные ораторы, как Красс Оратор и старый Муций Сцевола Авгур, признают, что в риторике ему не было равных, он блестяще владел всеми приемами. А возьми его литературное наследие! Великолепно! Мой дед был образованнейшим человеком; латынь, на которой он изъяснялся и писал, была столь безупречна, что он обходился без черновиков.
– Я обязательно почитаю Катона-старшего, – с легкой досадой сказала Ливия Друза: ее домашний учитель считал Катона Цензора недостойным ее внимания.
– Сделай милость! – Катон обнял ее и привлек к себе. – Начни с «Поэмы о нравах», чтобы понять, сколь достойным человеком был этот римлянин с большой буквы. Конечно, он первым среди Порциев назвался Катоном: раньше они именовались Присками; уже одно это указывает на древность рода. Представляешь, деду моего деда было уплачено за пять коней, павших под ним, когда он сражался за Рим!
– Меня волнуют не Салонианы, не Приски и не Катоны. Салоний – вот кто не выходит у меня из головы. Ведь он был рабом-кельтибером, верно? Зато старшая ветвь претендует на происхождение от благородной Лицинии и от третьей дочери великого Эмилия Павла и Корнелии, старшей дочери Сципиона.
Салониан нахмурился: в словах возлюбленной отчетливо слышался свойственный Ливиям снобизм. Однако она смотрела на него широко распахнутыми, полными любви глазами; он тоже сгорал от любви к ней. Разве можно винить ее за неосведомленность по поводу Порциев Катонов? Ему просто нужно все ей объяснить.
– Знаешь ли ты историю Катона Цензора и Салонии? – спросил он, пристроив подбородок у нее на плече.
– Не знаю, душа моя. Расскажи!
– Дед не женился до сорока двух лет. К тому времени он побывал консулом, одержал славную победу в Дальней Испании и отпраздновал триумф – он-то не отличался жадностью! Он никогда не прикарманивал трофеев и не торговал пленниками. Он все отдавал своим солдатам, и их потомки до сих пор боготворят его за это. – Катон так обожал своего деда, что забыл, о чем собирался рассказать.
– Итак, ему было сорок два года, когда он женился на благородной Лицинии, – подсказала Ливия Друза.
– Да. У них родился всего один ребенок, Марк Лициниан, хотя дед, судя по всему, был очень привязан к Лицинии. Не знаю, почему у них не было больше детей. Так или иначе, Лициния умерла, когда моему деду было семьдесят семь лет. После смерти жены он взял наложницу-рабыню. Его сын Лициниан и невестка, благородная римлянка, которую ты упоминала, жили в доме деда. Рабыня-наложница взбесила их. Сам он не делал тайны из этой своей слабости и позволял ей расхаживать по дому, словно она была его хозяйкой. Вскоре об этом прознал весь Рим – Марк Лициниан и Эмилия Терция не стали держать язык за зубами. Единственным человеком, остававшимся в счастливом неведении, был сам Катон Цензор. Но в конце концов и он узнал об этих сплетнях и, вместо того чтобы спросить сына и невестку, почему они не сказали о своем недовольстве ему, как-то утром просто-напросто отослал рабыню восвояси, а сам ушел на Форум, ничего не сообщив родне.
– Весьма странный поступок, – молвила Ливия Друза.
Ничего не ответив, Катон продолжал:
– Среди клиентов Катона Цензора был вольноотпущенник по имени Салоний, кельтибер из Салона, прежде служивший у деда писцом. «Эй, Салоний! – окликнул его дед на Форуме. – Нашел ли ты мужа для своей красотки-дочери?» Салоний ответил: «Пока нет, domine, но можешь не сомневаться, что, когда я найду для нее подходящего человека, я обязательно приведу его к тебе и спрошу твоего мнения и совета». Дед сказал ему: «Прекрати поиски. У меня есть для нее на примете достойный муж благороднейших кровей. Состоятельный, с безупречной репутацией, примерный семьянин – чего еще желать? Одним подкачал: боюсь, он несколько староват. Но, заметь, не жалуется на здоровье! И все же даже самый пылкий доброжелатель был бы вынужден признать, что он – старик». Салоний ответил: «Domine, если на него пал твой выбор, то как же я могу ослушаться? Я сделаю все, чтобы выказать тебе почтение. Дочь моя родилась, когда я был твоим рабом, мать ее тоже была твоей рабыней. Ты оказал мне такую милость: освободил меня и всю мою семью. Моя дочь в долгу перед тобой – в той же мере, что и я, и моя жена, и мой сын. Не тревожься, Салония – славная девочка. Она выйдет за любого, кого бы ты ни предложил ей в мужья, невзирая на его возраст». – «Чудесно, Салоний! – вскричал дед, хлопая его по спине. – Он – это я!»
– Тут что-то неладно с грамматикой, – поморщилась Ливия Друза. – Я-то думала, что латынь Катона Цензора и впрямь была безупречна.
– Жизнь моя, где твое чувство юмора? – вытаращил глаза Катон. – Ведь он пошутил! Ему просто хотелось, чтобы все было воспринято легко. Салоний был ошеломлен. Он не мог поверить, что ему предлагают породниться с благородным семейством, в котором имеется консул и триумфатор.
– Неудивительно, что он был ошеломлен, – сказала Ливия Друза.
– Дед заверил Салония в серьезности своих намерений, – заторопился Катон. – Девушка по имени Салония была доставлена незамедлительно, и состоялась свадьба, благо, что день был подходящий. Стоило Марку Лициниану прослышать об этом спустя час-другой – вести облетали Рим быстро, – как он собрал друзей и направился к Катону Цензору. «Вознегодовав на нас за то, что мы осуждаем тебя за любовницу-рабыню, ты решил опозорить наш дом и того пуще, вводя в него подобную мачеху?» – гневно спросил Лициниан. «Какой же это позор для тебя, сын мой, если я собрался доказать, что я мужчина, став в преклонном возрасте отцом еще нескольких сыновей? – величественно осведомился дед. – Разве я мог бы найти жену-патрицианку в моем преклонном возрасте? Подобный брак был бы неподобающим. Напротив, женясь на дочери своего вольноотпущенника, я вступаю в брак, соответствующий моим годам и потребностям».
– Невероятно! – ахнула Ливия Друза. – Он таким образом хотел досадить Лициниану и Эмилии Терции.
– Да, так принято считать среди нас, Салонианов.
– Неужели все они продолжали жить под одной крышей?
– Разумеется. Правда, Марк Лициниан вскоре умер – многие полагают, что его сердце не выдержало такого бесчестья. Эмилия Терция осталась в доме нос к носу со свекром и его новой супругой Салонией. По-моему, она вполне достойна такой участи. Видишь ли, ее собственный папаша скончался, и она не могла вернуться в отчий дом.
– Насколько я понимаю, Салония подарила жизнь твоему отцу, – молвила Ливия Друза.
– Совершенно верно, – сказал Катон Салониан.
– Разве тебя не угнетает, что ты – внук женщины, рожденной в рабстве?
– Почему это должно меня угнетать? – удивился Катон. – Все мы к кому-то восходим. Кажется, цензоры согласились с моим дедом Катоном Цензором, заявлявшим, что его кровь столь благородна, что очищает собой кровь любого раба. Салонианов никогда не пытались выкинуть из сената. Салоний вел свой род от галлов – вполне достойное происхождение. Вот если бы он был греком… Но дед никогда не пошел бы на брачный союз с гречанкой. Греков он терпеть не мог.
– А ты оштукатурил свою усадьбу? – Задавая свой вопрос, Ливия Друза приникла к бедру Катона.
– Нет, разумеется, – ответил он, учащенно дыша.
– Теперь я знаю, почему нам приходится пить такое отвратительное вино.
– Молчи, Ливия Друза! – приказал Катон, переворачивая ее на спину.
Великая любовь неизменно приводит к неосмотрительности, опрометчивым словам и разоблачению; однако Ливия Друза и Катон Салониан умудрялись сохранять свою связь в полной тайне. Если бы дело происходило в Риме, все наверняка сложилось бы иначе; но, на их счастье, в сонном Тускуле никто не обращал внимания на скандал, назревающий под самым носом у добропорядочных обывателей.
Не прошло и месяца, как Ливия Друза убедилась, что беременна. У нее не было ни малейших сомнений, что отец ребенка не Цепион: в тот самый день, когда Цепион уехал из Рима, у нее начались месячные. Две недели спустя она попала в объятия Марка Порция Катона Салониана; в должный срок очередные месячные не наступили. Две предыдущие беременности научили ее кое-каким другим признакам, которые давали о себе знать и сейчас. Она была беременна – от возлюбленного, Катона, а не от мужа, Цепиона.
Пребывая в философическом настроении, Ливия Друза решила ни от кого не утаивать своего положения. Ее успокаивало то, что она сошлась с Катоном вскоре после отъезда Цепиона, так что разоблачение им не грозило. Было бы куда хуже, если бы она забеременела позднее. Нет, об этом лучше даже не думать!
Друз обрадовался новости, его жена Сервилия – тоже; Лилла заявила, что братик очень ее позабавит, а Сервилия приняла известие холоднее обычного.
Естественно, это нельзя было скрывать и от Катона. Но что именно ему стоило сказать? Все Ливии Друзы отличались рассудительностью; Ливия Друза решила обстоятельно обдумать предстоящий разговор. Было ужасно лишать Катона ребенка, тем более сына, однако… Ребенок непременно родится еще до возвращения Цепиона; никто не усомнится, кто его отец. Если ребенок Катона окажется мальчиком, он станет – при условии, что и он назовется Квинтом Сервилием Цепионом, – наследником золота Толозы, всех пятнадцати тысяч талантов! Тогда он будет богатейшим человеком в Риме, обладая при этом славным именем. Куда более славным, чем имя Катон Салониан.
– У меня будет ребенок, Марк Порций, – объявила она Катону при следующей их встрече в домике из двух комнат, который она считала теперь своим настоящим домом.
Он был скорее встревожен, нежели обрадован. Взгляд его стал испытующим.
– От меня или от мужа? – спросил он.
– Не знаю, – ответила Ливия Друза. – Правда не знаю. Сомневаюсь, что я узнаю наверняка, даже когда он родится.
– Он?
– Это мальчик.
Катон откинулся на подушку, закрыл глаза и поджал свои чудесные губы.
– Мой, – уверенно произнес он.
– Не знаю, – повторила она.
– И ты всем скажешь, что это – ребенок мужа.
– Вряд ли у меня есть выбор.
Открыв глаза, он печально взглянул на нее:
– Знаю, что нет. Я не могу на тебе жениться, даже если бы у тебя появилась возможность развестись. А ты не разведешься – разве что твой муж нагрянет раньше, чем ты рассчитываешь, но это весьма сомнительно. Все это не случайно: боги смеются над нами.
– Пускай! В конце концов выигрываем мы, мужчины и женщины, а не боги, – сказала Ливия Друза, прильнув к нему. – Я люблю тебя, Марк Порций! Надеюсь, что это твой ребенок.
– А я надеюсь, что не мой, – сказал Катон.
Беременность Ливии Друзы не внесла изменений в ее привычки. Она по-прежнему совершала свои утренние прогулки, а Катон Салониан проводил в старом дедовском имении вблизи Тускула больше времени, чем прежде. Они занимались любовью яростно, не боясь за новую жизнь, вызревающую в ее утробе. На предостережения Катона Ливия Друза ответила, что любовь ее младенцу не помеха.
– Ты по-прежнему предпочитаешь Рим Тускулу? – спросила она свою дочь Сервилию как-то раз чудесным днем в конце октября.
– О да! – с жаром ответила Сервилия, которая все эти долгие месяцы была крепким орешком: необщительная, она никогда первой не заводила разговора, а на материнские вопросы отвечала так лаконично, что за обедом Ливия Друза, скорее, произносила монологи.
– Отчего же, Сервилия?
Та бросила взгляд на изрядно выросший живот матери.
– Во-первых, там хорошие врачи и акушерки, – молвила девочка.
– О, за ребенка не беспокойся! – засмеялась Ливия Друза. – Он вполне доволен жизнью. Когда настанет его срок, он не доставит больших хлопот. У меня впереди еще целый месяц.
– Почему ты все время называешь его «он», мама?
– Потому что знаю, что это мальчик.
– Это невозможно знать, пока ребенок не родится.
– Какая ты у меня циничная! Я знала, что ты родишься девочкой, знала, что девочкой родится Лилла. С чего бы мне ошибиться на сей раз? Я по-другому себя чувствую, а он по-другому разговаривает со мной.
– Разговаривает с тобой?
– Вы обе тоже разговаривали со мной, пока находились у меня в утробе.
Взгляд девочки стал насмешливым.
– Странная ты какая-то, мама. И становишься все страннее. Как может ребенок говорить, пока он в утробе? Ведь дети не говорят даже после того, как родятся, по крайней мере сперва.
– Вся в отца, – бросила Ливия Друза, скорчив гримасу.
– Значит, ты не любишь tata! Так я и думала! – воскликнула Сервилия скорее бесстрастно, чем осуждающе.
Ей уже исполнилось семь лет; мать сочла, что кое-какие непростые вещи ей можно объяснить. Не то чтобы настраивать против отца, но… Разве не чудесно было бы иметь в лице старшей дочери подругу?
– Нет, – спокойно произнесла Ливия Друза, – я не люблю твоего отца. Хочешь знать почему?
Сервилия пожала плечами:
– Наверное, ты все равно скажешь.
– А ты сама его любишь?
– Да-да! Он – самый лучший человек в целом свете.
– О!.. Тогда мне действительно придется объяснить тебе, в чем тут дело. Иначе ты станешь меня осуждать. А у меня есть оправдание.
– Конечно, ты так считаешь.
– Понимаешь, дорогая, я не хотела выходить замуж за tata. Меня заставил согласиться твой дядя Марк. А это – дурное начало.
– У тебя была возможность выбирать.
– В том-то и дело, что никакой! Чаще всего так и происходит.
– А по-моему, тебе следует признать, что дядя Марк лучше тебя разбирается в таких делах. Как и во всех остальных. В том, как он подобрал для тебя мужа, я не вижу ошибки, – молвила семилетняя судья.
– Ничего себе! – Ливия Друза уставилась на дочь полными отчаяния глазами. – Сервилия, разве людям можно диктовать, кого им любить, а кого нет? Так получилось, что твоей отец не пришелся мне по сердцу. Он мне никогда не нравился – с самого детства. Но наши отцы загодя договорились, что мы поженимся, и дядя Марк не усмотрел в этом ничего дурного. Я так и не сумела убедить его в том, что если отсутствие любви браку не помеха, то неприязнь неминуемо обречет семейный союз на неудачу.
– По-моему, ты просто глупа, – надменно отвечала Сервилия.
Упрямица! Но Ливия Друза не сдавалась:
– Супружество – дело очень личное, дитя мое. Неприязнь к мужу или жене – бремя, которое нелегко нести. В супружестве люди связаны самым тесным образом. А когда человек вызывает неприязнь, то тебе неприятны его прикосновения. Это-то тебе понятно?
– Мне вообще неприятны прикосновения, – отчеканила Сервилия.
– Будем надеяться, что так будет не всегда, – с улыбкой ответила мать. – Меня, к примеру, вынудили выйти за человека, прикосновения которого были мне неприятны. Человека, который сам был мне неприятен. Так оно осталось по сию пору. Однако результатом этого брака стало появление иных чувств: я люблю тебя, люблю Лиллу. Как же мне не любить твоего папу хотя бы чуть-чуть, если он способствовал появлению на свет тебя и Лиллы?
На лице Сервилии появилось выражение неприкрытого отвращения.
– Как же ты глупа, мама! Сперва ты говоришь, что tata тебе неприятен, а потом выясняется, что ты его любишь. Чепуха какая-то!
– Нет, это очень по-человечески, Сервилия. Любовь и приязнь – разные чувства.
– Ну а я буду питать любовь и приязнь к мужу, которого подберет для меня tata, – высокомерно заявила Сервилия.
– Надеюсь, так оно и будет, – сказала Ливия Друза и попробовала сменить тему этого тяжелого разговора. – Сейчас я, к примеру, очень счастлива. Сказать почему?
Темноволосая головка склонилась на бок; поразмыслив, Сервилия покачала головой, умудрившись одновременно согласно кивнуть:
– Я знаю причину, не знаю только, как это может делать тебя счасливой. Ты живешь в этой отвратительной дыре и собираешься родить. – Черные глаза блеснули. – И потом, у тебя, кажется, завелся дружок.
На лице Ливии Друзы отразился ужас. Испуг был таким явным, что девочка вздрогнула от удивления и волнения; удар был нанесен наугад и объяснялся лишь тем, что Сервилия страдала от отсутствия друзей.
– Конечно, у меня есть дружок! – воскликнула мать, стараясь скрыть испуг. Она через силу улыбнулась. – Он беседует со мной изнутри.
– Моим другом ему не бывать, – сказала Сервилия.
– О, Сервилия, не говори таких вещей! Он будет самым лучшим твоим другом – так всегда бывает с братьями, уж поверь мне!
– Дядя Марк – твой брат, однако именно он заставил тебя выйти замуж за моего tata, которого ты не любила.
– И все же это не разрушило нашей дружбы. Братья и сестры вместе растут. Никто из людей не знает друг друга лучше, чем брат с сестрой, и они учатся друг друга любить, – с теплотой в голосе объяснила Ливия Друза.
– Разве можно научиться любить человека, который тебе неприятен?
– Тут ты ошибаешься. Можно, если постараться.
Сервилия фыркнула:
– В таком случае почему ты не научилась любить tata?
– Потому что он мне не брат! – воскликнула Ливия Друза, теряясь в догадках, куда их заведет этот разговор.
Почему дочь не хочет сделать шаг ей навстречу? Почему она так черства, так бестолкова? Потому, решила мать, что она – дочь своего отца. О, как она на него похожа! Только куда умнее. Вернее, хитрее.
– Сервилия, – проговорила она, – единственное, чего я для тебя хочу, – это счастья. Обещаю, что никогда не позволю твоему отцу выдать тебя замуж за неприятного тебе человека.
– А вдруг тебя не окажется рядом при моем замужестве?
– Это по какой же причине?
– Ну, ведь твоей матери не было рядом с тобой, когда тебя выдавали замуж?
– Моя мать – это совсем другое дело, – печально промолвила Ливия Друза. – Как тебе известно, она еще жива.
– Известно, известно! Она живет с дядей Мамерком, но мы с ней не разговариваем. Она распутная женщина, – сказала девочка.
– От кого ты слышала об этом?
– От tata.
– Ты даже не знаешь, что значит «распутная женщина».
– Знаю: женщина, забывшая, что она патрицианка.
Ливия Друза скрыла улыбку:
– Интересное определение, Сервилия. Как ты думаешь, ты сама никогда не забудешь, что ты патрицианка?
– Никогда! – выкрикнула дочь. – Когда я вырасту, то буду такой, как хочет мой tata.
– Я и не знала, что ты так много беседуешь с ним.