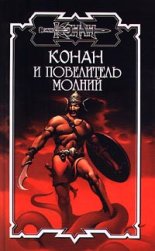Меч на ладонях Муравьев Андрей
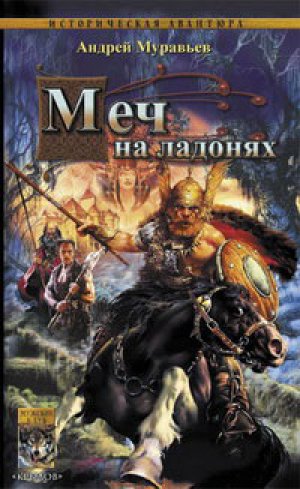
Пока Малышев пробовал разгадать, что именно оппонент имел в виду, Улугбек продолжил:
– Кроме мехов, ничего легкого и ценного из Руси не везли.
Костя пожал плечами:
– Ну, ладно. Может, он меха в сундуки засунул. Или даже в Магдебург не продавать, а покупать едет.
Профессор хмыкнул. Такая мысль казалось ему абсурдной.
– Что есть такого в Магдебурге, чего нет в Любеке или Гамбурге?
Продолжить спор товарищам по скамье не дали.
Тут стоявший на носу Сила Титович вскинул ладонь к глазам, всматриваясь в очертания Борнхольма. Десять секунд спустя драккар уже разворачивался в сторону берегов Померании. Под окриком Бьерна гребцы сильней налегли на весла.
– Что происходит? – Костя толкнул сидящего впереди седоусого крепыша. Тот в ответ только рыкнул и кинул одно слово, которого боялись все купцы от Мавритании до Руси:
– Херсиры[56].
Сомохов и Малышев дружно налегли на весла…
Старания команды были напрасны. Подошедшие со стороны солнца в утреннем тумане два пиратских корабля беззвучно скользили к судну торговца. Экипажи всех трех судов усиленно гребли, ветер одинаково наполнял паруса, но, в отличие от «Одноглазого Волка», корабли пиратов вышли из своей гавани пустыми и были, соответственно, легче купеческого. За два часа херсиры сократили расстояние настолько, что даже сухопутным «полочанам» стало очевидно, что драки не избежать.
Когда еще через час передний корабль пиратов подошел к драккару русичей ближе чем на три сотни метров, Сила Титович приказал надевать брони.
Гребцы оставили корабль на попечение ветра и Бьерна, держащего рулевое весло. Дружина начала вооружаться. Судовая рать натягивала стеганые жилеты с нашитыми металлическими бляхами, напяливала шлемы. Четверо, включая Силу Титовича, заблестели кольчугами, а Онисий Навкратович приладил на грудь настоящий бронзовый панцирь. Разбирались с бортов щиты, сапоги менялись на схожие с мокасинами очумки (чтобы не заскользить по кровавой палубе), и проверялись острия копий. «Полочане» надели купленные доспехи и расчехлили оружие двадцатого века. С боеприпасами дела обстояли неплохо, но все равно решено было экономить и стрелять по возможности одиночными.
Расстояние между кораблем купца и пиратами сокращалось. Вот уже со стороны херсира полетела первая стрела. Для прицельного выстрела на море было еще далековато, да и качка с ветром вносили коррективы. Но первая стрела пиратов воткнулась в корму драккара всего на локоть ниже борта, за которым стоял Сила Титович со щитом в одной руке и полуторным мечом во второй. Какой-то дружинник из судовой рати попробовал ответить стрелой на стрелу, но против дующего в корму ветра лук новгородца оказался бессилен. Стрела русича упала на воду, не долетев двух десятков шагов до драккара херсиров.
Это событие было встречено на пиратском корабле ревом восторга. Горовой зашевелил скулами и шагнул к корабельному воеводе.
– Дозволь, командир, я его осажу, – прогудел казак, показывая дружиннику новгородского князя «англицкую» винтовку.
Сила Титович скользнул взглядом по странному оружию, о котором столько слышал от хобургского ярла, и кивнул: попробуй, мол.
Тимофей отложил щит, намотал ремень винтовки на левую руку, пошире расставил ноги, ловя ритм раскачивающейся палубы, и, затаив дыхание, прицелился. Дружина следила за ним, практически не дыша. Большая часть из них слышала в Хобурге легенды о колдовском оружии полочан, но видела их в бою впервые.
Выстрел грохнул неожиданно. Внимание всех тут же переключилось с Горового на ближайший корабль пиратов. Там после выстрела сперва наступила тишина. Но, не заметив никакого эффекта от колдовского грома, тишину прервал шквал хохота и насмешек разбойников. Стоящий на носу предводитель пиратов в высоком золоченом шлеме потрясал копьем и поносил купеческую охрану, а вся остальная его дружина вторила вождю. Обрывки обидных фраз уже долетали до слуха новгородцев. По палубе пролетел вздох разочарования. Горовой промазал. Это было немудрено на качающейся палубе для казака, предпочитавшего конную лаву окопной войне.
Сила Титович отвернулся к приближающемуся кораблю пиратов. Он уже сожалел о том, что купился на сказки, которыми его потчевал ярл Струппарсон. Боевые колдовские палки, сметающие десятки врагов, оказались вонючими пукалками, способными напугать только коня или ребенка. Ярл говорил, что полочане слабы в рукопашной схватке. Если это так, они станут балластом в предстоящем сражении.
Захар молча отложил свой «Суоми», подошел к Горовому и взял из рук сконфуженного казака винтовку. Восхищенно цокнув, он любовно погладил цевье. Дружина драккара уже вовсю соревновалась в острословии с командой ближайшего херсира, и на «полочанина» внимания никто не обратил. Вот-вот со стороны пиратов посыплются стрелы. Расстояние между кораблями все сокращалось. На пятидесяти шагах стрелы преследователей начнут собирать свой страшный урожай, когда посланцы разбойников будут пробивать шеи и руки корабельной рати, а не бессильно тюкаться в кожу доспехов.
Грохнул винтовочный выстрел, и предводитель пиратов рухнул в морскую воду под киль собственного судна. Крики с обеих сторон смолкли. Пираты сгрудились у борта, высматривая в море своего вожака, а корабельная рать пялилась на Захара, стоявшего у борта. Деловито щелкнув затвором, Пригодько мягко прижал приклад к плечу, спустил курок, и очередной бандит полетел в свинцовые волны. Следующие два выстрела прозвучали с интервалом в три секунды. Один разбойник свалился за борт, а второй – уже на палубу судна. Преследователи попрятались и затихли.
Через двадцать секунд, во время которых корабельная рать и укрывшиеся от пуль пираты молча рассматривали друг друга, а Захар заряжал винтовку, пираты отвернули свои судна с курса драккара русичей и пошли обратно к Борнхольму. Удача похода напрямую связана с удачей предводителя. Ведь он – любимец богов, и если счастье его покидает, хирду хорошего ждать нечего.
Взрыв восторженных криков разорвал остатки утреннего тумана вокруг «Одноглазого Волка».
…Торвал Сигпорсон не был трусом. Когда его глаза запорошила мгла колдовства коварного жреца, он только сжал покрепче зубы и ухватился за рукоятку секиры.
Помутнение прошло внезапно и как-то сразу, без перехода. Будто кто-то хлопнул в ладоши – и вот он, Торвал Сигпорсон, лежит в куче птичьего помета и пялится на статую богини, закинувшую его сюда. Оружие при нем, немного саднит плечо, но, в общем, впечатление такое, будто спал и проснулся.
Торвал поднялся и огляделся. Он был в совершенно незнакомом месте. Викинг похлопал себя по поясу – мешок с серебром альвов был при нем. Ну, хоть в этом удача его не оставила. Несостоявшийся учитель и удачливый вор сплюнул под ноги. Нечего богов гневить – он жив, с деньгами и оружием, а вокруг не видно врагов.
День явно клонился к ночи, и в пещере, где стоял Торвал, с большим трудом можно было различить что-то дальше нескольких шагов. Лучи заходящего солнца еще проникали через единственную щель в стене напротив статуи, но они давали все меньше и меньше света. Последние посланцы скупого светила причудливо играли на изморози, покрывавшей стены, а вечерние блики и тени создавали впечатление, будто статуя движется.
Торвал поежился: было холодно. Настолько, что одетый по-весеннему викинг начал не просто зябнуть, а замерзать. Скитания от Дании до Гардарики приучили храброго наемника переносить морозы, но еще никогда он не встречал их без верхней теплой одежды, хотя и с полным поясом денег.
На полу мелькнул металлический блик. Обостренные рефлексы скандинава сработали раньше сознания: секира вырвалась из петли на поясе и врезалась с чавкающим звуком в червленый кругляш, валявшийся на полу пещеры. Магазин от автомата «Суоми» развалился под молодецким ударом, патроны латунными змейками разлетелись по всему помещению.
Торвал перевел дух. Надо поскорее убираться из этих храмов, от этой странной богини, от этого лютого мороза.
В стене пещеры зияла открытая дверь. Она могла вывести его из пещеры, где хозяйствовала статуя той, которая виновна во всех его последних неудачах, да и в удачах, правда, тоже. Торвал еще раз хлопнул себя по поясу, убедившись, что мешок серебра не оказался мороком.
Для того чтобы пройти по подземному лазу, викингу не понадобилось огня, хотя ночь все сильнее заявляла свои права. Все складывалась бы совсем даже неплохо, если б на выходе его не ждал неприятный сюрприз: у саней под елью сидел незнакомый человек с темными кругами под запавшими глазами.
Торвалу он показался крупным мужчиной в теплом тулупе, но безо всякого оружия. Не обращая внимания на непонятные вопросы невооруженного туземца, Торвал деловито закрыл крышку люка и припорошил швы иголками ели, маскируя лаз. Выход из капища выглядел старым, а значит, нечего о нем никому знать. Чем пригодится эта пещера ему в дальнейшем, викинг не ведал, но верил, что сумеет извлечь из этого выгоду.
Кмет в тулупе что-то повелительно рявкнул. Торвал обернулся.
Странный больной мужик что-то требовал от него, размахивая железной корявой загогулиной, больше подходящей для колки орехов. Незнакомец явно нарывался на неприятности. Кроме тулупа кмет был одет в войлочные очумки[57] и странный треух. Несмотря на свой явно болезненный вид, из-за которого, видимо, смерд даже не встал перед воином, появившимся из-под земли, туземец все же держался воинственно. Даже пробовал что-то приказать Сигпорсону, выкрикивая команды на ломаном гардариканском наречии. Этот язык Торвал немного выучил за дни учительства в усадьбе ярла Струппарсона.
Кажется, он требовал от викинга поднять руки. Торвал демонстративно положил руку на нож, висящий у пояса, – дурачок должен понять, что разговаривать в таком тоне с человеком войны небезопасно.
Звук выстрела разнесся по морозному лесу на много километров.
Странная горячая боль пронзила грудь Сигпорсона, его рука рванула и метнула нож. Второй выстрел комиссара Красной Армии Бориса Войтмана тоже был точен. Пуля попала в грудь вылезшего из лаза бородатого коротышки-лучника чуть левее первой. Оба выстрела были смертельными для человека, находящегося в десятках километров от ближайшего медпункта. Выстрелы получились великолепны, но комиссар не смог оценить их. Из его глаза торчала рукоятка тяжелого ножа новгородской работы.
Торвал с трудом мог понять, что происходит. Кмет оказался колдуном. Его корявая рогулька продырявила стеганый доспех нурмана, оставаясь в руках теперь уже мертвого мага. Кровь толчками покидала становившееся непослушным тело викинга, а на глаза начала набегать белесая пелена.
Последним усилием он вытянул свою секиру и поднялся навстречу заходящему солнцу.
«Один! Я иду!» Ему казалось, что он проревел это, как свой зычный боевой клич, но только хрип натужно сорвался с непослушного языка. Напряжение тяжелеющих рук и уже ватных ног, потребовавшееся для этого, подорвало остатки сил, и лучник рухнул в снег. Бороду его приятно холодил слежавшийся наст, покрытый мягким свежим снежком, а губы все шевелились, шепча последний клич уходящего в Вальгаллу… Глаза наливались свинцом, снег казался мягкой медвежьей шкурой, на которой так приятно вздремнуть зимними вечерами.
Норвежец уже не видел, как из-за елей, привлеченные звуками выстрелов, вылетели четверо лыжников в белых маскхалатах, обутых в ботинки со смешно загнутыми вверх носами. Второй раз за двадцать четыре часа он прощался с жизнью…
Два дня, до самого Любека, главной темой разговоров на «Одиноком Волке» было колдовское оружие «полочан». То, что после инцидента около Борнхольма Пригодько оставил винтовку себе, а Горовой осваивал «Суоми», только подтверждало слухи, что колдовское оружие слушается одного владельца.
Даже Сила Титович подошел поблагодарить, а Онисий Навкратович, не оригинальничая, предложил купить хоть одну из колдовских палок. Пусть он и не сможет стрелять из нее (а хитрый купец рассчитывал, что дома монахи или волхвы сумеют заставить магическую вещь слушаться нового хозяина), но уж больно вещица редкостная – за такую диковинку и денег не жалко. Когда купец, горячась, довел предложение до пяти новгородских гривен, Сомохову пришлось осаживать разошедшегося русича. Тот никак не мог понять, что «полочане» не торгуются и не набивают цену, а просто не желают расставаться со своим имуществом.
Мимо Руга прошли на удивление спокойно. На море было необычно тихо, так что команда большую часть дня проводила на веслах. Через день подошли к порту назначения.
У причальных мостков качались на волнах около трех дюжин торговых кнорров и снек, десятка четыре рыбацких баркасов да пяток драккаров.
Законодателями мод на Варяжском море все еще оставались скандинавы, хотя и прошли те времена, когда выходцы из Норвегии, Швеции и Дании безраздельно властвовали на всех морских просторах «цивилизованного» мира за пределами Средиземного моря.
Особняком у мостков держались несколько кораблей венецианской республики, а у северной части порта, немного в стороне от других, стояла византийская галера.
Естественным сдерживающим фактором в развитии города была близость порта к границам Северной марки[58], территории языческих славян, по документам входивших в Германскую империю, но на деле упорно не желавших безоговорочно принимать немецкие указы. То, что пять лет назад бодричский князь не сровнял город с землей, было большой удачей. В течение следующих пятидесяти лет Любек дважды разграбят и сожгут, но теперь между славянами и немцами установилось хрупкое равновесие – состояние, которому здорово помогала зимовавшая в Магдебурге императорская армия.
Бьерн Гусак правил «Одноглазого Волка» к свободному месту возле драккаров. Первым на причальный мосток лихо спрыгнул один из дружинников с канатом, но не успел он привязать корабль у причала, как навстречу прибывшим из порта вышла процессия. Впереди ступал важный толстун в бархатном камзоле и в коротком синем плаще с прорезями для рук на плечах. На голове его был надет сложный головной убор: короткую кожаную шапочку, закрывающую все волосы, прикрывал пышный берет с павлиньим пером. Гладко выбритое холеное лицо с аккуратной бородкой и пальцы, унизанные кольцами, должны были указать любому невежде, с каким важным господином тот имеет дело. Для антуража вокруг толстуна крутилась пара клерков помельче, в коротких кожаных курточках, а за спиной топали пятеро портовых стражников, кряжистых бородатых данов в лориках[59] и с копьями в руках.
Навстречу вышел сам Онисий Навкратович, переодевшийся на подходе к порту в свою лучшую одежду: соболью шубу, золотые перстни, шитую золотом перевязь. Богатый новгородец выглядел не хуже подошедшего к «Одноглазому Волку» германца.
– Кто это? – Костя незаметно толкнул близко сидящего к нему викинга Гуннара. Рыжебородый Слоппи Крючок презрительно фыркнул:
– Мытня[60].
Пока купец и таможенник обсуждали на палубе погоду и пиратов, двое мытарей обрыскали корабль, проверили каждый сундук, перетрясли каждый мешок. Для записей они принесли с собой дощечки, покрытые воском, на которых делали пометки об учтенных ценностях. Через полчаса дощечки были переданы чиновнику. Тот удивленно поиграл бровями, почмокал губами и назвал первую цифру таможенного сбора. Любек не любил чужих торговцев. Со временем это выльется в монополию Ганзейского союза, первого профсоюза на берегах Балтийского моря.
Онисий Навкратович вздохнул и пригласил гостя дорогого на корму, чтобы обсудить нюансы. Через двадцать минут таможенник покинул корабль со значительно потяжелевшим поясом, а сумма мыта, необходимая к уплате в казну, сократилась наполовину.
До вечера на корабле побывали несколько местных купцов, предложивших оптом скупить привезенные товары, пару раз приходили земляки из русских земель, зашли знакомые викинги, признавшие в кормчем Бьерна Гусака, а в корабле – судно ярла Струппарсона. К вечеру команда, за исключением пяти дружинников, оставленных для охраны, и двух подручных купца, была отпущена на берег. Свободный город манил своими харчевнями, гулящими девками, азартными играми и возможностью увидеть что-нибудь новое.
По городу было запрещено ходить с оружием, но безоружными большинство дружинников не было. На поясах и в сапогах оставались приторочены длинные кинжалы и ножи, в рукавах спрятаны свинцовые битки на кожаных или суровых суконных шнурах, кистени. Это было хорошее оружие для удара с лету, но в тесной корчме, заполненной народом, размахнуться кистенем было негде, да и эффект от удара битки в крепкие кожушки и просоленные кожаные куртки был невелик, спьяну же попасть в лоб было довольно проблематично. Куда большим почетом пользовались в здешних местах крепкие полутораметровые палки, используемые в обычное время как дорожные посохи. Путешествовать тогда было принято не с пустыми руками, и если у тебя не висит на поясе меч или секира, то уж метровое полено, скромно именуемое дорожным посошком, в руке быть должно. И от собак наглых избавит, и от людишек надоедливых или до чужого добра охочих.
Перед тем как отпустить команду на берег, Онисий Навкратович прочитал лекцию о «правилах поведения за рубежом» и об «особенностях правовой системы Германской империи». За большинство правонарушений полагался штраф от марки до пятнадцати марок. За разбой – повешение, за кражу – отсечение руки. Нельзя было горланить песни на ночных улицах, драться со стражей, будь то стража порта или города, задирать прохожих и иноверцев.
В страже, кроме детей бюргеров и списанных на берег старых вояк из корабельной рати, служили выходцы из Скандинавии, так что, случись инцидент, малой кровью можно было и не отделаться.
После того как купец настращал команду, «полочане» выходить всем вместе в город посчитали опасным. Так как за оружие их винтовки и револьверы никто не принимал, взяли с собой револьверы Горового и Малышева, оставив на судне завернутые в промасленную холщовую мешковину винтовки и автомат. Кто-то должен был остаться, во-первых, при арсенале, а во-вторых, на случай, если остальные влипнут в неприятности. Бросили жребий на соломинках, и Малышеву досталась короткая. Он поскрипел зубами, повздыхал, но принял выбор фортуны.
В кабаки, двери которых выходили сразу на набережную, заходить не стали. У этих мест была самая дурная слава, а закончить «экскурсию», не увидев города, не хотелось. После небольшого совещания была принята программа посещения славного города Любек: пройтись до центра к рынку и дому бургомистра, погулять по лавкам в торговом квартале, отведать немецкого пива – и назад, на корабль. Гидом уговорили «поработать» одного из викингов ярла Струппарсона, Хругви Сивого. Побывавший за свою долгую жизнь во всех портах и городах Балтийского моря, старый мореход легко ориентировался в порту и за его пределами. За «полочанами» увязался молодой Бьертмар Ложка, прозванный так за свою серебряную ложку, которую он носил за поясом. Он впервые выехал за пределы Хобурга и тоже нервничал, предвкушая возможные приключения.
Вылазку в город, в отличие от первоначального плана, пришлось начать с посещения прибрежной харчевни «Селедочный хвост» – Хругви не признавал прогулок на трезвую голову. Утолив жажду парой кружек мутного крепкого пойла, отдаленно напоминавшего портер, команда «Одинокого Волка» двинулась в город.
Средневековый город предстал перед ними в полном «великолепии».
Улочки около порта были застроены двухэтажными деревянными зданиями, нередко с покосившимися крышами и выступавшими из окон дымоходами. Низкие каменные фундаменты еле держали на своих плечах расширявшиеся кверху деревянные надстройки, которые нависали над пешеходами и конными, пробирающимися по улицам между кучами отбросов и испражнений, лишь изредка вычищаемых изгоями-золотарями. Кривые и узкие проходы, в которых частенько было невозможно и телегам разъехаться, тянулись до торговой площади, едва превосходившей размерами спортивный зал средней школы двадцатого века. По дороге русичи постоянно переступали через потоки вонючей жижи, несшей бытовые отходы, которые вываливались горожанами в узкие желоба вдоль дорог – местные аналоги канализации. Периодически приходилось перепрыгивать через обильно рассыпанные «конские яблоки» и зажимать носы от стойкого запаха, исходившего от куч нечистот.
Дело шло к вечеру. В окружающих домах начинали топить печи, так что к запаху мочи и гниющей рыбной требухи, витавшему в воздухе, добавился дым из низких печных труб. Похоже, не привыкшие к атмосфере «большого города» приезжие своим поведением сильно бросались в глаза окружающим – несколько раз Сомохов замечал презрительно поджатые губы у проходящих.
Одето население Любека было весьма разнообразно. Особенно хорошо нюансы местной моды были заметны на рынке, где можно было встретить и купцов, и немецких рыцарей, и духовенство с зажиточными ремесленниками вперемежку с крестьянами-ваграми и суровыми бодричскими воинами местного гарнизона, щеголявшими длинными, заплетенными в косы волосами и языческими синими татуировками.
До времен, когда шелк придет в массы, оставались еще века. Кто был познатней и побогаче, тот красовался в бархате и парче, нередко расшитой крупными аляповатыми рисунками. Кто победней – носили кожу, цветное сукно. Низшая часть общества рядилась в порванные холщовые некрашеные тряпки, подпоясанные веревками балахоны и рубахи до пят. Мужчины были одеты в разнообразные плащи и накидки длиной не выше колен. Многие носили еще и легкие длиннополые безрукавки, отороченные мехом. Большинство было подпоясано ремнями с медными, посеребренными или стальными бляхами. На ногах помимо штанов разной длины, у которых правая и левая части крепились к поясу отдельно друг от друга, встречались у редких индивидуумов и варяжские цельно скроенные варианты этого вида одежды. Модники из школяров и подмастерьев щеголяли в ярких коротких панталонах, одетых на толстые шерстяные чулки и подвязанных ремешками. Из обуви предпочтение отдавалось невысоким кожаным сапожкам с цветными шнурами или удобным мягким кожаным ботинкам на деревянной подошве.
Редко встречающиеся на улицах дамы из высшего сословия походили на магазинные стойки для одежд, перегруженные продукцией. Женские платья, как и мужские, были до пяток. В крое нарядов практически не выделялась талия, а у тех, у кого можно было ее все же предположить, сверху обязательно была надета еще и накидка без рукавов с меховой или просто яркой оторочкой, придававшей обладательнице очарование тумбочки. Вся поверхность тела была закрыта: перчатки, балахоны, платье, шали. Даже шею и подбородок укутывали платки, заправленные в головные уборы таким образом, чтобы скрыть волосы и лоб. Впрочем, шаль, укутывавшая подбородок и нередко нос, имела и практическое назначение, служа обладательнице прообразом марлевой повязки и защищая от окружающих запахов. Общий костюм дамы одиннадцатого века очень напоминал одежду стран победившего ислама двадцатого века. Открытыми руками, шеями и волосами могли похвалиться только гулящие портовые девки и редкие городские проститутки.
Таким образом, разглядывая и оценивая красоты цивилизации Германской империи и перепрыгивая через продукты ее жизнедеятельности, путешественники и подошли к дому бургомистра. Каменное здание с внутренним двориком и высокими окнами первого этажа производило впечатление маленькой крепости. При подходе к центру города такие здания начинали встречаться все чаще, что говорило о растущем благосостоянии местного населения, но дом бургомистра был еще и своеобразным общественным центром. Глава городского совета страдал подагрой и нередко занимался делами и принимал просителей дома. Подходы и подъезды были тесно заставлены телегами и подводами приехавших на аудиенцию, а у самого внутреннего дворика толпилась разномастная группа, включавшая представителей всех торговых сообществ Любека. Поглазев на оригинальные наряды собравшихся и оценив тюрбаны мусульманской Гренады, шали рахдонитского Прованса, тоги византийцев и кунтуши угров, «полочане» двинулись к торговому сердцу будущего оплота Ганзейского союза – рыночной площади.
Остаток дня до начала сумерек потратили на осмотр товаров, широко представленных на лотках и тележках торговцев. Оценив яркое сукно немецкого производства, посуду, изделия местных кожемяк и пропустив ряды с едой, напоследок русичи заглянули в лавки оружейников, выходившие на торговую площадь. Здесь было на что поглядеть: серебристые и червленые кольчуги, нюрнбергские и испанские доспехи и шлемы различных форм, щиты, мечи, копья и арбалеты, которые запретят на Втором Латеранском соборе через сорок шесть лет как Deoodibilem[61], но будут свободно продавать для битв с еретиками. Тысячи мелочей, необходимых добрым христианам, чтобы отправлять на тот свет других добрых христиан, а ежели получится, так и язычников, – все радовало глаз и грозило разорением кошельку прохожего.
Пощупав и приценившись к шлемам немецкой работы, Горовой только вздохнул, сопоставив запрашиваемые суммы с количеством денег в общественной кассе, лежавшей в кармане у Сомохова. За хороший шлем-ведро просили почти марку, а тонкое блюдце с ремешком покупать не лежала душа. Да и шлем пришлось бы ждать долго, так как размера, способного налезть на голову Захара или Горового, у торговцев не было.
Отойдя от оружейного ряда, «полочане» вняли зудежу Хругви, уставшего таскаться по рынку и жаждавшего приключений большого города. Свернув с основной улицы в тупичок, лихая команда «Одноглазого Волка» нашла пристанище для своих пересохших глоток в кабачке «Бочка и Седло», главный вход которого, в традициях безграмотной Европы, украшала громадная бочка с напяленным на нее седлом.
Сей булдырь был типичным заведением того времени, совмещавшим харчевню и постоялый двор с комнатами для приезжих на втором этаже да конюшней во внутреннем дворике. К тому же это был своеобразный клуб для окрестного зажиточного населения, поэтому пропойц, которых, естественно, знали в лицо, старались не допускать даже на порог.
Вечером в кабачке было шумно и многолюдно. Купцы, ремесленники и почтенные горожане спешили отметить окончание удачного дня и вкусить радость общения. Аппетитно шкворчал на вертеле в большом очаге свиной окорок, весело стучали в углу зала харчевни кости. Почтенные жители и гости города Любека отдыхали от тягот будней.
Хругви, бывавший тут ранее, заказывал за всех. Платил, правда, Сомохов. На стол подали пару кувшинов все того же мутного пойла, гордо именуемого пивом, две тарелки вареной рубленой свеклы, приправленной сыром, плошку вяленых рыбин, большой ломоть копченого сала и каравай ржаного хлеба. Трое русичей и парочка скандинавов оккупировали угловой стол, и началось то, что в понимании Хругви Сивого означает «веселье». За полтора часа служка трижды подносил полные кувшины, пока не догадался принести и оставить весь бочонок. Как всегда, сначала сотоварищи прошлись по продуктам питания, а насытив голод, нагулянный по улочкам Любека, приналегли на местный алкоголь. Особенно лихо за это дело взялись викинги. Уже через час молодой Бьертмар пускал пузыри, посапывая в углу, а Хругви пробовал петь старую шведскую сагу о ссоре Старкада[62] и великанши Ран[63]. Получалось плохо, но Хругви лихо отстукивал такт кружкой по столу.
В углу харчевни, где играли в кости, пару раз вспыхивали перебранки, но в целом в заведении царила мирная атмосфера коллективной попойки.
Захар впервые попал «за границу», и его молодой пытливый ум переполняли впечатления.
– А что, Улугбек Карлович, все большие города здесь такие вонючие? – волновался сибиряк.
Сомохов покачал головой:
– В Европе, пожалуй, все. Систему канализации, которую изобрели и строили в своих городах еще римляне, эксплуатируют только там, где она осталась. В основном, по городам вдоль улиц сделаны стоки, которые работают только тогда, когда идет дождь.
– То-то ж они грязюку развели, смотреть тошно, – проворчал Горовой.
Пригодько поддакнул:
– Точно. Да ладно бы только улицы. – Он понизил голос и махнул руками в сторону зала: – Так ведь и сами смердят, как козлы бородатые.
Сомохов усмехнулся:
– Ну, мыться Европа еще долго не будет.
Словно в подтверждение разговора, к столу подвалил пьяный в стельку ремесленник. Он что-то радостно промычал и, размахивая деревянной кружкой с пивом, уставился на русичей, ожидая реакции. Те молчали. Не дождавшись, немец разочарованно сплюнул и вернулся к своему столу.
– Что хотел-то? – Горовой повернулся к Сомохову, как к единственному в компании, кроме пьяного Хругви, понимающего немецкий.
– Да спрашивал, видели ли мы город краше, чем Любек? – Сомохов улыбнулся.
Горовой осклабился, хлебнул пива и философски заметил:
– Кажный сверчок хвалит свой шесток.
Хмельной Захар покачал головой:
– А по мне, так и пусть, что смердят, а все равно любо. – Он повел руками в сторону города. – У нас вот, в Хобурге в том же, землянки да срубы в елку, а тут и каменные дома, и рынок с иноземцами, и лавки с товарами диковинными.
– Не видел ты городов больших на Руси еще, Захар, – проговорил Улугбек. – Русь же викинги как зовут? Гардарикой, землей городов. А почему? Что они, городов во Франции или Германии не видели? Нет! Тот же Новгород да Киев и покраше, и посильнее здешних столиц будут.
Пригодько пожал плечами:
– Ну, извиняй, Улугбек Карлович. Я ж, как с Подзерска моего в армию меня-то забрали, так, почитай, городов-то и не видел… С заимки, мать их, на факторию шел. Ранней-то дед ходил, а зимой помер дед. Я и пошел, а меня… Из фактории в военкомат да в армию… А потом с вами сюда вот…
Сотоварищи замолкли.
Каждый что-то оставил в своем времени. На фоне впитанного в кровь выпитого пива мысли становились туманными и расплывчатыми, но зато более эмоциональными и душевными. Горовой, тучный здоровяк с обветренным лицом, вспоминая своих деток, даже хлюпнул носом.
Вывел их из молчаливого ступора Хругви. Он на минутку прикорнул в уголке, но, как только «полочане» замолкли, проснулся и, оценив траурное затишье, начал по новой свою песню, громко бухая деревянной кружкой по столу.
Захар очнулся от воспоминаний первым:
– Ну, за деда моего. Знатный дед был. Пусть земля ему будет пухом, а душе – прощение…
Сотоварищи, не чокаясь, подняли кружки и выпили под заунывную песнь Хругви Сивого.
Снова возникла пауза, которую прервал ученый:
– Кстати, давно хотел вас спросить, Тимофей Михайлович, отчего ваш акцент кажется мне таким нетипичным для малоросса? Вроде и русский, но не такой. Похож на украинский, но ведь тоже не совсем правильный?
После секунд десяти чесания заросшего затылка и поскребывания уже отросшей бороды, подъесаул выдал свою версию ответа на интересовавший археолога вопрос:
– Шо-гло, слова… акцент… Так эта… Дед у меня, значит, из-под Витебска был. Там сяло есть, Глыбокае, знатнае сяло, а насупратив – веска Путраница. Вось он оттуда в шахты на заработки шел, уголь, значит, копать. А по дороге к прадеду моему, значит, и заглянул. На Дон, знамо дело. Как он туда попал – то отдельна справа… Вот… В парабки[64] там пошел, или еще как, то не знаю, а только остался он и на единственной дочке женился. Так прадед его в реестровые и записал. Тятьку, знамо дело, тож в реестровые. Так что на хуторе, когда я родился, я дедом и воспитывался. Тятьку-то, царствие ему небесное, за месяц до моего рождения на кордоне зарубали, а мамка моими родами да и померла. Вот и поднабрался, видаць…
Было видно, что казаку неприятно вспоминать, но он искренне старался объясниться.
– Так шо, так вот… Дедку меня, как мог, воспитау, а шо размовляю неяк не так, так то мне многие казали… А шо мне? Все разумеюць, и добра. – Горовой облегченно выдохнул. – Я в академиях не учився, а на плацу дык кажу так, шо усим все разумела! О!
Сомохов кивнул.
– Понятно. Трясянка[65], так сказать.
– Га? – не понял опять Горовой.
– Ничего, любезный. Все абсолютно нормально. Легкая смесь наречий, а то я думаю, что это у вас за странный диалект? То ли малоросский, то ли еще какой? Теперь-то понятно.
Тимофей Михайлович кивнул:
– Ну, понятно, так и добра. Наш командир гэту мову балачкай кликау.
…Еще через час, когда служка уже прикидывал, не стоит ли заменить бочонок на новый, Горовой нагнулся к Сомохову и, обдавая перегаром столь же нетрезвого ученого, прошептал:
– Глянь-ка ты, Улугбек Карлович, на того шныря, что в углу каля двери пивко потягивает.
Сомохов сфокусировал взгляд в нужном направлении. До времен, когда в нормальных кабачках к ночи под потолком будут скапливаться тучи табачного дыма, Европе оставалось еще веков пять, но и без курения в зале было так душно, что можно было вешать топор на воздух. Дым из кухни и от очага и испарения скапливались под потолком, создавая легко узнаваемый пьяный чад.
Улугбек всмотрелся в типа, на которого указал Горовой. По виду – обычная портовая шваль. Маленький, тщедушный человек в коротенькой безрукавке сидел и тянул небольшую кружку какого-то пойла, пряча в ней свой крючковатый нос. Кожаная шапочка с завязками практически закрывала лицо, а плащ был откинут назад. На поясе не было ни кинжала, ни приметного кошеля.
Сомохов повернулся к Горовому:
– Ну?
Тот так же шепотом добавил:
– Я этого субъекта заприметил, еще когда мы из порта шли. За нами хвостиком плелся, казалупка. – Горовой перевел дух и отхлебнул пива. – Как в шинок зашли, то этот зник, а зараз знову пришел.
Сомохов отмахнулся:
– Ну, может, соглядатай портовый какой. Или просто карманник.
Горовой покачал головой:
– Так что ж за нами-то топать? – Он махнул рукой. – Окрест хватает и побогаче, и пожиже людишек.
Улугбек напрягся. Если очень постараться, даже в самом алкогольном угаре, можно заставить себя протрезветь на доли секунды. Главное, не растерять эти мгновения на ерунду, а потратить с пользой. Улугбек обрел способность мыслить если не трезво, то взвешенно.
Были они здесь чужие, а неприятности могли получить свои. Кем бы ни был соглядатай, интерес к собственной персоне со стороны незнакомцев практически всегда несет опасность, будь то интерес карманника, ночного грабителя или другого какого представителей любителей легкой поживы.
А силы коллектива таяли обратно пропорционально степени опьянения его участников.
– Собирайся, Тимофей. Будем выходить, держи руку на револьвере.
Когда Хругви и Захар совместными усилиями растолкали прикорнувшего Бьертмара, расплатились с корчмарем и двинулись к выходу, Сомохов посмотрел на место, где сидел мужичок, вызвавший опасения у Горового. Тот исчез…
Обратная дорога к порту заняла меньше времени. Город уже спал, хотя был еще добрый час до звона колокола, возвещавшего полночь и отмечавшего момент, когда ночная стража могла задерживать праздношатавшихся гуляк. До обычая устанавливать уличные фонари еще оставались долгие века кромешной темноты, так что единственным светом в наступивших сумерках служили скупые лучи молодого месяца.
Члены команды «Одноглазого Волка» шли к родным бортам драккара. Свежий воздух слегка протрезвил сонного Бьертмара, и Хругви втолковывал молодому викингу на норвежском, что негоже молодым перед какими-то торгашами варягов ославливать. Не можешь пить – не пей! Но падать на стол и спать, когда напротив тебя еще на ногах стоят, викинг «не могет».
Бьертмар вздыхал и послушно кивал головой.
До порта оставались только улочка да переулочек, когда навстречу из темноты закоулка вышли шестеро бородачей. Хругви только радостно хмыкнул при взгляде на людей, загораживающих ему дорогу. Но тут сзади захрустел раскиданный мусор. Отрезая отход их пьяной компании, из подворотни появилось еще пятеро хмурых бородатых типов. Незнакомцы были одеты в нестираные холщовые обноски и разномастно вооружены. У большинства были короткие дубинки, у вожака, стоявшего впереди, блестел длинный кинжал, у других – короткие копья, а один даже поигрывал заряженным арбалетом. По сложению они тоже различались, как доски в заборе у нерадивого хозяина, – от хилых коротышек до толстых увальней. По сравнению с пришельцами из двадцатого века нападавшие казались заморышами, хотя и вооруженными.
– Ну, гости дорогие. Давайте-ка сюда ваши кошели да портки скидывайте. – Вожак ночных грабителей явно бравировал. Странную смесь немецкого и норвежского, на котором здесь принято было изъясняться, русичи, за исключением Сомохова, понимали с пятого на десятое, но в смысле сказанного трудно было ошибиться.
Хругви еще раз хмыкнул, а Бьертмар с открытой насмешкой разглядывал налетчиков. Даже с учетом того, что корабельная рать была пьяна в стельку, пятеро дружинников легко могли разметать десяток портовых крыс.
– А не пошарил бы ты, сморчок, по своим кошелям да не скинулся бы славным мирным мореходам на утренний кувшинчик? – Хругви взял переговоры в свои руки.
Впрочем, переговорами это назвать было трудно. Высказав предложение главарю грабителей, Сивый скользнул к нему и, легко отведя нацеленный в грудь кинжал, нанес вожаку бандитов удар кулаком в кадык.
Пока тот, сипя на мостках улицы, пробовал восстановить способность дышать, Хругви уже крошил черепа и конечности портовой швали. Он легко уклонился от арбалетной стрелы, перехватил в воздухе копье и, используя его как дубинку, гонял ночных «джентльменов удачи».
На другой стороне улочки орудовал посохом Бьертмар.
Горовой, в начале стычки потянувший было из кармана револьвер, вспомнил молодость и рванул в гущу боя. За ним с радостным воем: «Наших бьют!» – влетел Захар, чьи кулаки хоть и уступали пудовым лапищам подъесаула, зато летали с большей скоростью. Численное преимущество было компенсировано физическим превосходством и выучкой викингов, которых с двухлетнего возраста обучали драться с оружием и без. Кроме того, их еще и хорошо кормили всю жизнь, в отличие от субтильных отбросов Центральной Европы, в рационе которых и мясо-то было только по большим праздникам.
Через тридцать секунд все было кончено. Последние из нападавших, способные стоять на ногах, мелькая босыми пятками, разбежались, а на земле ползали и корчились, а где и кулем лежали семеро разбойников. Наподдав напоследок ногой по роже главаря, Хругви мечтательно закатил глаза и, отрыгнув, высказался:
– Ну и славное веселье нонче закатили!
После чего ночную тишь Любека разорвала удалая веселая песня о Сигурде, отымевшем дракона[66]. Предупреждения Онисия Навкратовича были забыты. Через секунду соло Хругви превратилось в дуэт – песню поддержал Бьертмар.
У скамеечников «Одноглазого Волка» ранения были из разряда пустяковых – ссадины да порез на руке у Захара, угодившего под копье.
Ввалившись на корабль под песню, «полочане», не вдаваясь в объяснения Малышеву, завалились спать.
Легенда о том, как портовая шваль спутала корабельную рать с купеческими приказчиками, еще долго гуляла по портам Варяжского моря, вызывая улыбки у слушателей.
…Ни «полочане», ни викинги не заметили, как всю схватку в проулке в тени за спинами нападавших простоял кряжистый бородач в полной кольчуге и с саксонской секирой[67] за спиной. Когда стало ясно, что ночные налетчики будут биты практически голыми руками, он усмехнулся и покинул место боя.
Через четверть часа бородач вошел в дверь захудалой харчевни, прошел мимо стойки на второй этаж и вошел в комнату, где его уже ждал, развалившись на скамье, тот самый плюгавый человечек, что вызвал такие опасения у Горового в «Бочке и Седле».
Вошедший окинул взглядом сидевшего мужичонку и выдавил из себя:
– Ты ошибся, Мисаил.
Сидящий поперхнулся вином и укоризненно ответил бородачу:
– Я же просил вас, господин Олаф, не называть меня Мисаилом. Мое имя – имя доброго христианина: Михаил.
Вошедший прошел мимо Мисаила-Михаила, грузно сел на скамью и залпом выпил остатки вина из стоявшего на столе кувшина.
– Мне насрать, как тебя сейчас называют. Хоть и Рафаил. Ты стал дуть на молоко. Я из-за тебя протаскался в полной броне полночи.
Мисаил пропустил оскорбления мимо ушей… Даже не удосужившись изобразить обиду.
– Ну и?
Олаф покрутил пустым кувшином, поднял его и вытряс себе в глотку еще пару капель.
– Что ну? Это обычные бродяги. Варяги. Бьются, как варяги, орут в бою, как варяги, даже песни потом вопят те же, что и парни из моего хирда. На колдунов похожи, как волк на корову. Никаких бесовских штучек – разметали шваль, что ты набрал по порту, одними кулаками, ругаясь при этом, как ругаются во фьорде, где я родился и вырос.
Сидящий Мисаил замахал руками и, картавя, начал возражать:
– Это и не значит ничего. Они из Хобурга, они высокие, бороды короткие, как будто брили на византийский манер, а что кулаками машут, так и угроза невелика была. Мастер Пионий приказал быть внимательными.
Олаф вздохнул:
– Дурак ты… Но, может, и прав насчет бород. По мне, так варяги – варяги и есть, а что бороды коротки – так не растут, может. Да и пятеро их, а не четверо, и по-нашему ругаться горазды.
Мисаил не унимался:
– Все равно – убить. Убить при первой возможности.
Олаф отмахнулся:
– Да что ты заладил: убить да убить. Иди и убей, раз такой смелый.
Секунду нурман покачал головой, потеребил бороду и продолжил:
– Говоришь, они до Хомбурга и на Магдебург пойдут по земле? – Олаф еще секунду подумал и стукнул кулаком о собственную раскрытую ладонь. – Что ж. Тут и узнаем.
Олаф повернулся с Мисаилу:
– Прибьешься к обозу. Пооботрешься, разведаешь. Если и вправду обычные викинги, то из Хомбурга – птицей сюда. Через десять дней хирд идем встречать на Руг и в Хобург. Надо выполнить приказ мастера и снести этот городок с лица Гардарики.
Мисаил сжался под тяжелым взглядом собеседника, но нашел силы пискнуть:
– А если все-таки… – Он исподлобья зыркнул на грозного викинга. – Если я прав и это колдуны?
Олаф дернул плечом:
– Тогда доложишься в Магдебурге мастеру Пионию. Он сам с ними разберется.
Мисаил закивал:
– Мастер Пионий может все. Он управится… Вот только…
Он замолчал. Нурман заметил паузу и вопросительно примолк. Мисаил прогнусавил:
– Только я приметен больно. Думаю, они меня заметили. Как бы не зарезали.
Олаф ухмыльнулся. По его лицу было видно, что такое развитие событий его не пугает. Мисаил продолжил:
– Пускай лучше Равула идет с язычниками.
Бородач еще шире осклабился, задумчиво окинул взором согнутую фигуру сидящего напротив, выдерживая паузу, почесал живот… Но возражать не стал.
– Может, и верно. Пускай идет. Заодно передаст мастеру Пионию, что хирд уйдет вовремя.
Мисаил громко выдохнул и захихикал:
– За такое и выпить не грешно.
Из-под стола вынырнул пузатый кувшин с вином. Грозное, порубленное шрамами лицо Олафа просветлело. Все решения были приняты, и наступила пора отдыха.
С утра Онисий Навкратович был зол. Едва только солнце вылезло на небосвод, по мосткам, ведущим к «Одноглазому Волку», притопала целая делегация: глава портовой стражи с десятком гридней и плюгавеньким портовым клерком явился выяснить, что за моряки устроили ночью настоящее побоище и непотребное распевание песен, потревожившие мирный сон добрых жителей славного Любека? Тон, которым это было произнесено, не сулил славным мореходам ничего хорошего. Но ни претензии, ни хмурое выражение лица главы портовой стражи, поднятого с самого утра, не напугали новгородского купца.
– Что ж это получается, господин капитан? – веско и размеренно начал новгородец свою ответную речь. – Значит, мои людишки задирать кого по ночам начали? Так, что ли?
Глава стражи кивнул головой.
– А что, и жалобщики, пострадавшие от моих людей, есть, наверное?
Капитан портовой стражи задумался. По лбу офицера пробежали морщины. Через полминуты он вынужден был признать очевидное:
– Наин. Нет потерпевших… Но ваши люди оставили лужи крови. – Капитан заводился. – Значит, будут и потерпевшие. Если выжили.
Видимо, собственные аргументы даже ему показались неубедительными.