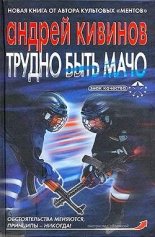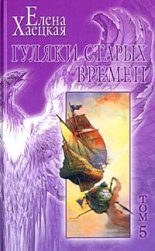Бертран из Лангедока Хаецкая Елена
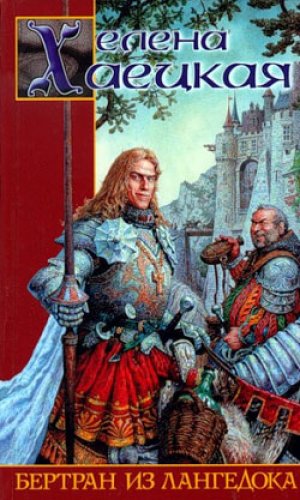
Читать бесплатно другие книги:
Неожиданное счастье, свалившееся на простого паренька, курьера туристической фирмы, оборачивается дл...
Крупный строительный супермаркет «Планета-Хауз» оказывается в эпицентре криминальных событий. На это...
Трудно ли быть богом? Не трудно – противно и мерзко. Диомед, сын Тидея, великий воитель, рад бы оста...
«Сколько раз, – думал Ник, выходя из бара, – я уже и сам об этом размышлял. Правь хоть Аномалы, хоть...
Книга посвящена неразгаданным тайнам русской истории и предыстории, ее языческой культуре и традиция...