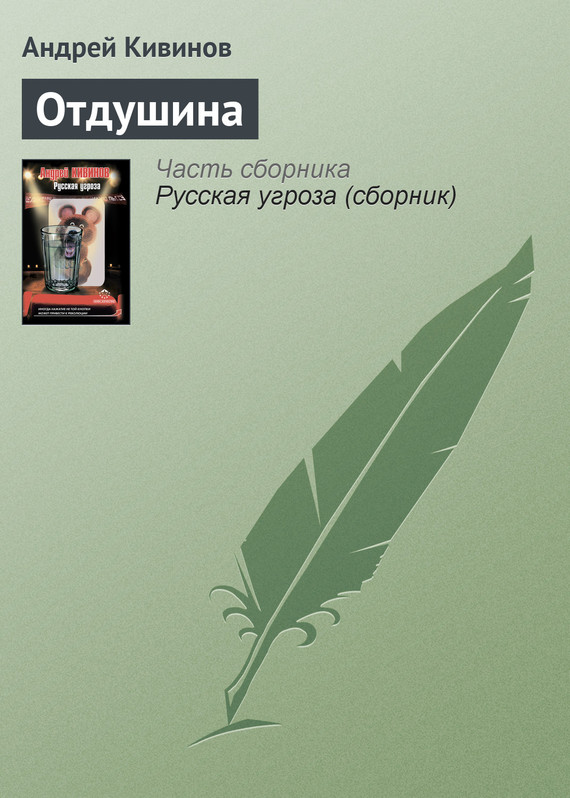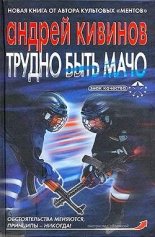Гуляки старых времен Хаецкая Елена
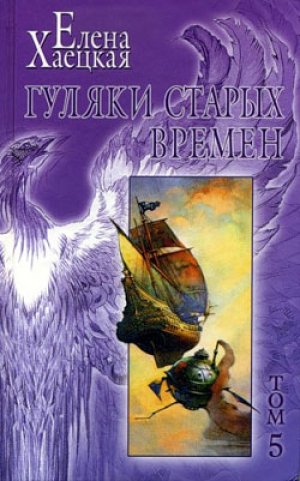
– Да, – промолвил Дофью Грас, незаметно вытирая вместе с пивной пеной тайно пущенную слезу, – это стоило услышать, Сметсе! Благодарим тебя от всего сердца – и пьем за твое здоровье!
– Здоровье Сметсе! Здоровье Ночного Колпака! – грянул недружный, но воодушевленный хор, и оглушительно застучали кружки.
– Превосходно; только какое отношение имеет ко всему вышеуслышанному этот ваш Зимородок? – осведомился Забияка Тиссен, демонстративно вздыхая и отставляя пустую кружку. – Ох, Дофью, Дофью Грас! Ох, старина Дофью! Кому только ты вверил нашу судьбу?
– Я в него верю, – объявил Дофью Грас и с вызовом прикусил зубами трубку. – А если он достойно справится, я лично предложу принять его в наше сообщество.
– Ты еще женщин начни принимать, – не без яда заметил минхер Тиссен, сам не ведая, на какой опасной близости к истине он находится.
Причина, по которой Мохнатая Плешь заминировал подступы к своему жилищу, заключалась в том, что он принимал у себя гостя и не хотел, чтобы им помешали. Гостем этим была та самая Мэгг Морриган, о которой уже упоминалось раз или два в связи с Кочующим Кладом. После того случая она бросила прежнюю работу трактирной служанки и сделалась лесной маркитанткой.
Имелся, видать, у нее особый талант, у этой Мэгг Морриган, потому что не нашлось бы такого заказа, за который она бы не взялась и не выполнила. Зная об этом, Янник Мохнатая Плешь зазвал как-то раз ее к себе, угостил особым суфле собственного изобретения (ингридиенты сохранялись им в строгой тайне), был страшно, почти неестественно любезен – и таким образом вошел к ней в полное доверие.
Зачем-то (этого он и сам не понимал) Янник очень старался понравиться ей. Расстались они в наилучших отношениях, сговорившись напоследок видеться как можно чаще. Янник так ей и сказал при прощании: «Заходите ко мне, милая Мэггенн, как можно чаще». Наутро он вспомнил об этом и помертвел от ужаса. Как представил себе, что она и впрямь к нему зачастит… Бегал по комнатам, стеная, выскакивал из дома – катался по хвое, занозил палец на левой руке… Проклинал себя полутролль страшным проклятием: кто за язык тянул? зачем только поддался минутному порыву? суфле это дурацкое…
К счастью, Мэгг Морриган оказалась умнее, приглашение Мохнатой Плеши всерьез не приняла и в следующий раз явилась только через полгода, когда шок от приступа внезапного гостеприимства у Янника уже прошел.
С этого и началась их настоящая дружба. Мэггенн, натура одинокая и мечтательная, хорошо понимала полутролля. Приходила к нему нечасто и всегда по делу – с каким-нибудь товаром или известием. Это Янник чрезвычайно ценил.
В те скорбные часы, когда Зимородок погибал на болотах, Мохнатая Плешь и лесная маркитантка распивали медовый чай с хрусткими жабьими пряниками и вели неторопливую беседу. Мэгг Морриган доставила в этот раз очень редкую вещь – щепоть пыльцы с крыла молодой бабочковой феи. Такие феи в здешние края, как правило, не заглядывают; большинство из тех, что прилетают, принадлежат к стрекозиному роду. Но Мэггенн недаром обладала даром отыскивать что угодно. Нынешним летом она ушла в верховья Черной реки – как чуяла! – и провела там почти месяц в становище мушиных фей. Дни те ушли, мушиные феи давно снялись с лесной поляны и перебрались в теплые страны, едва лишь потянуло первыми холодами, а Мэгг, взвалив за спину корзину с товаром, направилась в деревню – и вот теперь гостит у Янника.
Ну и сами посудите – хотелось ли Мохнатой Плеши, чтобы кто-нибудь из шастающих по лесу бездельников, да хоть бы тот же Зимородок, притащился сейчас в дом и превратил серьезный, неторопливый, содержательный разговор в беспредметную болтовню, которая у иных болванов призвана служить «поддержанию отношений»!
Мэгг Морриган солидно отхлебывала чай, училась курить трубку, нахваливала пряники и особенно их начинку – нарезанное до тонкости бумаги и прожаренное в масле с сахаром мяско молодой жабы; а между делом – рассказывала.
Табор мушиных фей прилетел в эти края впервые. Обычно они бродят южнее, но тут их согнали с прежних мест куробычки, вот они и перебрались к Черной реке. Другие феи не слишком-то жалуют мушиных – те, всегда чумазые, смешливые, в каждое мгновение готовые оскорбиться и наговорить гадостей, – летают с громким жужжанием и горланят песни на своем гортанном наречии. Кто понимает – те переводить отказываются.
Мушиные феи боятся кукушку, знают прошлое любой вещи и неохотно вступают в общение с чужими – разве что щипнут исподтишка.
А Мэгг Морриган спала на поляне и вдруг проснулась от жужжания мушиных крыльев и приглушенного хрипловатого смеха. Увидела рядом с собой загорелые почти до черноты лица, глазищи в полтора раза больше человеческих, острые длинные носы и маленькие губки, вытянутые трубочкой, как для поцелуя. В зеленовато-черных волосах было понатыкано цветов – частью уже увядших. Феи разглядывали спящую девушку и пересмеивались.
– Мы-то сперва решили, ты из наших, – объяснила одна из них лесной маркитантке. – Люди, бывало, ловили нас и отрывали нам крылья, за это мы страсть не любим людей…
– Да нет, у меня никогда не было крыльев, – призналась Мэгг Морриган.
– Все равно, ты на нас похожа! – закричали мушиные феи и запрыгали рядом, тряся многослойными, лохматыми своими одеждами.
Мэгг села, похлопала по своей корзине.
– Здесь у меня много доброго товара! – сказала она. – Ленты, платки, зеркальца… Вам понравится.
– У, у! – загалдели мушиные феи и потащили ее в становище.
Целый месяц Мэгг Морриган сладко бездельничала там – кормилась за разноцветные ленточки, а пыльцовым вином ее поили за просто так. Слушала песни, сама научилась одной или двум.
Там-то и встретила она бабочковую феечку – совсем юную. Крылья у нее – как у простой капустницы, беленькие с черной сеткой. И лицо милое. Влюбилась в смуглого глазастого красавца и с ним сбежала, бросив родных, – пошла за любовью, как поступают все феи. Она была всегда немного грустная. Мэгг Морриган подружилась с нею, насколько обыкновенная женщина вообще может дружить с феей.
Янник слушал с неослабным вниманием. Сердечные тайны фей его, правда, занимали мало, зато все остальное… Правда ли, что мушиные умеют отводить человеку глаза? Правда ли, что они всегда видят, едва взглянут, каким будет человек или вещь перед смертью и оттого никогда ничего не рисуют и себя рисовать не позволяют? Правда ли, что они отрезают своим деткам, едва те родятся, мизинчик на левой ноге, потому что верят, будто этим мизинчиком живое существо уже стоит на краю могилы? Кстати, действительно ли мушиные живут благодаря этой операции вечно? И если да, то нельзя ли отрезать мизинец уже в зрелом возрасте – или придется жертвовать целой ногой?
Уже и последний пряник был съеден, и пыльца пересыпана в особый сосудик, и лучина запылала в клюве у медного горбатого журавля, стоящего на одной ноге в тазу с водой, и по этой воде заходили красные круги от огня, – а беседа старых друзей все тянулась, такая неспешная, такая подробная, сущее наслаждение.
За окнами таинственно синел снег и чуть шевелилась тяжелая еловая лапа. На ней выделялись шишки, похожие на огурцы, – как будто их нарочно там повесили.
В самый спокойный час, когда день уже отдал все свои долги и в тишине доживал отпущенные ему минуты, за этим волшебным окном вдруг раздался отчаянный воющий крик. Мэгг Морриган заметно вздрогнула. Янник пожал плечами.
– Наверное, какой-нибудь болван на арбалетную стрелу нарвался, – заметил он неохотно. – Сиди спокойно, Мэгг. К утру околеет – сходим, посмотрим.
Мэгг Морриган решительно накрыла его ладонь своей.
– Нет, Янник, друг мой, так не годится, – сказала она, стараясь говорить спокойно и ласково. – Что ты, в самом деле! Ведь это живое существо. Оно страдает.
– Невелика потеря, кто бы ни был, – заворчал Янник и с досадой стукнул по столу ладонью. – Эх, вот гады! Передавил бы всех!.. Вечно им надо припереться и все испортить.
– Да ладно тебе, – примирительно улыбнулась Мэгг Морриган. – Пойдем лучше, глянем, кто это попался. Вдруг что-нибудь интересное.
Едва только она это сказала, как – словно бы в подтверждение ее слов – к окну из темноты приклеилась растопыренная пятерня, а затем, снизу, поднялось белое лицо с выпученными глазами.
– Впустим? – просительным тоном произнесла Мэгг Морриган.
– Я был о тебе лучшего мнения, – хмуро сказала Янник и отвернулся.
Мэгг Морриган поднялась со своего места и скользнула к двери мимо насупившегося хозяина. «Припадочная», – проговорил он сквозь зубы.
Мэггенн приоткрыла дверь, и сразу в дом ворвались, разрушая теплое очарование очага, чайного запаха, беседы – морозный воздух и звериный дух чужого страдания. Лесная маркитантка едва не упала, когда человек с тонким древком в плече повалился прямо на нее. Он разевал рот неестественно широко и как-то криво и тоненько завывал.
Янник вскочил и забегал по комнате, колотя себя кулаками по плеши.
– Жаба! Пузырь! Бегепотам! – восклицал он.
Не обращая на это внимания, Мэгг Морриган втащила в дом незнакомца, ногой прихлопнула дверь, а после припечатала крепкую длань к его щеке и таким образом разом привела его в чувство. Он поморгал и взглянул осмысленно.
– Янник? – спросил он у Мэгг Морриган.
– Почему? – удивилась Мэгг Морриган.
Едва не своротив журавля, к ним подскочил полутролль и завопил:
– Я, я – Янник! Не видишь, что ли? Глазеть явился? Глазеть? Глазей!
– Я сяду, – молвил Эреншельд и тихо опустился на стул.
Янник опять начал метаться из угла в угол. Некоторое время все трое молчали: Мэгг Морриган – разглядывая пришельца, Янник – избывая тоску от вторжения, а Эреншельд – превозмогая боль и острую обиду.
Затем Эреншельд сказал:
– Я лучше лягу.
Одним прыжком Мохнатая Плешь оказался подле него, нагнулся над гостем и заорал:
– Нет!
– Ну, хватит, – оборвала Мэгг Морриган. – Приготовь ему лежанку. Сам виноват. Наставил кругом арбалетов.
– Лучше б ему в лоб попало, – сказал Янник. – Мы бы и не узнали. Спокойно допили бы себе чай и легли спать. И нечего вокруг моего дома шастать.
– Зимородок, – сказал Эреншельд. – Друг Янника.
– Ты убил его? – осведомился Янник и поджал губы.
– Наступил на гриб… – продолжал Эреншельд. – Он послал меня сюда. Он сказал, что Янник – его друг.
– Зимородок наступил на гриб? – переспросил Мохнатая Плешь, явно не веря собственным ушам. – И все? И ради этого ты притащился сюда? Сообщить мне о том, что Зимородок наступил на гриб? – Затем он на мгновение замер, и тут на его физиономии начал проступать ужас. – Зимородок… наступил на гриб? – повторил он в третий раз совершенно другим тоном.
Мэгг Морриган тем временем рылась в своей корзине. Там, на дне, приглушенно и зловеще звякали завернутые в тряпицу инструменты – щипцы, тонкий нож. Эреншельд следил за ней, кося глазами.
– Брось его! – заорал неожиданно Янник. – Подождет! Подай мне это, дай мне то, сними с полки, вынеси из подпола!
Он размахивал руками, указывая сразу в десятках направлений, так что казалось, будто число конечностей у полутролля увеличилось в несколько раз; а основной парой рук он перетирал в яшмовой ступке подаваемые ему интгридиенты. Пестик стучал и бился о стенки сосуда, а иногда, при особенно тщательном нажиме, вдруг производил скрежет, и тогда на губах Янника вырастала зверская ухмылка.
– Эй, была не была! – ухарски крикнул Янник и отправил в зелье драгоценную щепотку пыльцы, привезенную лесной маркитанткой. – Для друга ничего не жаль!
Мэгг Морриган села, сложив на коленях руки. Склонила голову набок. Янник уже умчался в сени и там грохотал лыжами.
– Пересыпь в мешочек! – вопил он ей из темноты. – И принеси мне сюда лампу!
– Где у тебя лампа? – спросила Мэгг Морриган.
Из сеней на мгновение высунулся Янник. Короткие волоски на его плеши стояли дыбом, глаза вращались, из широко раздутых ноздрей заметно шел пар.
– Дура! – проскрежетал он и скрылся.
– Ты же сам посадил там гриб! – сказала Мэгг Морриган.
– Но я ведь не знал, что это будет Зимородок! – ревел полутролль, сражаясь с лыжами и санями, которые норовили упасть ему на голову с полки в темных сенях. Снова послышался грохот. – Кроме того, я посадил его летом! С тех пор я о нем и думать забыл!
– Это все из-за раннего снегопада, – вдруг проговорил Эреншельд. – Никто ведь не знал, что выпадет снег.
Мэгг Морриган подошла к окну и выглянула. В ярком лунном свете на тропинке перед домом стоял Янник – на лыжах, мрачный. Мэгг Морриган постучала пальцем по стеклу. Полутролль обернулся. Лесная маркитантка выбежала из дома и вручила ему мешочек с порошком.
– Отменная, кстати, штуковина, – заметил Янник, препровождая мешочек себе за пазуху. – Убивает все живое, если оно гриб.
– Он, наверное, там замерз, – сказала Мэгг Морриган.
– Не учи ученого! – огрызнулся Янник, и тут оказалось, что фляги со спиртным он действительно с собою не взял. Мэгг Морриган еще раз сбегала в дом и принесла мушиного самогона из своих припасов.
Янник быстро заскользил прочь и скоро скрылся из виду.
Рассказ о том, как полутролль Янник, лесная маркитантка и барон Мориц-Мария Эреншельд спасали незадачливого следопыта впоследствии вошел в Анналы Общества Старых Пьяниц; одновременно с этой историей всегда рассказывалась и другая, где также участвуют лыжи, фляга со спиртным, стрелы для арбалета и лука, полуопытный юнец и чудесное животное.
Рассказ о ловле золотого зверя
– Все пьют кофе с перцем или не все? – переспросил Жан Морщина. Как и в прошлый раз, ему не ответили. Морщина пожал плечами и вытряхнул в котелок остатки черного горошка из мешка.
Не застегивая дохи, Гисс вышел из сруба, утопая ногами в тяжелом мокром снегу.
Заснеженный лес, раскинувшийся на многие переходы вокруг, дышал тяжело и сердито. Снегопад почти прекратился, и далеко на востоке небо очистилось от туч. Звезды блистали ослепительно. Утром ударит мороз.
Гисс вернулся в избушку, где тишина сменилась громким разговором. Трубки, тихо посапывавшие несколько минут назад, теперь трещали прогорающим табаком.
Говорил Прак:
– Я не понимаю, для чего нужно было собираться. Мужское соглашение, твердите вы. Соглашение в чем? Кто первый добудет зверя, тот и прав, и дело с концом.
Морщина ухмыльнулся и ударил себя кулаком по колену. Ванява, угрюмый бородач, стукнул кружкой о столешницу и крякнул.
– Не разорять чужих ловушек. Не подъедать чужих припасов. Не стрелять друг другу в спину – вот о чем испокон веку было наше мужское соглашение. Закон лесных джентльментов. Он был нерушим, пока в наши края не наползло всякой сволочи с востока.
Прак пошел пятнами.
– Что касается сволочи… Ты что, намекаешь, будто я собираю по чужим силкам?
– В прошлом году кто-то убил Скотта и унес всю его добычу. У меня нет доказательств, но сдается мне, что в Троллиной пади, кроме него, охотился еще и ты, – сказал Ванява.
– Брось. Любой мог это сделать, – заявил Гисс. Он подумал, что Прак кинется на Ваняву, и тогда Ванява его убьет.
– Я – не мог! – сказал Морщина. – Я лежал у себя со сломанной ногой.
– Ну разве что, – Гисс спокойно снял запотевшие очки и вытер их углом байкового шейного платка.
– Мне плевать, что обо мне думает Ванява, да и все вы заодно. Я такой же охотник, как и большинство из вас, – произнес Прак. – Я белый мужчина, живу здесь пятнадцать лет и добываю мех и золото. Никто из вас не ловил меня за руку. Теперь меня заманивают сюда, я трачу время и – мало того! – должен ночевать под одной крышей с синемордым ублюдком. Эй, тунгулук! Не смей здесь сидеть! Пошел в предбанник!
Все обернулись на угол за печку, где на корточках сидел тунгулук Хуба-Мозес. Хуба остался неподвижным и с окаменевшим лицом смотрел поверх голов.
– Не ори на него. И вообще – не ори. Катись к себе на восток и там ори, – сказал Мак Спешный. Он перематывал узким кожаным ремешком рукоять огромного ножа.
– Любитель тунгулуков, да? Поцелуй его в синюю задницу!
– Дед Хубы был рабом моего деда, – рассудительно проговорил Мак. – Его отец сеял кукурузу для моего отца. Я это к тому, что нам хотя бы известно его происхождение. Чего нельзя сказать о твоей родословной. Мать Хубы плела циновки, корзины и толкла камнерепу. А чем занималась твоя? Неизвестно.
Прак выхватил из рукава метательный нож и замахнулся, но ловкий Морщина плеснул ему в лицо кофейной гущей. Нож с дребезгом вошел в притолоку высоко над головой Спешного. Все засмеялись. Прак шипел и тер глаза.
– Кофе-то с перцем, – сказал Жан Морщина.
Опять посмеялись.
– Будет, – молвил Ванява, огладив бороду. – К делу.
Ванява умел говорить весомо и значительно. Окружающие боялись в нем неторопливой и прочной уверенности. Глядючи на этот могучий остов, подпертый короткими, мощными ногами, снабженный руками невероятной силы, многим думалось: опасно с ним ссориться.
– Завтра в рассвет – начинаем, – продолжал Ванява. – Расходимся в разные стороны, но леса промеж собою не делим. Лес общий.
– Понятно, что каждый пойдет к своим ловушкам, – вставил Спешный, ухмыляясь.
– Если бы зверя можно было добыть ловушкой, я давно бы его добыл, – добавил Морщина. – Но ведь это напрасный труд. Зверь хитер и силен.
– Зря мы стараемся в одиночку, – сказал Гисс. – Зверь еще и опасен. Вышли бы парами. Награда за него велика, можно и поделиться с компаньоном.
– Я ни с кем не собираюсь делиться, – снова завелся присмиревший было Прак. Он с яростью поглядывал на Мака и бросал злые взоры на насупившегося Ваняву. – Ни с кем из здесь присутствующих.
Спешный осклабился, показал Гиссу на Прака большим пальцем и кивнул головой.
Ванява засопел и наморщил приплюснутый нос.
– После случившегося со Скоттом я также не доверяю никому. Извини, Гисс. Извините и вы, джентльмены. Зверь – вопрос мастерства. Златошерстный приз. Добыча его – чрезвычайно опасное мероприятие. Именно поэтому мы должны действовать в одиночку.
Он встал, подбоченился и заговорил уже во весь свой страшный голос:
– Прежде считалось, что лес обдирает с человека все дрянное, что лес воспитывает мужчину – смельчака, товарища, воина. Когда-то так и было. Но среди нас завелась гниль. Не дергайся, Прак, я говорю даже не о тебе. Гниль в воздухе, в воде, она оседает в наших печенках. Пора встряхнуться, джентльмены. Лес – лучший судия. Зверь – воплощение судьбы. Если такая вонючка, как Прак, сумеет добыть зверя или, тем паче, отбить его у меня – значит, так тому и быть. Но мне лучше не видеть этого, мне лучше околеть в лесу.
– Согласен, – сказал Прак, сверкая глазом.
– Согласен, – сказал Мак Спешный и вонзил свой нож в доску стола перед собой.
– Согласен, – сказал Морщина.
– Согласен, – эхом отозвался Гисс.
– Ху-ху! – выдохнул Хуба-Мозес, не изменив выражения лица.
После этого выпили спирту и улеглись, забравшись в мохнатые спальные мешки. В печке прогорали поленья.
Утром Гисс проснулся от густого запаха, распространяемого Хубой-Мозесом. Гисс никогда не испытывал к тунгулукам брезгливого отвращения, но к их запаху тяжело было привыкнуть. Хуба заметил сморщенный нос Гисса, сказал «Двойные Глаза, доброе солнце» и открыл крошечное окошко. Тяжелый, сухой, морозный воздух обжег лицо. Гисс поднялся, нащупал очки и принялся завязывать ремешки меховых сапог. Больше никого в срубе не было.
– Что же ты, Мозес, не ушел? – спросил Гисс.
– Хуба знает, когда ему выходить, – отвечал тунгулук. Он стоял прямо перед окошком и дышал морозом, как рыба – свежей водой. Изо рта его не шел/выходил пар.
Гисс выскочил за надобностью, обежал после два раза кругом избушки, у порога зачерпнул рассыпчатого, чистого снега и обтер лицо, спрятав очки в карман. Хуба тем временем разгорел чифирь и настрогал мороженой рыбы.
Подкрепившись, Гисс проверил арбалет, убедился, что хороших «дельных» стрел, которые сгодились бы на зверя, у него всего три. Он не верил, что добудет или хотя бы увидит зверя, но в лесу и кроме него встречаются опасные твари. Шатун-буркатун, огнегривая росомаха, мечеклык. Свой брат, лесной джентльмен, проплутавший пять дней в лесу, трясущийся, пустоглазый, способный убить из-за пачки чайных листьев и недокуренной трубки… «Ванява говорит, что раньше такого не было,» – подумал Гисс и усмехнулся.
Гисс приехал в эти края пять лет назад. Стрелял он неплохо, из-за чего местные довольно скоро перестали насмехаться над его очками. Иные считали даже, что «оккуляры» суть волшебное приспособление, прибавляющее меткости владельцу. В остальном Гисс был неумеха и белоручка, хотя и брался за любую работу. Он гонял плоты на реке Потёме, мыл золото с полукаторжными субъектами, собирал для чародеев гриб-девятисон, рыбачил и охотился. Вернуться домой он уже не мог. А приехал он, надо сказать, с тем, чтобы наняться в учители в какую-нибудь богатую семью.
За пять лет он не прочел ни одной книги. Рука его не коснулась пера или грифеля.
Лабазник Дмитро, тороватый и злой, из пьяного куражу выписал столичные клавикорды для своей рябой дочери Барбы. Всем поселком ходили потешаться над «вздорным струментом». Среди прочих зашел и Гисс. Он открыл под общий смех лакированную крышку, зажмурился и, надавив пальцами, исторг из «струмента» нескладный, глупый аккорд. Сам усмехнулся, отошел прочь и более не пытался никогда.
За пять лет Гисс стал крепче, шире в плечах, избавился от привычки сутулиться. Но среди коренных жителей по-прежнему смотрелся плюгавцем. Даже борода росла у него несолидная, драненькая. Он сбривал ее, чтобы не срамиться перед обладателями густых, окладистых, черных бород, курчавых и твердых. За бритье его иногда дразнили «белым тунгулуком» – у тунгулуков, как известно, борода не растет.
В настоящую минуту Гисс перекладывает свой наплечный мешок, проверяет состояние ножа и густо мажет широкие лыжи вонючим жиром ледовой саламандры. Сейчас конец декабря – пушные звери в самом меху. Пусть остальные гоняются за златошерстным призом. Он, Гисс, просто обойдет свои ловушки и соберет добычу. Он нашел хорошие места. Даже в случае сугубого невезения ему достанется десяток «алмазных» соболей и штук тридцать белок. Вырученных денег хватит до весны. А весной он подработает на плотине и купит себе подержанную лодку, на которой уйдет далеко вниз по Потеме, до самого озера Андалай. Каждая третья песчинка на берегу этого озера – золотая, а на дне, говорят, лежат тяжелые самородки, круглые, как голыши. Ходит в прозрачных водах радужный омуль, рыба-чечун с длинным, жирным хвостом, хрюкающий угорь и рыба-солнце с красной короной на голове. А в лесах вокруг – ягоды, земляника с кулак, голубика, грибы по полпуда весом. Нагулявшийся кабан полощет рыло в опавших желудях. Глухарь и тетерев спорят – кто вкуснее. А по вечерам, разгоняя крыльями теплый туманец, ступает босыми ножками по колкой хвое черноглазая, черноволосая фея озера Андалай. Ищет себе полюбовника среди рыбаков и охотников. Кого выберет – оглянет царским взором, величаво руку подаст и уведет прямо в туман. После отпустит и одарит золотом сообразно мужской стати и камнями громовыми, черными – без счета. Камни эти у городских колдунов в страшной цене. Черны они, как глаза самой Андалай. Если камни эти между собой потереть, отскакивает от них кусачая молния и раздается гром – от того и название. Вот такие чудеса, и совсем рядом. Нужно только достать лодку.
Гисс не понимал лесных джентльменов, порешивших добыть зверя во что бы то ни стало. Он подумал с минуту и вспомнил его научное название – куница кистеухая исполинская. Синелицые, холодные тунгулуки, исконные обитатели этих мест, называют его аблай. А пришлые белые зовут его просто зверь. Называть его как-нибудь еще – скверная примета.
Зверь велик – побольше годовалого теляти, и ловок, и бесстрашен. Его боятся и снежные львы, и огнеклык, и росомаха. Глупые волки, нападая на его след, бегают от дерева к дереву, а он, где по ветвям, где по низу, косой пробежкой, уводит их в непролазную чащу. Падает тенью сверху, без звука, без запаха – и скрадывает по одиночке всю стаю. Если он спешит, движения его неуловимы людскому глазу – вроде золотистой ряби проплывет в воздухе – и все. Иногда он режет скот, особенно погибелен для овец. Опьянившись кровью и покорностью стада, зверь уничтожает всех, от старого барана до ягненка.
Зверь редок и дорог. За одну лишь шкуру его (в хорошем состоянии) дают: теплый большой дом, огород под камнерепу, впридачу – лабаз, три пары лыж, полтыщи хороших стрел, муки, табаку, выделанной замши, ткацкий станок, спирт и, если повезет, хорошего злого щенка. Но есть еще и струя из желез. Она меряется на золотники и лечит от жидкокровия, слепоты и страшной болезни, при которой человек лишается волос, зубов, ногтей и умирает от зуда. Есть еще когти зверя – любая тунгулукская колдовка отдаст белому в наложницы свою дочь за связку когтей с одной только лапы. Есть еще зубы зверя. За один только клык целый род синелицых уйдет в рабство. Есть сердце зверя – врачует от ста недуг. Есть печень зверя, в которой желчь, заживляющая раны.
Лыжи у Гисса, благополучно пережившие уже трех владельцев, обладали нравом строптивым. Они убегали от нынешнего хозяина – скользили прочь даже на ровной поверхности, причем в разные стороны. И теперь Гисс покорил их не с первой попытки. К тому же крепление на левой лыже сломалось. Следовало вернуться в сруб, отыскать на полу достаточно длинный кусок упругой толстой проволоки, особым образом согнуть его и произвести еще целый ряд неприятных манипуляций, располагая из инструментов лишь тупой стороной ножа и оселком. Но Гиссу хотелось скорее уйти подальше от духа суровых мужских разговоров – ими пропитался сруб и поляна вокруг него. Хотелось на волю, где спокойно можно говорить с самим собой и беззвучно посмеиваться. Да еще Хуба-Мозес, скрестив руки на безволосой груди, глядел ему в спину. Хуба знал, что белые не выносят его взгляда, особенно в спину. Гисс вздрагивал всем телом.
Запасная лямка от мешка – вот что поможет ему. Он не будет чинить крепления, ставить новую скобу – просто примотает стопу к планке. Ненадежно и небезопасно. Если он упадет, то может подвернуть ногу. А то и сломать. Зато быстро. Раз-два и готово.
Хуба неодобрительно покачал головой, но осуждающе поцокать языком не снизошел.
Гисс не выдержал.
– Знаешь, Мозес, почему тунгулуки чулков не носят? – спросил он.
Хуба отрицательно нахмурился.
– Потому что чулки на лыжи не налезают.
И, дивясь собственной глупости, Гисс поднял капюшон и двинулся прочь.
Утренний мороз зол, но весел. Он кусает и бодрит, делает нервы чуткими, нос – восприимчивым. Воздух прозрачен. Розоватый снег пушист, скрипуч. Совсем не страшно утром в лесу, даже новичку. Ели и сосны – как в детской книжке с картинками. Иная ветка, оттянутая снегом до земли, вдруг разогнется, взмахнет в воздухе – и из бело-розовой сделается зеленой, а на солнце мерцает, колеблется алмазная, серебристая, изумрудная – снежная пыль. Береза, отлитая из инея, вздрогнет всем своим телом, хрустнет и снова заснет.
Днем розоватое превращается в белое и голубое. Тени отчетливее, солнце слепит, запахи – шалят, обманывают чутье. Белки и соболя теряют осторожность. Тут – не зевай. Смотри по верхам, поглядывай и вниз. А мороз уже не весел. Рука без рукавицы за несколько минут костенеет и перестают слушаться пальцы.
Гисс до темноты обошел свои ловушки. Результат был более чем удовлетворительный. Но предчувствие неприятного свойства мешало обрадоваться по-настоящему. Тяжесть перекатывалась в груди. К тому же краешком левого глаза Гисс иногда видел кое-что. И не на долю мгновения, а на несколько мгновений видение задерживалось перед ним, когда он оборачивался. Так показался ему стоящий на снегу черный, закопченный котел, булькающий зеленым зельем. А спустя час он увидел нагую рослую женщину с грустным лицом, заросшим сплошь длинным мягким пухом. Пух шевелился, как на ветру, хотя никакого ветра не было и в помине. Женщина зашла за дерево и исчезла.
Гисс с чувством отхлебнул из фляги. В тавернах любят повествовать о таких наваждениях. Обычно одинокие, бывалые охотники сталкиваются с лесными миражами за несколько часов до гибели. Гисс потешался над этими россказнями. Если погибший был один и найден уже мертвым, кто мог рассказать о том, что он видел? Тунгулукский шаман?
Гисс твердо решил держать себя в руках и выпил еще. Тепло разбежалось по всему тело, и противная дрожь унялась. Гисс привесил к мешку мертвых зверьков, чьи тельца были странно-тверды под мехом.
Верхушки елей уже окунуло в кобальд, тени стали густыми. Скоро выйдет мертвенная луна. Холодный пронзительный свет проникнет в потаенные уголки зимнего леса, достигнет глубин непролазной чащи – куда солнечный луч не заглядывает никогда; потревожит норы, щели в древесной коре. Оживит существа, большие и малые, о которых человек, конечно, догадывается, но никогда не знает наверняка.
Гисс незаметно для себя перешел на очень скорый шаг и быстро оказался на знакомой тропе. Вдоль нее две лыжные колеи убегали в синий сумрак. Мак Спешный прошел здесь несколько часов назад. Гисс узнал его манеру слегка подворачивать правую ногу. Спешный двигался торопливыми длинными шагами, почти бежал.
На тропе Гисс посмелел. Ему стало любопытно. Что, в самом деле, старина Мак тут забыл? Его любимые места начинались по другую сторону болота. Гисс направился по следу.
Сквозь обширный перелесок след вывел на опушку. Ее поперек перечеркивал другой след, отчетливый в синем снегу, – узкие беговые лыжи Прака.
Спешный вышел ему наперерез, но опоздал и бросился догонять.
«Он убьет его, – подумал Гисс. – Он не простил метательного ножа. Уже, наверное, убил. Зачем я иду туда?»
Вопрос остался без ответа, но Гисс все равно шел по следам, охваченный любопытством.
Лыжные полосы разбежались за болотом. Оба – Прак и Спешный – отчаянно петляли между сугробами, словно в прятки играли. За искривленной елкой Мак Спешный стоял довольно долго – ушел в снег по пояс. Что он там сторожил? Осматривая взрыхленный снег, Гисс внезапно ощутил дурноту и тяжелый мутный страх. Он обернулся и успел увидеть золотистую рябь, мелькнувшую в синем столбе лунного света. На этот раз – не мираж. Осторожно Гисс проделал несколько шагов. Так и есть – следы. Совсем не похожие на следы куницы. Крупные, но неглубокие, словно животное невесомо. Гисс коснула следа рукавицей и понюхал ее. Сладоватый, терпкий запах.
Это он.
Дурнота то усиливалась, то вдруг отпускала. Особенно неприятным было покалывание в шее сзади, там, куда зверь запустит при случае острый длинный клык.
Гисс снял капюшон. Жалко уши, но ничего не поделаешь – ему нужен обзор. Медленно взвел он арбалет и положил «дельную» стрелу. Если попасть правильно… если б попасть!
Дурнота отступила совсем. Сразу заболели уши.
Зверь по-прежнему недалеко. Просто человек надоел ему, и он ушел глубже в лес. Гисс понял, зачем сюда стремился Спешный. Он следил за Праком, чтобы тот вывел его к зверю. Зверь по нескольку дней кружит в одном месте, таковы его повадки.
Странный получался поединок. Двое охотников и зверь. Все против всех. Тут Гиссу пришло на ум, что и он теперь участвует в этом поединке. И Прак, и Спешный, увидев его, захотят убрать ненужного конкурента. Прак пустит стрелу холодно, Спешный – вздохнет, но все равно ведь выстрелит. Оба давно не промахивались.
– А ну вас, ребята, в бучило, – сказал Гисс. – Буду-ка я выбираться от греха.
В двух часах пути скорым шагом находился его лабазик, где – печка, спиртовая лампа, пушистое одеяло, чайник… До утра славно там можно отдохнуть. Нужно только, высматривая в лунных лучах, найти свои метки. Здесь можно срезать – по дну оврага и сразу на полночь, миновать прошлогоднее пожарище и все, рукой подать.
Гисс снова ощутил волну страха, но волна эта не задержалась, прокатилась и миновала. Он сказал: «уф!» – и тут дыхание его перехватило. Давешняя женщина с пуховым лицом смотрела на него из-за ствола сосны. Ее тело отливало холодной синевой. Гисс снял очки и через секунду снова надел. Женщины не было.
– Скорей, скорей, скорей… – шептал Гисс. – Бегом, бегом, бегом…
Снег скрипел под лыжами. Вот уже и овраг.
– Скорей, скорей, скорей…
Когда его лыжи уперлись на ходу во что-то твердое, Гисс досадливо и испуганно вскрикнул.
Поперег оврага лежал Спешный – лицом вниз, раскинув руки. Капюшон его дохи был пригвожден к затылку стрелой.
– Какого лешего? – удивился Гисс. Стрела принадлежала не Праку. Это вообще была не арбалетная стрела. Такими стреляют из луков. Из больших костяных луков с варварской резьбой, с пучками засаленных ленточек.
– «Его дед был рабом моего деда», – вспомнил Гисс. – Ай да Хуба-Мозес, ай да ловкач!
Спешный был холоден и тверд. Час он тут лежит? Три часа? Наверняка только его убийца мог это знать. А с ним совершенно не хотелось встречаться Гиссу.
Он обошел тело и тронулся дальше. Снег все так же поскрипывал и похрустывал. Гисс замер, задержав дыхание. Невдалеке под чьими-то лыжами взвизгнуло и хрустнуло дважды. Кто-то сделал два шага и остановился.
– Эй! – крикнул Гисс. – Это я, Гисс! Я ухожу. Пропадите вы с вашим зверем! Мне он не нужен. Дайте мне уйти.
В это мгновение снег перед кончиками его лыж взорвался, взметнулся вверх. Что-то темное, большое, суматошно хлопая крыльями, повисло в воздухе. Гисс дернул руками и подался назад.
Стрела ударила в цель, как в плотную сырую подушку, и отбросила ее назад, далеко. Гисс даже успел увидеть кружащее перо. Но он не сохранил равновесия и упал в сугроб.
От боли в ноге у него остановилось дыхание. Он копошился в снежном мешке и выл. Снег набился в уши. Очки сгинули в сугробе. Левая нога у щиколотки сгибалась вбок, словно обрела новый сустав. Слезы заледенели на щеках Гисса и кололи уголки глаз. Он продолжать завывать, стиснув зубы. Попытался ослабить петлю, которой сам привязал ногу к лыжной планке. Тут же боль усилилась. Но от лыжи нужно было избавиться. Плача и ругаясь, Гисс ножом перепилил затвердевшую лямку. Опустил искалеченную ногу на снег, выронил нож.
– Очки, – пробормотал он, всхлипнув, и принялся шарить вокруг себя. Сквозь рукавицы ничего не почувствовав, он сбросил их и зарылся пальцами поглубже. Пушистый сверху, внутри снег оказался жестким, царапал обмерзшую кожу. Попадались какие-то веточки, черенки от листьев, почерневшая хвоя… Наконец дужка зацепилась за пальцы.
Увы – барахтаясь в сугробе, Гисс сам раздавил свои очки. С проклятием он отбросил бессмысленную оправу.
– Запасные в мешке, – сказал он сам себе. Подышал на пальцы. Снял со спины мешок, зубами развязал шнур и запустил внутрь обе руки. Потом, выругавшись, расширил горловину и вывалил содержимое перед собой.
Очков запасных не было. Гисс по одному перебирал предметы и метал их далеко, через спину – не то! Улетели и трубка, и мешочек с чаем, и брикет вяленого мяса, за ними – трутница, складная бритва, оселок, осколок зеркальца, кисет…
– А без очков-то каюк, – сказал Гисс.
Свернутая – или сломанная – нога горела от стопы до колена, но при этом была как чужая, ватная и тяжелая. От долгого сидения в снегу онемело седалище. Опираясь на лыжу, как на костыль, Гисс попробовал подняться. Он не будет собирать пожитки, шарить близорукими обмерзшими ладонями в скрипучем снегу. Он попробует добраться к себе.
Но идти невыносимо тяжело. Снег глубок. Здоровая нога вязнет, больная упирается коленом, волочится. Гисс пополз на четвереньках. Ему показалось, что так проще.
В пяти саженях убитых глухарь уже застыл. Пр-роклятая птица! Глупая птица… Издохла непонятно про что. И Спешный… Посмейся теперь, пошути, охотничек. Объест тебя огнегривая росомаха. Вороны выдолбят мозг. Узнают тебя весной по бисерному амулету – если найдут.
– Ползу-ползу-ползу, – шепчет Гисс. Он слишком часто падает лицом в снег. Лицо щиплет, кончик носа раньше болел, а теперь уже не болит. Гисс трет нос колючей от снега рукавицей, плачет и ползет, ползет…
С четверенек все выглядит по-другому. Вот кончился овраг, вот метка – зарубка. Все то, да не то. Деревья-то какие высокие, мамочка… Запрокидывай сколь угодно голову – не видно верхушек, залитых лунным мерцанием. Верхушки расплываются в черноте. А голова кружится от боли, от страха, от холода – и пляшут бесконечные стволы, маячат тени на снегу. Вот тень страшная, как снежный лев, вставший на дыбы. Елка. Тьфу! Ползу-ползу-ползу… Вперед-вперед-вперед…
Хорошо, что такая светлая луна. Очень хорошо. Гисс переворачивается на спину, чтобы передохнуть. Выдыхает струи пара, глядит на звезды. Без очков – расплывающиеся горящие пятнышки на мутном фоне. Луна – пятно сильно побольше, поярче. Если ее закроет туча, Гисс ослепнет вообще.
Он вытягивается, замирает, услышав визжание снега, мерное, приближающееся.
– Эй! Помоги! – кричит Гисс. – Я здесь!
Шум утих на мгновение, голос невнятно выбранился и чьи-то лыжи заторопились, чиркая по снегу.
– Сюда! – кричит Гисс.
Жан Морщина склоняется над ним.
– Угораздило, братец, – произносит он с сожалением.
– Да уж! – отвечает Гисс. – Перелом, кажется.
– Не повезло, – вздыхает Морщина и добавляет с деловитым любопытством: – Ты встречал кого-нибудь?
– Старину Мака встретил, – говорит Гисс.
– Там, в овраге?
– В овраге…
– Плохо, братец. Такое время, смотреть надо в оба.
– Послушай, – не выдерживает Гисс, – старина Мак, сидел с нами вчера… и мертвый лежит в овраге. Со стрелой в башке! Пил с нами вчера – и со стрелой в башке…
– Ну и делов, – Морщина сопит и хмурится.
– Поверить не могу!
– Э! Да что там… Тебе, братец, хуже. Больно?
– Уже нет.