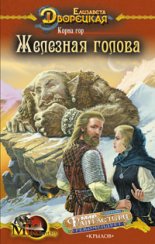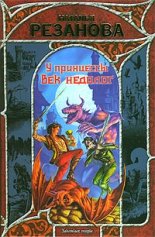Поп и пришельцы Хаецкая Елена
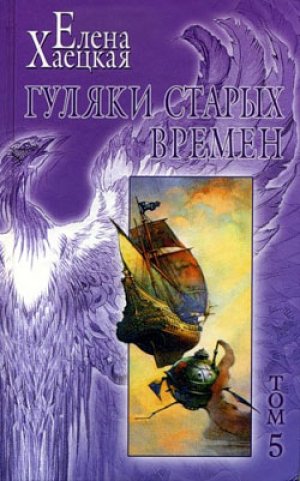
Читать бесплатно другие книги:
Анна Викторовна безумно любила музыку, и в свои пятьдесят с лишним лет все с той же страстью, что и ...
Сложно поверить, но среди эксцентричных завсегдатаев Александровского парка есть пришельцы с далеких...
Гельд Подкидыш – безродный торговец. Он не увенчан воинской славой. Такому человеку невозможно добит...
Судьба сказочкой принцессы трудна – а порою чревата и реальными проблемами!...
«– Просыпаемся. Петербург через сорок минут. Скоро санитарная зона, закрою туалеты. Чай, кофе… Просы...