Амазонки и вечный покой (Исаак Левитан – Софья Кувшинникова) Арсеньева Елена
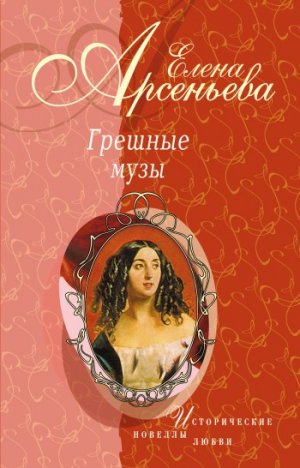
Maman противная, противная! Она похожа на цыганку! У нее коричневые веки, а губы красные, будто красный перец! И она старая, старая! Она старая, а я молодая! Ты не можешь любить ее! Ты должен любить меня! Посмотри!
Девушка рванула ворот своей ситцевой блузы, и он увидел нежную шею, тонкие ключицы, увидел ее маленькую грудь, едва прикрытую батистовой рубашечкой. Рубашку стягивала на груди узкая шелковая лента, завязанная смешным неровным бантиком, и вот худые пальцы нервно, заплетаясь, принялись распутывать бантик, раздвигать края рубашечки, обнажая грудь.
– Смотри, смотри, – твердила она, словно в забытьи, – смотри на меня! А у нее вот здесь морщины, ты знаешь? Я сама видела! И на лбу у нее морщины, и вокруг глаз… Она старая, старая! Ты не можешь ее любить! Ты должен любить меня!
Ясные глаза наполнились слезами, нежные губы искривились от боли. Девушка вцепилась в руки художника, прижала их к своей груди, двигала плечами, и нежное тело переливалось и билось в его ладонях, словно молодая березовая ветка под ветром.
Он опьянел. Смотрел на голубую жилку, бьющуюся на шее, чувствовал, как наливаются возбуждением маленькие груди, видел, как влажно блестят зубы меж неумелых губ, которые все шептали, выдыхали, исторгали бессвязные слова… Он пьянел от ее запаха, напоминавшего тонкий аромат подснежника на тенистом пригорке. Он слушал ее прерывающийся голос и смотрел в потерянные голубые глаза, но видел другое.
Другую!
У той, другой, были темно-русые, разметанные по подушке волосы, припухший, нацелованный рот, гладкие плечи и сильные руки, которые вцеплялись в его плечи и прижимали к себе так, что он не мог оторваться. Да он и не хотел. У него мысли мутились от вкуса ее кожи, от горьковатого, женского, дымного запаха ее тела, он бился в тисках ее сильных ног, впивался губами и зубами во вздыбленные груди, на которых не было никаких морщинок, а если даже и были, он не видел их. Да, не видел, и это он-то, с его острыми глазами, способными различить в одном белом цвете десятка два тончайших переливов, полутонов, оттенков… Он не видел ничего, что могло бы нанести ущерб ее красоте, которая сводила его с ума и которая принадлежала ему, только ему!
Что-то душило его. Он очнулся от пьянящих мыслей и обнаружил на своей шее тонкие сомкнувшиеся руки. Сухие губы были близко-близко и шептали ему:
– Ты должен бежать со мной! Ты должен…
«Почему она говорит мне «ты»? – подумал художник, вдруг озлясь. – Она девчонка, она мне в дочери годится! И почему я ей что-то должен, этой девчонке?!»
Он сорвал с шеи ненужные ему руки, стиснул слабые запястья:
– Варенька, угомонись. Ну что ты такое говоришь, сама рассуди… Куда мы побежим, с какой радости? Что ты такое о нас возомнила? Ведь твоя матушка… Анна Николаевна, она… и я…
Он начал заикаться, осекся. Но ей не нужно было слов, она и без слов все понимала.
– А, так ты ее любишь? – крикнула Варенька, отскакивая, ударяясь спиной о березу и едва не падая. – Ее, а не меня? Эту старуху?! – Глаза помутнели и безумно расширились. – Тогда я утоплюсь! Утоплюсь и оставлю письмо, что ты, что ты меня…
Она запуталась в угрозах, но художнику уже ясно стало все. И он поверил ее угрозам, поверил в одно мгновение! Он уже успел немножко узнать этот яростный пламень первой любви, смешанной с дикой ревностью к собственной матери. Он представил записку, написанную угловатым почерком, и там – свое имя, окруженное бредом мстительного вымысла. Он увидел темно-серые глаза той, которую любил и которая любила его, увидел страх и отвращение в этих глазах, только что прочитавших, как любимый ею мужчина обесчестил ее дочь. И еще он увидел другую ее дочь, младшую, которую звали так смешно – Люлю – и которая обожала Вареньку и маму, и его обожала, заезжего гостя, знаменитого художника. Он увидел, как она рыдает на могиле сестры, как пытается утереть слезы матери… О господи… Будто наяву, он услышал, как Люлю проклинает этого чужого, ненужного чернобородого человека, который разломал их жизнь, искалечил… Сюжет грядущего кошмара вырисовался в его уме с такой невероятной быстротой и отчетливостью, с какими никогда не рисовались ему сюжеты будущих картин, которые он не просто писал с натуры, а всегда сочинял, подобно тому как его друг Антон Чехов сочинял свои то прелестные, то уродливые рассказы…
О господи, да что же он накуролесил в это лето в Горке, у Турчаниновых? Будет ли конец этому проклятию? Как же теперь жить?
Жить представлялось невозможным, да и не хотелось. Он неловко схватил с земли свое короткоствольное ружье, с которым возвращался с охоты, вырвал из патронташа патрон, сунул в ствол, как-то извернулся, прижал ствол к голове и, пока его не перехватила Люлю с письмом Вареньки, спустил курок, уповая, что заряд непременно разнесет ему голову. Только бы избавиться от всего этого кошмара, который обрушился на него… Нет, который он сам себе создал, несчастный ловелас, любимец женщин, художник Исаак Левитан!
* * *
«Ради бога, если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда. Приехал бы и сам к тебе, но совершенно сил нет. Не откажи мне в этом…»
Письмо было отчаянным до такой степени, что первым побуждением Чехова было – сорваться с места и, бросив все на свете, бросив работу, мчаться из Петербурга в Горку. Однако потом он одумался и только плечами пожал: Исаак, очевидно, рухнул в обычную свою меланхолию. Всем друзьям Левитана было известно, что этот человек совершенно не способен быть счастливым. Грех уныния, который причисляется к семи смертным грехам, – его любимый грех! С другой стороны, он все-таки не христианин, и эта утонченная меланхолия – наверное, необходимая часть его иудейской натуры. Тем более что этот иудей – художник… Самого Чехова ведь тоже не назовешь оптимистом до мозга костей. Но его спасает ирония, без которой он не может жить, а у Исаака нет иного спасения от печалей, кроме искусства и – красавиц, которые липнут к нему, как осы к варенью. Наверное, какая-нибудь провинциальная Клеопатра донимает его внезапно вспыхнувшими чувствами.
Нет, ехать не стоит. Перед поездкой в Горку Левитан заезжал в Петербург, они вдоволь наговорились, среди прочего обсудив этот новый пассаж в жизни Левитана – расставание с «женщиной его жизни» Софьей Кувшинниковой и внезапно вспыхнувшую страсть к новому предмету – Анне Турчаниновой, хозяйке Горки. Опять пережевывать успехи Левитана у женщин? Чехов, сам красавец мужчина, отнюдь не обделенный вниманием нежного пола, втихомолку завидовал другу – еще с тех пор, как в обворожительного иудея ненадолго влюбилась прелестная Лика Мизинова…
Нет, ехать не стоит.
Антон Павлович успокоился и вернулся к работе, даже не затруднив себя ответом. Однако спустя неделю из Горки пришло новое письмо – на сей раз от Анны Турчаниновой. Ну, от той самой, нового предмета внезапной левитановской страсти.
«Обращаюсь к Вам с большой просьбой по настоянию врача, пользующего Исаака Ильича. Левитан страдает сильнейшей меланхолией, доводящей его до самого ужасного состояния. В минуту отчаяния он желал покончить с жизнью 21 июня. К счастью, его удалось спасти. Теперь рана уже не опасна, но за Левитаном необходим тщательный, сердечный и дружеский уход. Зная из разговоров, что Вы дружны и близки Левитану, я решилась написать Вам, прося немедленно приехать к больному. От Вашего приезда зависит жизнь человека. Вы, один ВЫ можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеного решения покончить с собой. Исаак Ильич писал Вам, но не получил ответа. Пожалейте несчастного!..»
Антон Павлович только головой покачал. Что за комиссия, создатель! Да если бы кто-то сказал еще три года назад, что в минуту крайнего отчаяния Левитан бросится за помощью к нему, Чехову… Между ними ведь тогда дело чуть до дуэли не дошло, на самом краешке все удержалось. И, конечно, дуэль должна была состояться из-за женщины. Теперь, можно не сомневаться, «сильнейшая меланхолия» тоже вызвана «дамским фактором».
О господи, да всю жизнь, что они знакомы, Чехов непременно оказывается свидетелем какого-нибудь «дамского фактора» в жизни своего друга. Причем первой была родная сестра Антона Павловича, Маша! Этот прелестный роман развивался на глазах Чехова и доставил ему немало и веселых, и тревожных минут.
Брат Николай познакомил Антона с Левитаном, и дружба обрушилась на обоих, как весенняя неудержимая гроза. Дружба поистине братская. Чехов знал, что Левитан в тяжелых отношениях с братом Адольфом, который был недурным иллюстратором, однако страшно ревновал младшего брата к славе и завидовал ему. А дружба с Антоном была совершенно свободна от зависти и соперничества, они искренне восхищались достижениями друг друга.
Почему-то Левитан немедленно начал звать Чехова «крокодил», и Антон понимал, что дорог новому другу именно тем, что заставляет его забывать о меланхолии, которая была основой его натуры. Как доктору ему было ясно, что это – следствие еще в детстве перенесенного заболевания, тяжкой жизни в унылой еврейской семье, нищеты, неверия в себя. А ведь художник талантливейший! Но что за вечная тяга к печали и даже к смерти? То стреляться ему, то вешаться (причем Левитан не болтал, а в самом деле предпринимал такие попытки), то срываться с места и ехать куда-то на Кавказ, да не на воды, а куда-нибудь в горы, где еще пошаливают абреки… Пришлось Чехову чуть не силком переселить соседа из Максимовки в Бабкино, где он гостил у своих друзей Киселевых. Здесь-то Левитан и познакомился с Машей Чеховой, уже тогда, в юности, прозванной за разумность и серьезность Ма-Па, сокращенно от Марья Павловна.
Насмешник Антон немедля сочинил про художника и его страсть к работе превеселый стишок:
- А вот и флигель Левитана,
- Художник милый здесь живет,
- Встает он очень-очень рано
- И тотчас чай китайский пьет.
- Позвав к себе собаку Весту,
- Дает ей крынку молока.
- И тут же, не вставая с места,
- Этюд он трогает слегка.
Однако Маша стыдила брата за насмешки. Она была в восторге, что рядом живет самый настоящий, «ручной» художник, и бегала за Левитаном ну прямо как собака Веста! У Маши всегда были способности к живописи, а тут она начала серьезно рисовать. И когда шел на этюды Левитан, следом спешила и она. Зато, когда Маша отправлялась порыбачить (она обожала постоять с удочкой на берегу Истры), Левитан, смиряя нетерпеливый свой нрав, тоже застывал на берегу, глядя, впрочем, не столько на сонный поплавок, сколько на прелестное лицо, скрытое в тени большой панамы.
Вот странно – почему-то Левитан не написал тогда ни одного ее портрета. Антона – да, сколько угодно и рисовал, и писал. Говорил, что любит его лицо. Может быть, ехидно думал Антон, Левитан ищет в его чертах сходство с Машей?
Ему было интересно, чем это кончится.
Ну, чем-чем? Известно чем!
Шла как-то раз Маша из Бабкина к лесу, а оттуда возвращается Левитан, по обыкновению, в своей бархатной рабочей куртке с открытым воротом. Эта куртка шла ему необыкновенно и делала просто-таки персонажем Веласкеса.
– Почему, – говорит он, – дорогая Ма-Па, вы нынче не были со мною на этюдах?
– Потому, дорогой Левитан, – отвечает Маша (его все звали только по фамилии, потому что его старообразное, скучное имя Исаак совершенно не шло к очень красивому, более того – интересному матово-бледному лицу, слегка вьющимся темным волосам, высокому лбу, бархатным глазам и остроконечной бородке), – потому, что наша дорогая хозяйка Марья Владимировна просила меня помочь ей очистить вишни для пирога, который она намерена испечь нынче к обеду. – И она показала пальцы, потемневшие от вишневого сока.
– И вы предпочли какие-то вишни мне? – спросил Левитан. Вроде бы шутливо спросил, однако Маше почудилось что-то неладное в его голосе.
– Предпочла, – усмехнулась она.
А в следующую минуту случилось нечто удивительное. Левитан бухнулся перед ней на колени и закричал:
– Да как вы могли?! Ведь я люблю вас!
На его прекрасных черных глазах даже слезы выступили.
Машенька не сразу поверила, что какие-то несчастные вишни могли вызвать такую бурю чувств. Уставилась на пылкого поклонника. А тот не унимался: все стоял на коленях, ломал руки и восклицал:
– Я вас люблю! Выходите за меня замуж!
Маша слушала-слушала, смотрела-смотрела, а потом вдруг так засмущалась, что закрыла лицо руками. И в ту же секунду очутилась в его объятиях. Как только он успел с колен так быстро вскочить?
Ее перепачканные вишневым соком пальцы, закрывавшие лицо, вмиг были осыпаны множеством поцелуев.
– Милая Маша, каждая точка на твоем лице мне дорога! – пылко воскликнул Левитан.
Маше стало смешно до невозможности. Что называется – художник! «Каждая точка дорога»… Даже в любви объясняется с точки зрения пуантилизма![1]
Маша поняла, что сейчас не выдержит и расхохочется. Нет, нельзя так унизить влюбленного! Оттолкнула его, повернулась – и кинулась наутек, от души надеясь, что Левитан примет ее побег за проявление девичьего смущения.
Нет, скрывать нечего – это самое смущение тоже имело место быть. И через несколько минут, забившись в заросли, Маша уже рыдала – от испуга, от счастья, от совершенного незнания, как теперь быть и что делать.
Потом она прокралась в свою комнату, снова плакала в подушку, девичью подружку, и к обеду не вышла, хотя там был знаменитый пирог (и очень вкусный, конечно!). Но там был и Левитан, а видеть его Маше отчего-то было страшно и стыдно.
Антон удивился, что сестры за обедом нет, а Левитан нервен и как бы не в себе.
– Ма-Па в грустях, – сказал брат Михаил не без ехидства, кося на Левитана и подмигивая Антону. – Рыдает, слезы из-под двери текут!
– Ну, надобно поглядеть, пока потопа не случилось, – усмехнулся Антон и отправился к сестре, не обращая ни малейшего внимания на испуганные глаза Левитана.
– Чего ты ревешь? – спросил Антон, присев на постель к плачущей сестре.
Кое-как добился ответа, кое-как разобрал смысл его среди всхлипываний и вздохов.
– Ну а ревешь-то чего?! – снова спросил Антон.
– Да как же? – удивилась Маша. – Мне теперь Левитану нужно ответ давать, а я не знаю, что сказать.
– Ты его любишь, что ли? – удивился Антон.
Она ничего не ответила, лежала, вздрагивая плечами.
– Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж. Но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты.
В ту же секунду он пожалел, что был резок. Но что поделать, если он видел Левитана насквозь? Этот красивый человек слаб, он обречен вечно оставаться мальчишкой, которому нужна более сильная подруга, покровительница, наставница…
Машины плечи перестали дрожать.
Брат подумал, что его откровение поразило сестру до остолбенения, жалеючи вздохнул и вышел. Однако на самом деле Маша не страдала, а размышляла: что это за штука такая – женщина бальзаковского возраста?! Бальзака она почти не читала, к стыду своему, разве только довольно унылый роман «Евгения Гранде», однако там ни о каком таком возрасте и речи не было…
И все же Маша поняла: брат пытается ее предостеречь. И вняла этому предостережению – просто ни о чем не говорила с Левитаном, отвечать ему не стала. Неделю он ходил по Бабкину мрачной тенью, а потом… а потом буря чувств как-то сама собой сошла на нет, и они с Машей остались только хорошими друзьями на всю жизнь. Отношения теперь между ними были сугубо братско-сестринские.
Однако Чехов довольно скоро получил подтверждение своей мысли о том, что Левитана привлекло к Маше только мимолетное восхищение ее нежной красотой и чувство более дружеское, чем страстное. На самом деле его всегда будет тянуть к женщинам поистине роковым, не просто более сильным нравом, чем он, но и самобытным, ярким, которые являются не тенью своего мужчины, а зеркалом, в котором он увидит отражение себя – достойное себя отражение!
Именно такой женщиной стала для Левитана Софья Кувшинникова. Ее салон был известен в Москве, однако познакомился с ней Левитан вдали от шума городского. Он был тогда на пленэре (это французское словечко вошло у художников в необычайную моду) – на даче у приятеля. За столом заговорили о том, что поблизости стоит какой-то эскадрон и там можно взять лошадь покататься.
– Не хочешь ли? – спросил приятель.
Левитан, который от любого спорта был далек, хоть и мог неутомимо ходить пешком сколь угодно долго и был страстным охотником, только отмахнулся в шутливом ужасе. Однако ему захотелось написать этюд с лошадьми на лугу в утренней росе, и вот ни свет ни заря он ушел с дачи и заспешил туда, где раскинуты были светло-серые военные палатки.
Чтобы дойти до них, предстояло пересечь луг. И вдруг раздался топот копыт, а вслед за тем прямо на него вылетел медово-рыжий скакун, а на нем – всадница.
Ох, и странная же это была амазонка! Никакого суконного, наглухо застегнутого платья с длинным шлейфом. Прямо на голое тело надет полупрозрачный капот, и сквозь тонкую ткань просвечивала смуглая, как у мулатки, кожа. Полы одеяния разлетелись, обнажив босые ноги, темно-рыжие волосы летели по ветру. У нее была фигура Афродиты, посадка Артемиды, бесстрашие Ипполиты, царицы амазонок…
Подскакала она к остолбеневшему Левитану, глянула сверху вниз – и исчезла вместе со своим прекрасным конем. Художнику какое-то время казалось потрясающим даже не то, что он видел, а то, что в мире ничего не изменилось после ее исчезновения. Вот уж воистину был удар молнии… нет, солнечный удар!
Работать Левитан в то утро уже не смог. Установил мольберт, начал наносить краски на палитру, но вдруг все уронил, а загрунтованный холст ни с того ни с сего опрокинулся в мокрую траву, кисть вообще провалилась в какой-то бочажок… И побрел он домой.
Хозяин дачи, его приятель, удивился:
– Что с тобой, Левитан? У тебя все лицо перекореженное!
Левитан рассказал, что видел. Рассказал, путаясь в словах, стыдясь дрожи своего голоса.
Приятель конфузливо усмехнулся:
– А, ну да… Есть тут одна такая… передовая дама. Не ты один от нее ошалел. Любовник ее – в том эскадроне служит, он ей коня и дает. Утром приводит его, а потом сидит и ждет дома, пока его безумная подруга наездится вволю. Ну а плату берет… о-охо-охо, грехи наши! – Приятель подмигнул.
– Замужем ли она? – отрывисто спросил Левитан.
– Да, замужем. И муж ее – человек чудеснейший, благороднейший! Мой добрый знакомец Дмитрий Павлович Кувшинников. Он полицейский врач. Женушку свою непутевую обожает! Ее зовут Софья Петровна, и я тебе советую от нее держаться подальше. Таких восторженных красавчиков, как ты, она кушает на завтрак по пяти штук зараз, кофеем запивая, понятно? К тому же она на добрый десяток лет старше тебя, так что сильно губу не раскатывай. Это я тебе совершенно по-дружески советую, по-товарищески.
Однако Левитан ни дружескому, ни товарищескому совету не внял, а к вечеру, узнав, где находится дача Кувшинниковых, потащил приятеля туда, чтобы представить его хозяйке. Каков же афронт их ожидал, когда они узнали, что та уехала в город и больше не вернется!






