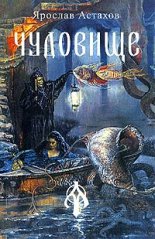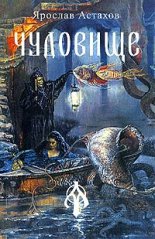Имидж старой девы Арсеньева Елена
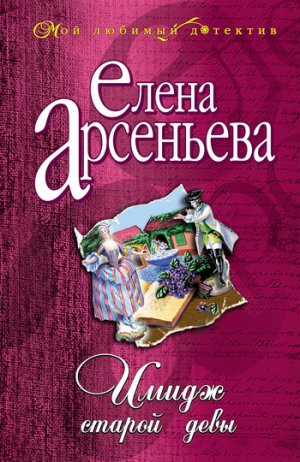
– Никто никого не давил! – начал было объяснять свидетель. – Она просто махнула рукой…
Он показал – как именно – и чуть не угодил по морде своему псу, который в это самое мгновение подбежал к нему и сделал стойку, держа в зубах мужскую барсетку.
Все это время Финт то терся о колени хозяина, то недружелюбно принимался обнюхивать полупьяных ментов, то вдруг начинал нарезать круги по аллеям. И где-то наткнулся же на эту барсетку! Все-таки его старания увенчались успехом. Это вам не грязный конверт, отсыревшая газета и пустая пачка сигарет. Это…
Хозяин Финта машинально поднял находку и так же машинально открыл «молнию». Достал согнутую вдвое пачечку купюр, потом развернул паспорт.
– А ну, дайте сюда, вдруг это вещь убитого! – приказал начальник группы, и свидетель, спохватившись, что и в самом деле занялся не своим делом, протянул барсетку и открытый паспорт почему-то Бергеру.
Тот взглянул на фотографию владельца – и даже головой покачал от удивления, поняв, что это лицо он уже видел раньше. Именно его: с правильными чертами, вполне симпатичное, а на чей-то взгляд, может быть, даже красивое, хоть и чуть полноватое. Это был мужчина немного за сорок, с волосами, зачесанными назад, что придавало ему слегка напыщенный вид. Да, именно его видел Бергер совсем недавно, а точнее – неделю назад, на открытии сезона в оперном театре. Он терпеть не мог драматические спектакли, но отчаянно любил оперу и балет, и когда, волею обстоятельств, переселился из Семенова в Нижний Новгород, чуть не все вечера проводил в оперном, который был здесь и в самом деле недурен. И вот на первой в новом сезоне постановке «Лебединого озера» – своего любимого балета – Александр Бергер и стал невольным свидетелем маленького происшествия, которое и озадачило, и насмешило его.
Место у него было в двадцатом ряду. Бергер всегда старался взять билет как можно дальше от сцены: чтобы не слышать стука пуантов о деревянный настил, а главное – не видеть ленточек, которые обхватывают ноги балерин, поддерживая эти самые пуанты. Причиной этому было неприятное происшествие, виденное им еще в детстве: у одной балерины из кордебалета развязалась ленточка в момент фуэте, и бедняжка грохнулась так неэстетично, что зал невольно разразился хохотом. И хотя ее унесли со сцены со сломанной ногой, зрители с трудом сдерживали смешки в течение всего спектакля. С тех пор Бергер на эти завязки смотреть не мог. Их вынужденное созерцание портило ему все удовольствие от представления! Именно поэтому он садился подальше от сцены, а чтобы как следует рассмотреть хорошенькие личики и стройные фигурки балерин, брал у контролеров бинокль.
К сожалению, оптика в старом театре имелась не больно-то качественная, а потому к ней надо было приспособиться. Порою это занимало некоторое время. Вот и в тот вечер, настраивая строптивый бинокль во время увертюры, Бергер вдруг обнаружил, что смотрит не на роскошный сверкающий занавес, а на лица каких-то людей, сидящих в партере. Вернее, лицо он видел только одно – мужчины, обернувшегося назад и ненавидящим взглядом уставившегося на женщину, которая сидела в другом ряду, сразу за его спиной. Ее лица Бергер разглядеть, конечно, не мог, но обратил внимание на непомерно пышную прическу. Голова казалась непропорционально большой по сравнению с плечами, и Бергер на миг пожалел тех, кто сидит позади нее. Этот безумный начес практически лишал их шансов видеть сцену! Потом у него мелькнула мысль, что дамам с такими прическами надо на входе выдавать что-то вроде купальных шапочек: чтобы плотно облегали голову и унимали буйство волос. Затем он удивился, отчего этот человек смотрит на женщину настолько люто: он ведь сидит впереди, а не сзади, ему нисколько не мешает ее прическа. Но вскоре он обо всем забыл: увертюра закончилась, начался спектакль.
Случилось так, что в тот вечер Бергер еще раз столкнулся с этим мужчиной и этой женщиной. Дело в том, что посещение театра было для него одним из величайших праздников в жизни. Это впечатление сохранилось еще с детства, когда мама в антракте непременно водила его в театральный буфет. Нигде не доводилось Саше есть такие несусветно вкусные «корзиночки», как в буфете оперного! «Корзиночки» вообще всю жизнь были его любимыми пирожными, и даже теперь он, большой уже мальчик, становился в антракте в очередь со школьниками и солдатами – самыми ретивыми посетителями буфета. Так же, как они, Бергер покупал «корзиночку», а чаще – две, потому что был сладкоежкой, и стакан сока или лимонада, потому что ничего крепче шампанского не пил, да и то лишь на Новый год.
Своему пристрастию Бергер не изменил и в тот вечер. Но когда он с тарелкой и стаканом в руках пробился в укромный закуток, где только что было относительно свободно, прямо перед ним на облюбованный угол стола поставили свои чашки с кофе и тарелки с эклерами другие люди. Он сначала обратил внимание на неряшливую, слишком пышную прическу женщины, потом вспомнил саму даму, а затем узнал и ее спутника. Эту пару Бергер видел в бинокль. Лица женщины он снова не разглядел, ибо она опять стояла спиной к нему, но мужчину рассмотрел хорошо. Таких типов когда-то называли вальяжными. Правда, выражение спокойного самодовольства на его лице изредка нарушалось судорогами ненависти. Он исподлобья смотрел на спутницу и жадно заглатывал куски нежного эклера, часто облизываясь, ибо пирожное было свежим и переполненным кремом. Однако в его глазах сверкала такая злоба, будто вместо эклера он предпочел бы вгрызться в горло собеседнице!
Какое-то время Бергер просто-таки не мог отвести глаз от этого породистого, привлекательного лица, на котором два взаимоисключающих выражения менялись с невероятной скоростью и яркостью. Потом дама, шагнув вперед, заслонила мужчину своим отнюдь не худым телом, а необъятной прической – его лицо. И тут прозвенел третий звонок, замешкавшийся Бергер поспешил прикончить свои «корзиночки», а когда расправился с ними, эта пара уже ушла. Из чистого любопытства он пытался снова нашарить их в зале с помощью бинокля, но не удалось. Потом, понятно, Бергер забыл о них обоих и, может статься, никогда не вспомнил бы, если бы не увидел паспорт с фотографией того, кто сейчас, изуродованный до неузнаваемости, остывал в сырой аллее бывшего кладбища. А звали его Симанычев Геннадий Валерьевич, 1960 года рождения…
– Чего уставился? Знаешь его? – нарушил его думы голос старшего опергруппы. – Дай сюда документ.
Бергер протянул паспорт.
– Да, видел однажды мельком. Случайно, в театре. Кстати, – повернулся он к хозяину бульдога, – кстати, а та женщина, которую вы заметили с ним рядом, – она какая была? Ну, какого роста, телосложения?
Свидетель несколько раз сосредоточенно моргнул:
– Высокая, это точно. Они одного роста были с этим… – Он кивнул на труп, замялся, не зная, как его точнее назвать, чтобы снова не стать объектом насмешек. – Хотя я слышал стук каблуков… Она на каблуках была. Полная, мне показалось, что она была такая… крупная. Хотя на ней был плащ. Может, из-за плаща создалось такое впечатление? И еще! Волосы у нее были растрепанные! Я сначала почему на них внимание обратил? Потому что у нее голова была какая-то большая-пребольшая! Лохматая такая.
– Минуту, свидетель! – грозно остановил его в это мгновение старший опергруппы, явно почуяв в разговоре свидетеля с Бергером ущемление своих прав и мгновенно переходя от полупьяного, разухабистого тона на деловой и даже агрессивный. Что характерно, вся его опергруппа немедленно прониклась сходным настроением и не просто посерьезнела, но неумолимо посуровела. – Минутку, свидетель! С вас еще показаний не снимали. Мы еще даже вашего имени не спрашивали!
– Так спросите. Давно пора, на самом-то деле, – посоветовал Бергер.
– И спросим! – сдвинул брови старший. – Не волнуйтесь, спросим! А вы, видать, решили взять дело следствия в свои руки? Может быть, и в отделение с нами проедете, и эксперта вызовете?
– Вряд ли, – буркнул Бергер, ругая себя за то, что опять позволил сыскным рефлексам восторжествовать над спокойствием и благоразумием, приобретенными с таким трудом. – Вы правы – это не мое дело. Я лучше пойду. Поздно уже.
– Как это – пойдете? А показания давать?
– Вот моя карточка, – Бергер протянул визитку. – Здесь адрес, телефон. Можете и паспортные данные списать – вот он, паспорт. Понадоблюсь – следователь повесткой вызовет. А задерживать меня для дачи показаний у вас нет никаких оснований, ибо я не был свидетелем случившегося и даже труп не я обнаружил. Просто так, случайный прохожий. Зевака, проще выражаясь. Строго говоря, вам и этого гражданина надолго задерживать не стоит, все-таки ночь на дворе.
– Ну что вы, спасибо, я с удовольствием! – замахал руками хозяин Финта. – Расскажу все, что видел, что слышал. Без проблем.
– Вот это позиция, я понимаю, – кивнул старший, вчитываясь в строчки на визитке Бергера. – Человек хочет органам помочь. А вы…
И он умолк, наконец-то прочитав на визитке словосочетание, отвратительное для всякого штатного сотрудника официальных органов: частный детектив .
– Е-мое! – простонал он потрясенно. – Ох, держите меня четверо! Витька, а ну дай рацию.
Шофер протянул ему трубку.
– Ковалев? – спросил оперативник. – Это твой однофамилец говорит из Нижегородского. Простучи-ка по адресному бюро и прочим каналам мне такую фамилию: Бергер Александр Васильевич. Да, Бергер. Наверное, немец, а тебе какая разница? Давай делай, быстро.
Похоже, компьютер этого самого Ковалева, к которому обратились за подтверждением личности гражданина Бергера, был отлично отлажен, потому что буквально через минуту раздался зуммер, и «однофамилец из Нижегородского» снова поднес трубку к уху:
– Да, слушаю! Что? Есть такой Бергер? Да, бывший… да. А теперь? Чье бюро?! Кто?! Ладно, понял. Отбой.
Судя по тому, что этот «однофамилец» так и не поблагодарил своего расторопного помощника, сведения, полученные о Бергере и о месте его теперешней работы, немало озадачили старшего опера. Не просто частный детектив, не сам по себе, бесправный и беззащитный конкурент нормальных ментов, а сотрудник «Городского бюро юридической поддержки», обладающий правом вести частную сыскную деятельность!
Для посвященных людей это название значило много. Поскольку город находился в состоянии предвыборной лихорадки (в конце сентября предстояло выбрать мэра), каждый из кандидатов из кожи вон лез, чтобы показать, как он заботится о правах и свободах горожан. Вот один из них, с виду сущий зомби, но пользующийся поддержкой очень высоких верхов, а возможно, ими и зомбированный, открыл бюро бесплатной экстренной юридической поддержки, в которое мог обратиться любой и каждый. Мало того что там можно получить консультацию и даже нанять адвоката. Там можно провести независимую медицинскую экспертизу и даже воспользоваться услугами независимого расследователя, сиречь частного детектива.
Одним из сотрудников этого бюро и был Бергер. В принципе, ему как избирателю, представителю, так сказать, электората, больше по нраву был другой кандидат в мэры: фигура одиозная, лидер и аутсайдер в одном лице, бывший сиделец, умудрившийся испортить отношения со всеми властями предержащими. Определенно – именно он выиграл бы выборы (кстати, однажды, четыре года назад, это уже произошло, после чего свежеиспеченного мэра немедленно отправили за решетку за какие-то старинные прегрешения, которые ранее ему прощались, а теперь вдруг стали несовместимы с законом), но его недавно просто сбросили с дистанции – опять же за какие-то мифические грехи. Скорее всего, мэром предстояло стать именно тому, зомбированному, а потому бюро имело все шансы продолжать работу, а его сотрудники – остаться в нем.
С одной стороны – ставленник людей, которых Бергер презирал. С другой – хорошо оплачиваемая, интересная и, главное, безусловно полезная людям работа! Бергер считал, что вторая чаша весов перевешивает первую, а потому хотел бы задержаться в бюро как можно дольше. Тем паче не он туда просился, а его самого упрашивали прийти потрудиться. Да, он вот уже полгода как ушел на инвалидность, однако профессионалом быть не перестал. Славу ему, начинающему следователю, составило дело Риммы Тихоновой – чуть ли не первое, которое он вел. Эта женщина покончила с собой, так все обставив, чтобы подозрение падало на ее любовника, Григория Охотникова. Все улики были против него, причем улики очень весомые. Бергеру этот человек был глубоко неприятен, его непричастность он доказывал, просто-таки стиснув зубы, буквально с отвращением, однако долг есть долг, и свой долг Александр Бергер исполнил. Кстати, именно в ходе этого расследования он и проникся стойкой неприязнью к черноглазым красавцам-брюнетам… но это были его личные трудности.
Вскоре после окончания расследования и снятия подозрений с Охотникова ретивый следователь получил семь пуль от некоего разъяренного жениха за изнасилование его невесты, происшедшее в ходе ее допроса. Да, Бергер вызывал ее как свидетельницу, однако, понятное дело, и пальцем к ней не притронулся! Доказать это было легко и просто, однако для начала предстояло элементарно спасти жизнь Бергеру, ибо, получив семь пуль, можно выжить только чудом. Пока Бергер лежал в госпитале и врачи гадали, обречен он на смерть или на полный паралич, выяснилось, что «мстителя» науськал на него Николай Резвун, отец той самой Риммы Тихоновой, очень недовольный тем, что благодаря Бергеру ушел от тюрьмы ее любовник. В нем говорила отнюдь не родительская скорбь, а ненависть к человеку, который подмял под себя весь его бизнес и покушался на его собственную жизнь. В результате Охотников погиб в автомобильной катастрофе, но доказать причастность Резвуна к этому делу не удалось. Отмазался он и от подстрекательства к убийству Бергера: киллер отказался от прежних показаний и заявил, что действовал в состоянии аффекта и помрачения ума. Его, конечно, осудили, однако многие открыто говорили, что богатый бизнесмен просто купил его молчание. Бергеру иногда очень хотелось покопаться в этой истории, сделавшей его инвалидом, однако Резвун жил теперь за границей, так просто не достанешь. Но благодаря покушению Бергер еще больше прославился, а потому его охотно взяли на престижную и не больно-то пыльную работенку в бюро, несмотря на удостоверение инвалида, неторопливую походку (иногда не слушались перебитые ноги), заштопанное правое легкое и другие многочисленные внутренние неполадки.
Поскольку результаты выборов были совершенно непредсказуемыми, а Россия – страна политических чудес, внутренние и внешние органы старались особо не ссориться с сотрудниками того или иного кандидата. А может быть, начальник опергруппы был из числа его приверженцев. Так или иначе, он позволил Бергеру уйти, а сам вызвал по рации эксперта и машину для перевозки трупа. Хозяину Финта, судя по всему, предстояло спустя некоторое время прокатиться в отделение для дачи показаний.
«Хоть бы собаку домой отвел», – угрюмо подумал Бергер, слыша позади недовольный бульдожий скулеж.
Настроение у него было препоганое, впору самому заскулить. Но ведь вроде бы ничего особенного не случилось: ну, небольшая стычка с милицией, так ведь все нормально закончилось! А что касается дачи необходимых показаний, то ведь и в самом деле – никто не отменял священной обязанности каждого гражданина содействовать по мере сил и возможностей раскрытию преступлений!
«Да что я дергаюсь, не пойму?! – ворчал сам на себя Бергер. – Ну, получу повестку, ну, скажу, где видел этого Симанычева… Про ту тетку с начесом тоже скажу. Какие проблемы?!»
Проблем никаких. А голова разболелась невыносимо, как бывало всегда, когда Бергер чуял впереди какие-то неприятности.
Чуять-то он их чуял… Но и вообразить не мог, чем для него в недалеком будущем обернется эта ночная история!
Катерина Дворецкая,
9 октября 200… года, Париж
Вообще-то любила и понимала меня одна только тетя Эля. И одобряла – во всем. Мало того! Может быть, она меня даже поощряла, как бы подталкивала – исподволь, абсолютно для меня незаметно! – к совершению тех поступков, которые я потом воспринимала как свои, только свои собственные заморочки. Так сказать, авторские. Однако точно знаю, что о сестре я впервые узнала от тети Эли. Матушка, конечно, считала меня недостойной посвящения в эту великую семейную тайну. С другой стороны, она была совершенно права: меньше знаешь – крепче спишь. Насколько иначе сложилась бы моя жизнь, если бы я по-прежнему даже не подозревала о сестре! Да уж, да уж, точно: это была бы другая жизнь другого человека. В ней не нашлось бы места подавленным страстям и откровенному горю, зависти и ненависти, интригам, от которых даже у меня, завязавшей их, порою вскипали мозги, тайнам и недомолвкам, угрызениям совести и раскаянию, бессонным ночам – и страху, ужасному страху, который иногда настигал и все еще настигает меня…
С другой стороны, в ней не было бы места и счастью, счастью, счастью! Если бы не сестра, разве я встретила бы Кирилла? Разве узнала бы, что такое настоящая любовь? Та самая, которая сильна как смерть? «Сильна, как смерть, любовь, жестока, точно ад, ревность, стрелы ее – стрелы огненные…» Я не знала бы ревности, от которой порою едва не умираю, хотя ревновать к сестре-близнецу – это смешно, дико смешно! Все равно что к себе самой. А я ревновала: ведь сестрица стала для нас и сводней, и разлучницей. И мне не у кого было спросить совета, как поступить в ситуации, которую я сама, сама создала от начала до конца! Где искать виноватых, если во всем виновата я сама и прекрасно это знаю?
Так-то оно так, однако именно тетя Эля бросила меня в эту историю, как не умеющее плавать дитятко бросают в воду. Дескать, оно побарахтается, наглотается воды – но авось не утонет. Может быть, даже научится бить ручками-ножками по воде и поплывет. Ну так вот – я по-прежнему барахтаюсь. Пока еще не тону, но и не плыву. Дергаюсь, не зная, как выплыть, в судорогах безумного отчаяния, – но не могу, тысячу раз не могу позвать на помощь. Во-первых, любой и каждый, услышав эту историю, отвернется от меня не просто с ужасом, но и с отвращением. Во-вторых – и в-главных, между прочим! – гордыня у меня бесовская. Ни за что не покажу, как мне плохо. Не выношу, когда меня жалеют. Тем паче – жалеют с насмешкой. И разве кому-то объяснишь, что происходит? Да на меня станут смотреть, как на сумасшедшую!
Одну только тетю Элю я могла бы позвать на помощь. Но ее уже давно нет. А ведь с самого детства она была столь близка со мной, имела на меня столь огромное влияние, что я больше ощущала себя ее дочерью, чем собственной матушки, которой, если честно, было глубоко плевать, что написано на этом белом листе, называемом душою дочери. А тетя Эля знала, что там написано. Ведь это именно она писала на нем все, что хотела! И долгое время после ее исчезновения я ощущала себя чем-то вроде незаконченного рассказа. Вернее, романа, потому что накручено во мне было столько всякого-превсякого…
Автор выдумал героев этого романа, придумал им приключения, чувства, саму жизнь – и вдруг бросил свою писанину, даже не докончив предложения. А они замерли на полудвижении, на получувстве и полуслове. Можно сказать, на полужизни и полусмерти. Если она смотрит сейчас на меня «из неизвестной глубины» – то-то небось забавляется! А может, жалеет меня, горюет обо мне? Нет, вряд ли. Она презирала жалость, как и я. Наверняка пытается достучаться до меня мыслью сквозь все эти толщи атмосферы, стратосферы и какой-то там еще сферы, отделяющие наш мир от того света, пытается внушить мне: «Не сдавайся! Живи! Играй! Не плачь, моя радость, моя ненаглядная девочка! Ты самая лучшая, ты все сможешь – только ничего не бойся, потому что трусость и осторожность – худшие, опаснейшие из зол». Она мне это часто говорила, моя тетя Эля.
Однако это какое-то карамельное, сладко-розовое имя! Тя, ля… Это не для нее. По-настоящему ее звали Элеонора. Вот это имя ей шло! А еще больше – Элинор. Синее, даже чуточку лиловое слово, словно бы сотканное из тяжелого душистого шелка. Она, конечно, хотела, чтобы ее называли именно так, на французский и староанглийский лад. Как в той чудесной балладе:
- Королева Британии тяжко больна,
- Дни и ночи ее сочтены.
- И позвать исповедников просит она
- Из родной, из Французской страны.
Какая потрясающая история, между прочим! Я была совсем еще малявкой, когда услышала эту бесподобную балладу о том, как король, опасаясь, что жена умрет без покаяния, решил сам надеть плащ монаха-францисканца и притвориться исповедником. А также вовлек в эту аферу лорда-маршала. Но в ходе исповеди выяснилось, что королева безумно любила не короля, а этого лорда: «Десять лет я любила и нынче люблю лорда-маршала больше, чем всех!» Причем ее старший сын, наследник престола, красавец и молодец, рожден от него, а вот второй сын – уродливый, противный – в точности венценосный папенька…
Вот тебе и королева Элинор!
Потрясающая история! Благодаря ей я еще малявкой постигла смысл безумного, жуткого, обворожительного выражения: «У каждого в шкафу свой скелет». Я поняла, что каждая семья вольно или невольно скрывает совершенно невероятные тайны. И была почти не удивлена, когда тетушка открыла мне тайну моей семьи. Я бы гораздо больше удивилась, если бы никакой тайны не оказалось!
Думаю, что моя дорогая Элинор обожала эту староанглийскую байку равным образом и за ее название, и за эту всепоглощающую таинственность. Ох, как же она любила балладу о королеве Британии! Как чудесно, страстно, завораживающе читала – нет, выражаясь по-старинному, декламировала ее! Я просто млела от восторга, слушая, и королеву Элинор воображала не какой-нибудь там унылой английской блондинкой, но в то же время и не роковой пугающей брюнеткой, а именно такой, как моя тетя: с затейливо подстриженными и завитыми рыжими волосами, образующими на голове этакий продуманный беспорядок, с переменчивыми зеленовато-желтовато-серо-голубыми глазами (нет, правда, совершенно невозможно было определить их цвет, однажды я сама видела, как они стали фиолетовыми от злости!) и чуть подрагивающими от смеха губами… Вот губы были, пожалуй, тонковаты, они единственные портили почти совершенную красоту моей тетушки Элинор, особенно когда были не накрашены. А уж если она глубоко задумывалась и поджимала их, то в лице ее появлялось что-то сварливо-ведьмовское. Да, она была, конечно, типичная ведьма! Заварила в котле своей хорошенькой рыжеволосой головки тако-ое варево… Заварила – и исчезла бесследно, словно на помеле унеслась невесть куда, а свою любимую ученицу оставила расхлебывать эту кашу.
Что я и делаю по сию пору.
Тетушку Элинор я вспоминаю очень часто. Практически каждый день. И совсем не для того, чтобы упрекнуть. Просто думаю о ней. Скучаю по-прежнему. Воображаю, что она все еще со мной. Что она где-то есть, и я могу встретиться с ней в любую минуту, стоит только захотеть. Если бы она была жива, ей исполнилось бы двадцать пять – но умноженное на два. Однако не сомневаюсь, что она выглядела бы так же ошеломляюще, как прежде. Никакой седины в свои рыжие волосы она не допустила бы, и если бы под ее удивительными глазами все же пролегли морщинки, то они бы лишь подчеркивали их кокетливый блеск и загадочность. Ну а морщинки у рта… как говорил Марк Твен, морщины должны изобличать лишь те места, где раньше были улыбки. Тогда вокруг ее рта было бы много морщинок!
Как очаровательно улыбалась Элинор, как любила смеяться! Какой это был заразительный, откровенный, обезоруживающий смех! А уж как она подшучивала над собой! Помню, как-то раз, глядя в зеркало на свое лицо, стянутое яичной маской, пробормотала: «Я семимильными шагами приближаюсь к тому возрасту, когда забота о своей внешности начинает носить маниакальный характер». И захохотала над своим глянцево-блестящим, словно глазированным отражением, – вернее, захихикала, даже засюсюкала, ведь маска не давала никакой возможности толком открыть рот, и смех приходилось выталкивать маленькими, скупыми, аккуратненькими порциями: «Хе-хе-хе!»
Тетушка Элинор покинула меня дважды. Первый раз – когда вышла замуж за этого американоса, бывшего чуть ли не вдвое моложе ее, но потерявшего от нее голову так, как он никогда бы не потерял ни от какой молоденькой девчонки. А она?.. Любила ли она его? Или просто хваталась за возможность удержать уходящую, убегающую, улетающую молодость?
Так или иначе, она вышла за этого ошалелого от любви мальчишку (который очень кстати оказался довольно богат – не миллионер, к сожалению, но вполне состоятельный человек, к счастью) и уехала с ним в Америку. Писала она редко, а потом письма вообще перестали приходить. Не скоро – только после извещения из Инюрколлегии! – мы узнали, что Элинор и ее муж погибли. Причем одновременно: приняли приглашение друзей покататься на их яхте, а та возьми и взорвись. Какие-то там случились неполадки с газовым баллоном… А может, и нет, может, все было иначе, но такую версию довели до нашего сведения юристы.
Они жили недолго и умерли в один день. Что может быть лучше?!
Впрочем, я была потрясена ее смертью – потрясена тем, что Элинор вообще способна умереть! Маришка знала ее мало и не так переживала, как я. Матушка в основном мучилась не от горя, а от условий завещания Элинор. Только после их смерти выяснилось, что при бракосочетании ее муж, этот самый америкэн-бой, открыл на имя Элинор счет и положил туда сто тысяч долларов. Не бог весть какая сумма, но для ощущения финансовой независимости вполне довольно. И тетя, проникнувшись американской предусмотрительностью, успела написать завещание и распорядилась этими деньгами так: шестьдесят тысяч получаю я, двадцать пять – Маришка, а пятнадцать – матушка. Моей близняшке не перепало ничего. Ну, оно и понятно, для Элинор она была фигурой абстрактной и далекой, не то что для меня!
Маманя изо всех сил пыталась внушить нам, что мы должны отдать свои деньги ей. Но мы с Маришкой держались, как защитники Брестской крепости! Думаю, что распорядились этими деньгами именно так, как хотела бы Элинор. Умница Маришка мигом умотала в Париж, поступила учиться в Сорбонну, встретила там своего ненаглядного Мориса и выскочила за него замуж. Он и сам человек совсем не бедный, но благодаря тетушке Маришка не чувствовала себя бесприданницей. Что касается меня… Элинор и раньше подкидывала мне деньжат, еще до своего отъезда: именно благодаря ее щедрости я и смогла познакомиться с сестрицей и вообще иногда общаться с ней. То есть стартовала удачно. Наследство же вывело меня на финишную прямую. Благодаря ему я почти вылечилась от своей дурацкой болячки. Благодаря ему я делала в принципе все, что хотела. И особую остроту ощущениям придавало то, что никто не знал…
Ладно. Еще не время открывать секреты, срывать, так сказать, все и всяческие маски. Тетушка этого тоже не одобрила бы. Она была убеждена, что всегда случается то, что должно случиться, – причем всему свое время. Жизнь и смерть, любовь и разлука – все случается вовремя. Я привыкла верить ей – пытаюсь верить и теперь. Но иной раз бывает так тяжело, что только мысли о ней, о моей дорогой тетушке – я могла бы назвать ее матерью моей души, моего сердца! – поддерживают меня.
Я думаю об Элинор часто, очень часто. Я тоскую по ней больше, чем по родной матери, которая, кстати сказать, жива и здорова, но с которой мы практически не видимся и не испытываем к этому никаких позывов. Я информирована – это самое точное слово! – о том, как протекает ее жизнь; она в свою очередь некоторым образом осведомлена о моей жизни. И довольно с нас этого. Мы не любим друг друга. Однако не странно ли, что о тетушке Элинор, которую я любила больше всех на свете и которую люблю до сих пор, я практически ничего не знала? В смысле, как складывалась ее судьба в ее молодые годы, до замужества. Ближе ее у меня не было человека, а ведь у нее в то время существовала какая-то своя жизнь, вдали от нашей семьи. У нее были какие-то истории, она, наверное, кого-то любила, кроме меня, – мужчину какого-нибудь. Обычно дети с трудом представляют себе своих близких, особенно старших, в интимной ситуации. Странно – я очень хорошо представляю, какой страстной могла быть Элинор, как легко могла терять голову от любви.
«Тетушка! Этот безумный огонь в сердце моем – не от вас ли?» – спросила бы я, перефразируя Цветаеву.
Точно, от нее! И что прикажете мне с ним, с этим огнем, делать?
Кирилл Туманов, 28 сентября
200… года, Нижний Новгород
– Насчет женщин – это Тургенев напрасно, – заявила Арина. – Это у него дискриминация по половому признаку. А то, что я сказала насчет милиции и всего такого, – совершенно точно. От этих ребят лучше держаться подальше.
– И не говорите! – закивал Кирилл, все еще посмеиваясь. – Я сам от них буквально вчера еле ноги унес.
– Да что вы? – весело удивилась Арина. – Неужели вы хулиганили на Покровке и вас замели? Не могу поверить!
– Конечно, нет. Просто вчера вечером мы с нашими ребятами из студии были у Жанны в гостях, отмечали мой отъезд…
Арина понимающе кивнула. Всем в школе бальных танцев, где преподавал Кирилл, было известно, что Жанна Сергеевна, известный в городе хореограф и директриса модного ночного клуба «Барбарис», была «первой учительницей» Кирилла. Именно она сделала из него то, чем он стал теперь: отличного танцора, безупречного педагога и разбивателя женских сердец. Начав работать в «Барбарисе», Жанна фактически отдала Кириллу свою собственную школу, они по-прежнему дружили, поэтому неудивительно, что свой отъезд Кирилл отмечал именно у нее.
– Выпили замечательно, я ушел чуть живой. Маршрутки не дождешься, пошел пешком. Потащился зачем-то через парк Кулибина. И вдруг вижу…
Он осекся. Странное вдруг возникло чувство. Как будто кто-то прошел за его спиной – аж сквозняком повеяло! – и мимоходом что-то шепнул ему в ухо. Что? Кирилл не расслышал: уж очень тихий был шепот. Но до чего жутко стало!..
– И что же вы увидели? – раздался голос Арины.
Как она смотрит! Все-таки у нее потрясающие глаза!..
– Неужели привидение? Неосторожно это – по ночам по парку Кулибина шататься. Все-таки бывшее кладбище, мало ли кого там можно встретить.
Вот штучка! То манит этими своими глазищами, а через минуту смеется как ни в чем не бывало. Играет! Кокетка, типичная кокетка. А таким девушкам верить нельзя.
– Не видел я привидений, – не без угрюмости ответил Кирилл. – Зато видел людей. Парочку. Мужчина прижимал к себе женщину, а потом вдруг что-то произошло – и он упал. А она убежала.
Арина похлопала ресницами. Кирилл заметил, что ресницы у нее тоже красивые. Не очень густые, но длинные и загнутые вверх. И накрашены аккуратно, ровненько, не то что у некоторых девчонок намазюкано абы как, тушь на щеки осыпается.
– То есть она его ножом пырнула, что ли? – предположила Арина.
– Нет… – загадочно протянул Кирилл. – Нож тут совершенно ни при чем! Этот человек задохнулся, вы понимаете?
– Да вы что?! – Брови Арины взлетели на лоб. Густые подвижные брови, тщательно выщипанные, но отнюдь не в ниточку. Как раз такие брови нравились Кириллу. – Она его задушила?! Голыми руками?
– Да нет, вряд ли. Думаю, брызнула на него чем-нибудь, каким-нибудь средством защитным типа «Дракона».
– Ну, это не смертельно, – пренебрежительно пожала плечами Арина. – Ну, обчихался бы дядька, слезами бы залился…
– Ага-а! – таинственно протянул Кирилл. – А если у него была, к примеру, аллергия на слезоточивый газ? Конечно, милиции я этого не сказал…
– А что, там уже и милиция была?
– Да, то есть нет. Там случайно оказался один тип, следователь какой-то, не помню откуда, а фамилии он не назвал. Но он сразу позвонил 02, вызвал оперов. Вот тут-то я и сделал ноги.
– Серьезно? И не исполнили свой гражданский долг, не дали показаний? А почему?
– Да вы ж сами говорили, что с ментами все круто! – возмущенно воскликнул Кирилл. – Да меня сразу как свидетеля пришили бы к этому делу. Показания, допросы, подписка о невыезде, то да се. А у меня виза, билет! Меня в Париже ждут! Плевать бы они хотели на Париж, особенно если бы я им сказал, что узнал…
Он не договорил, потому что Аринина сумка вдруг разразилась звонками. Девушка с трудом отвела глаза от Кирилла и тряхнула головой, словно просыпаясь.
– Ну вот, – пробормотала она с досадой, нашаривая трезвонивший мобильник. – На самом интересном месте! Алло? Ой, привет, Маришка! Нет, я еще не в самолете. Регистрация-то прошла, а теперь сидим и сидим, как в осаде!
Тут она виновато улыбнулась Кириллу, шепнула:
– Сестра! Извините, я одну минуточку! – И отошла в сторону.
Кирилл тоже улыбнулся, подавляя при этом вздох зависти. «Эриксон» у нее был замечательный – маленький, серебристый, изящный до невозможности. Такой не меньше четырех сотен стоит. В смысле, баксов. Да, сразу видно, что девушка в расходах не стесняется. А между прочим, в точности такой «Эриксон» он видел вчера у этого, как его там, следователя прокуратуры. Хотя у того мужика вид был совершенно скупердяйский. Даже странно, что он позволил себе такой дороженный мобильник. Сам аккуратный весь такой, прилизанный, губки поджаты, глаза узкие, как лезвия. Недобрая физиономия, даже злая, а взгляд прямо режет, насквозь просекает. Ну, а все же не просек, что Кирилл его обойдет на повороте! Решил, что он пьян, как фортепьян, а зря!
Он оглянулся. Арина все еще разговаривала по телефону, стояла спиной к Кириллу, и он с удовольствием скользил взглядом по ее длинным ногам, обтянутым джинсами. Приятная она все-таки девушка, с какой стороны ни посмотри. Попку не вредно бы подкачать, но ладно, не стоит придираться. А сестру ее младшую, значит, Марина зовут. Ну, приколисты их родители! Катерина, Арина и Марина. А может, Арина, Катерина и Марина? В смысле, Арина старшая? Он так и не узнал, сколько ей лет. Может, двадцать пять, как и ему. А может, и больше. Что-то иногда мелькает в ее глазах, какой-то напряг, что-то вроде усталости или…
– Пассажиров, вылетающих рейсом Аэрофлота 43—90 в Шарджу, просят пройти паспортный контроль и проследовать на посадку в самолет, – прервал его мысли голос из динамика. – Повторяю. Пассажиров, вылетающих в Шарджу, просят пройти паспортный контроль и проследовать на посадку в самолет. Информация для пассажиров, следующих в Париж рейсом 169, будет передана дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные вам неудобства.
«Приносим свои извинения»! Спасибо большое, можете их обратно унести, лучше бы посадку объявили!
Примерно половина бродивших по залу ожидания людей ринулась к осветившимся будочкам паспортного контроля и вытянулась в три аккуратные очереди. На лицах всех светилось радостное оживление. Оставшиеся пассажиры смотрели на них с откровенной завистью. Очереди двигались быстро, и совсем скоро народу в зале заметно поубавилось.
– Ну, может, и нам наконец повезет, – послышался рядом голос Арины. – Когда-нибудь… А вас в Париже должны встречать?
– Вообще-то да, но, если что окажется не так, мне придется позвонить из аэропорта. Вот, видите, визитная карточка месье Сарайва? Мне подробно рассказали, где купить телефонную карту и все такое.
– Да, мы теперь прилетаем в терминал В, там как раз пункт продажи телефонных карт, – кивнула Арина. – Раньше прилетали в С, было не очень удобно с этим делом. Хотя зачем вам карта? Я дам вам свой мобильник, вот и позвоните. А где примерно живут эти ваши Сарайва?
– Помню, что станция метро «Ледрю-Роллин» или что-то в этом роде, а улица и номер дома у меня записаны.
– «Ледрю-Роллин», правильно. Это 12-й район, я его знаю, потому что там базарчик хороший, мы с сестрой туда не раз ездили, – объяснила Арина. – Недалеко от площади Бастилии. Сначала из аэропорта вы поедете автобусом Руасси-Бас до «Гранд-опера», потом на метро – прямая линия номер 8, направление Кретель…
Арина выпевала эти слова, как песню, а Кирилл не мог оторвать взгляда от ее губ. Только сейчас он разглядел, какие у нее красивые, яркие губы. Причем они накрашены не помадой, а бесцветным блеском. Очень сексуально!
Он невольно облизнулся и тотчас покраснел, опасаясь, что она угадает его мысли. Хотя там и угадывать-то нечего! В том смысле, что нет у него никаких таких мыслей. Только о работе!
Вдруг его кто-то толкнул. Кирилл едва удержался, чтобы не налететь на Арину. На какое-то мгновение их глаза и губы оказались близко-близко… Она буйно покраснела, просто-таки залилась краской. Да и у него так загорелись щеки, что он понял: выглядит не лучше, чем она.
– Поосторожней надо! – буркнул Кирилл, с преувеличенным возмущением оборачиваясь на невысокого крепыша в джинсовой потертой куртке, который прошел мимо как ни в чем не бывало и даже не извинился. – Ноги не держат?
Крепыш в джинсе зыркнул на Кирилла припухшими темными глазами – зло, даже угрожающе – и пошел своим путем. Теперь его глаза шныряли по залу: такое впечатление, что он кого-то искал.
«Где-то я его уже видел, – подумал Кирилл, провожая его взглядом. – Но где? Может, мы знакомы, он хотел со мной поздороваться?»
– Не обращайте на этого хама внимания, – спокойно сказала Арина. – Знаете что, давайте пойдем в буфет. Вы не хотите перекусить или попить чего-нибудь? А то неизвестно, сколько тут еще придется куковать.
Кирилл покосился на нее в замешательстве. Русских денег у него практически не было: полсотни, не больше, все остальное обратил в евро. Ну не менять же их обратно?! А что можно купить в аэропортовском буфете на пятьдесят рублей? Жевательную резинку? Ха-ха. Как бы это половчее отказаться и Арину отговорить? Он не может допустить, чтобы девушка платила за себя, а тем паче – угощала его, а денег жалко. Показать же этого никак нельзя – женщины не любят жадных. Ох как не любят!
А кто их любит? Мужчины, что ли?
– Вниманию пассажиров, вылетающих в Париж рейсом 169. Администрация аэропорта приносит вам свои извинения за вынужденную задержку рейса и просит пройти в буфет. Вам будет предложен легкий завтрак.
Ух ты! Да это настоящий подарок судьбы!
– Вот вам и буфет! – радостно воскликнул Кирилл. – Здорово!
– Да уж, прямо европейский сервис. Только насчет завтрака – это они опоздали. Сейчас уже время обедать.
– Ладно, пусть это будет второй завтрак, – покладисто согласился Кирилл. – Пошли в буфет?
– Пошли!
Буфет, размещенный на втором этаже, оказался маловат и не смог, понятное дело, вместить всех пассажиров. Половина расселась за столиками, половина осталась ждать своей очереди.
Кириллу и Арине повезло. Они успели занять места. Неподалеку от них очутился тот самый, в джинсовой куртке, который толкнул Кирилла, и он волей-неволей порою косился на этого человека, но уже отказался от мысли вспомнить, где видел его раньше. У него вообще была плохая зрительная память.
«Эриксон» Арины снова зазвонил. Она виновато улыбнулась, и Кирилл, чтобы не смущать ее вниманием, начал глазеть по сторонам.
Две официантки с невероятной скоростью раздали сидящим по упаковке сыра «Виола», вишневому йогурту «Фрутис», крошечной пачке печенья и запечатанной в целлофан сосиске на ломтике черного хлеба и еще выдали одноразовую ложку и маленький брикетик с соком.
Кто-то возмущенно бухтел при виде этой так называемой еды, кто-то решил не отказываться от халявы, пусть и столь скудной. Честно говоря, Кирилл был из числа последних, он уж совсем было собрался распечатать целлофан, но вовремя бросил взгляд на возмущенное лицо Арины. И отдернул руки от сосиски, как будто ее заминировали.
– Это не завтрак, а подачка! – сердито сказала Арина. – Нет, совки навсегда останутся совками, это у нас в крови.
Она огляделась, поливая откровенно презрительным взглядом тех, кто поглощал совковую еду. Многие делали это не без аппетита, и Кирилл завистливо вздохнул. «Может, хоть сыру поесть? И йогурт?» – подумал он, опасливо оглядываясь на Арину.
Нет, вряд ли удастся, не уронив своего престижа. Вон какая хмурая сидит! Уставилась в одну точку. На кого это она смотрит? Да на того наглого дядьку-толкача. Он не стал есть этот хилый «завтрак аристократа», а пробирается между тесно стоящими столиками к выходу. И вот на его место проворно устремилась какая-то обширная особа в вязаной кофте и косынке.
С ума сойти! Чтобы в таком виде отправиться в Париж – надо вообще без мозгов быть! А как она набросилась на сосиску! Будто сроду не ела!
– Странно… – пробормотала в эту минуту Арина. – Очень странно!
– Что именно? – спросил Кирилл, радуясь возможности отвлечься от этой несчастной сосиски. Черт, и смотреть-то не на что, фиговинка какая-то, а слюнки текут.
– Да тот человек, который вас толкнул… Он знаете что сделал сейчас?
– Не стал есть? Пошел в выходу?
– Это само собой. А по пути… он вынул из кармана сотовый телефон и положил его в сумку вон той женщины.
Она незаметно, подбородком, указала Кириллу на маленькую полненькую брюнетку в дорогой куртке и тяжелых серьгах, которые сверкали так, как могут сверкать только бриллианты. Ее пухлые пальчики также были унизаны бриллиантами, и сосиска (все ели эти презренные сосиски, все оказались совками, даже дамы в бриллиантах! Не выдержали проверку халявой!) смотрелась в них чем-то несусветно нелепым. Рядом на полу стояла небрежно приоткрытая дорожная сумка с надписью «Nina Ricci».
А что? Судя по этим бриллиантам, очень может быть, что самая настоящая «Нина Риччи»!
– Телефон туда сунул? – не поверил Кирилл. – Зачем?
– Если бы я знала!
– А вам не показалось?
Арина только хмыкнула.
– А может быть, это ее собственный телефон? Может, она давала этому мужику позвонить? – не унимался Кирилл.
Арина посмотрела на него, как на дауна.
– А почему он не отдал ей аппарат из рук в руки, на стол не положил, а украдочкой опустил в сумку? Молчком, втихаря? И немедленно смылся!
– Да куда он денется? Сквозь таможенный контроль он обратно уже не пройдет, – успокаивающе сказал Кирилл. – И все-таки мне кажется, это вам почудилось.
– Сейчас вы скажете: когда чудится – крестятся, да? – зло зыркнула на него Арина. – Говорю же: мне ничего не показалось! Я видела, видела это, понятно? Своими глазами! И мне знаете что это напомнило?
– Ну, что? – терпеливо и ласково, как если бы разговаривал с маленькой девочкой, спросил Кирилл.
– Один фильм. Американский, про террористов. Там вот точно так же парень незаметно подсунул в аэропорту в сумку кому-то мобильный телефончик, а потом через пару часов набрал номер, раздался звонок – и самолет взорвался в воздухе. Телефон был не телефон, а радиоуправляемое взрывное устройство, понятно?
– С ума сошла! – пробормотал Кирилл, от растерянности незаметно переходя на «ты». С другой стороны, давно пора!
– Ничуть, – фыркнула Арина. – Ты можешь оставаться спокойным после всего, что я сказала? Нет. Ну а я это видела! Видела!
– И что предлагаешь?
– Секьюрити сообщить! Здешним ментам.
У Кирилла вдруг забурчало в животе. Но это не от тоски по сосиске. Со вчерашней ночи у него начиналось несварение желудка при одном только упоминании о милиции.
– Погоди, – примирительно пробормотал он. – До посадки дело еще не дошло. Мы даже паспортный контроль не прошли. Давай пока незаметно за тем дядькой понаблюдаем – и за этой женщиной. Может, они тайные любовники и обмениваются посланиями с помощью телефона. Пишут эсэмэски, читают…
Он сам удивился чепухе, которую сказал.
– Да ты романтик! – с жалостью поглядела на него Арина. – А звонить друг дружке – это им слабо? Ладно, как скажешь. Давай последим за этим типом. Но только учти: если в том фильме взрывали самолет, то это не значит, что нельзя в сходных условиях взорвать и аэропорт!
– Типун тебе на язык! – пробурчал Кирилл. – Но этот дядька не похож на камикадзе, а значит, до тех пор, пока он находится в поле нашего зрения, никакого взрыва быть не может, верно?
– Ну, предположим, – с сомнением протянула Арина. – Он и правда еще здесь, вон, внизу ходит… Секундочку! Что это с ним?!
Они сидели как раз у ограждения и поэтому все, что происходило внизу, на первом этаже, прекрасно видели. Поскольку народ в основном толпился на лестнице около буфета, внизу было практически пусто. Человек пять, не больше. Одним из этих пяти оказался «толкач». Он стоял, покачиваясь с пятки на носок, задумчиво глядя в пространство. Потом изменил амплитуду колебаний и принялся качаться из стороны в сторону. Затем вдруг рухнул на колени и неуклюже завалился на бок. Голова его моталась из стороны в сторону, а руки и ноги молотили по полу. Видевшие это люди замерли, недоумевающе и испуганно уставившись на «толкача». Он нещадно бился о пол, а из его рта вдруг поползла пена.
– Припадок! – закричал кто-то. – Звоните в «Скорую»!
Теперь и сидящие на втором этаже заметили, что происходит. Интерес к халяве был на какое-то время утрачен, все прихлынули к перилам и жадно таращились вниз.
– Падучая, – пробормотал кто-то над ухом Кирилла. – Эпилепсия! Точно говорю, я такие штуки уже видел. Бедолага!
– Хорошо, что рейс отложили, – раздался женский голос. – А если бы с ним это в самолете случилось? Там же ни врача, ничего! А тут…
«А тут» происходило следующее. Осанистый парень со значком «Служба безопасности» на лацкане пиджака, стоявший доселе у дверей со скучающим видом, поспешно направился к «толкачу», что-то быстро говоря в мини-рацию. Буквально через минуту в зале появились мужчина в темном костюме и еще один охранник со значком. Парни без особых усилий подхватили «толкача» под руки и поволокли к выходу. Мужчина в темном костюме поднял голову, увидел нависших над перилами пассажиров и напряженно улыбнулся.
– Господа, пожалуйста, не напирайте на перила! – крикнул он. – Если рухнут, больно будет падать.
Какое-то мгновение все стояли оцепенев, потом разом отхлынули назад.
– Спасибо! – выкрикнул человек в костюме и удалился. И это были все комментарии, которых удостоилось случившееся событие.
«…Согласно заключению экспертов, оттиск печати на загранпаспорте на имя Шевелевой М.М. 44 № 1933107, который, по данным УВД, значится как утерянный, поставлен с использованием двух печатей. Та часть оттиска, которая имеется на бланке заграничного паспорта 44 № 1933107, проставлена с той же печати, что и представленный образец оттиска печати «Для заграничных документов УВД – 230». Та часть оттиска, которая имеется на фото, не соответствует образцу, то есть проставлена с другой печати. Фотография на паспорте не является первичной. Имеются следующие признаки ее переклейки: наличие под ней на бланке приклеенных остатков белой бумаги, не принадлежащих вклеенной фотографии; частичное повреждение защитной сетки листа бланка, образованное в результате обрыва поверхностного слоя; монтаж печати, полученный в результате переклейки фотографий.
Фотография на загранпаспорте Шевелевой М.М. принадлежит Каретниковой Л.А. Подпись на бланке проставлена рукой Шевелевой М.М.
Выводы по экспертизе загранпаспорта на имя Чепыжиной В.А. с наклеенной фотографией Волковой Т.Н. и загранпаспорта на имя Кулик И.Ф. с наклеенной фотографией Свербеевой А.П. аналогичны вышеизложенным».
Александр Бергер,
28 сентября – 1 октября 200… года, Нижний Новгород
Бюро начинало работать с девяти утра, однако его открывала секретарша директора, а он сам и остальные сотрудники приходили к десяти, некоторые – к одиннадцати. Бергер по натуре своей был ранней пташкой по имени жаворонок и сначала появлялся на работе одним из первых, одновременно с секретаршей или сразу вслед за ней. Из этого девушка сделала ошибочный вывод. Она решила, что скромный и сдержанный Александр Васильевич влюбился в нее и приходит раньше всех потому, что жаждет без помех любоваться ее хорошенькой мордашкой. То, что кабинет Бергера находился в другом конце коридора и, засев там, он выходил только в туалет или если надо было ехать по какому-то расследованию, девушку ничуть не обескураживало. «Стесняется даже смотреть на меня, – убеждала она себя и подружку, которая занималась в бюро компьютерным набором. – Готов на все, только бы одним воздухом со мной дышать! Видела, последнее время еще больше похудел? Сохнет он по мне, сохнет!»
Именно подружка и оказалась сорокой, которая разнесла информацию о робко сохнущем Бергере по всему бюро. Больше всех этой вести удивился он сам. Кем-кем, но влюбленным в пустую болтушку он себя совсем не ощущал. Он даже не считал ее хорошенькой! Впрочем, Бергер не был ни знатоком женщин, ни тонким ценителем их красоты. У него случались иногда, раза два-три в месяц, встречи с замужней дамой, муж которой слишком увлекался своим бизнесом и которая искала в объятиях и поцелуях то же, что и Бергер: разрядки от опостылевшей обыденности. Между прочим, именно от этой дамы он и возвращался тем вечером, когда некстати забрел в парк Кулибина. Муж, как водится, уехал в командировку, вот и возник повод для встречи. Оба получили то, что хотели, но и намека на сердечную привязанность между ними не возникло. Никогда не возникало. Вспышка нежности, влечение – и все. И довольно!
Кстати сказать, Бергер вообще думал, что не способен влюбиться. Последний раз он пережил нечто подобное любви к женщине, которая недавно погибла. Более того, он ее никогда не видел живой. Только фотографии, какие-то видеозаписи. Он влюбился в образ, который составил себе из разговоров с ее двумя мужчинами.
Один ревниво, злобно любил ее, другого невыносимо, смертельно любила она – и оба равно постарались довести ее до самоубийства. Нет, не по злобе! По любви! Бергер ревновал, жутко ревновал ее к обоим. Конечно, у него это была не настоящая любовь, да и не вполне нормальная ревность. Он просто завидовал тем, кто способен на самозабвенное, безрассудное чувство, презирал себя за суровую рассудочность, тайно мечтал сделаться объектом такой же невероятной любви, а главное, хотел влюбиться сам – чтобы голову потерять, чтобы ночей не спать, мучиться, плавить лбом оконное стекло, «с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику…» совершенно так, как писал ныне сосланный в забвение Маяковский, которого Бергер почему-то очень любил. Не за это: «Пулей в гущу по оробелым!» – а вот за это: «Хотите, буду от мяса бешеный? И, как небо меняя тона, хотите – буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах?»
Но отнюдь не секретарша директора бюро могла возбудить в нем такое чувство. Поэтому, чтобы смикшировать возникшее недоразумение, Бергер начал приходить на работу попозже: к десяти, а то и к одиннадцати. «Брошенная» секретарша сначала дулась на него, а потом, по присущей всему ее полу и ей лично добродушной легкомысленности, переключила свои ветреные чувства на другого «жаворонка».
После приключения в парке Кулибина Бергер не мог уснуть чуть ли не до четырех часов. Все думал, думал, гнал дурные мысли, ворочался, ругал себя, свою жизнь и нелепую судьбу… Наконец он уснул – и открыл глаза только в половине одиннадцатого. Пережив мгновение острого стыда за свою сонливость, вспомнил, что сегодня – суббота, а значит, выходной. И завтра выходной!
Оба эти дня он провел в Семенове, где у него была служебная квартира. Теперь ее надо освободить – ведь Бергер окончательно перебрался в Нижний. Он разбирал вещи, кое-что крайне необходимое уложил в сумку на колесиках – поднимать тяжести ему пока что возбранялось врачами. Слушал любимого Чайковского (у него была хорошая подборка дисков и отличный проигрыватель), думал. Не о любви думал, хотя музыка располагала мечтать именно о страсти нежной. Думал о погибшем Симанычеве.
Разгадка его смерти была для Бергера очевидна. Зарвался мужчина (наверняка вскрытие обнаружит следы алкоголя), слишком увлекся, напористо перешел в наступление. А женщина не была готова к таким маневрам. Не готова сдаться! Испугалась – и брызнула ему в лицо из газового баллончика. Бергер слышал о таких случаях непреднамеренного убийства: у жертвы либо аллергический криз – ну, аллергия у него на перец, к примеру, – либо приступ астмы. Девушка убегает, даже не узнав, что превысила пределы необходимой обороны… Почти наверняка то же было и здесь.
Почти наверняка… Смысл слова «почти» заключался для Бергера в том, что хозяин Финта видел высокую женщину с пышной прической. Именно на такую женщину Симанычев с ненавистью смотрел в театре. Хотя… не факт, что это она. Может быть, совпадение. Мало ли непричесанных женщин на свете! В любом случае, судя по тому, что рассказывает хозяин Финта, она защищалась от Симанычева. Надо же, с виду такой спокойный человек, а до чего страсть довела! Нет, наверняка он сильно выпил, вот и…
Может быть, оттого, что не был занят никаким конкретным делом и голова томилась от бездействия, Бергер никак не мог отделаться от размышлений о Симанычеве. Так голодный пес снова и снова грызет давно обглоданную косточку, желая обмануть пустой желудок. Бергер пытался обмануть изголодавшийся по работе разум, снова и снова вспоминая о Симанычеве. Снова и снова мысленно проигрывая ситуацию: вот женщина вырывается что было сил (в пылу борьбы барсетка отлетает в сторону), потом брызгает охамевшему кавалеру в лицо из баллончика, отскакивает и убегает… возможно, в ярости или просто случайно поддав барсетку носком так, что она отлетает на газон, откуда ее и притащил Финт.
Вряд ли она намеревалась ограбить Симанычева. Деньги на месте, паспорт… Да и барсетка была закрыта на «молнию». Или нет? Он не мог вспомнить, как ни старался. Хотя… какая разница?
И все-таки он никак не мог успокоиться. Вдруг его осенило, что в этой барсетке чего-то не хватало – чего-то, что непременно должно было в ней оказаться.
Чего?! Бергер не мог вспомнить. И перестать думать не мог. Честно говоря, дошел до такой дури, что, вернувшись на электричке в Нижний, сел на вокзале не в 34-ю маршрутку, которая подвозила его прямо к дому, а с пересадками добрался до улицы Горького и снова прошел через парк Кулибина. Не сразу нашел ту аллею, а когда нашел, только головой покачал, увидев на асфальте очерк человеческого тела, нарисованный мелом. Ага, значит, после его ухода опергруппа раскачалась-таки, дело закрутилось как надо! Вот и славно, вот и не о чем беспокоиться, можно обо всем забыть до получения повестки от следователя. Теперь есть у кого болеть голове как насчет открытой или раскрытой барсетки, так и насчет всего остального.
Бергеру и в самом деле удалось отвлечься от мыслей о Симанычеве – но только до утра понедельника. Потому что первое, что он увидел в вестибюле здания, где по соседству со множеством других офисов располагалось их бюро, был портрет Симанычева. Большая фотография в черной рамочке на фоне белого листа сразу привлекала внимание. Текст внизу: Симанычев Геннадий Валерьевич, трагическая гибель вырвала из наших рядов… нормальная формулировка, и очень верная, кстати сказать; незаменимый сотрудник, верный товарищ, замечательный человек… выражаем соболезнования родным покойного. Про семью ни слова, наверное, Симанычев был одиноким. Кстати, вчера, перелистывая паспорт, Бергер не обнаружил ни штампа о браке, ни вписанных в документ имен детей, но вспомнил об этом только сейчас.
Вот те на, удивился Бергер. Значит, они работали в одном здании. Теоретически вполне могли бы столкнуться на лестнице, в лифте, в вестибюле, в одном из трех расположенных на первом этаже кафе, а встретились в оперном театре. Забавно.
Слово было не то, конечно, оно совершенно не подходило к ситуации, и Бергер почувствовал мимолетный прилив стыда. Интересно, где он работал, Симанычев? В объявлении о его смерти это, конечно, написано, но разглядеть мелкие буквы близорукий Бергер издалека не мог, а подходить ближе и приникать носом к траурному плакату было как-то неловко. Вдобавок у фотографии все время толпился досужий народ: смерть – штука привлекательная.
Бестолково потоптавшись, Бергер подошел к газетному ларьку. Продавцом здесь был высокий и красивый усатый дяденька с замашками кадрового кагэбиста. На самом деле он был не сыскным псом, а морским волком – точнее сказать, речным. Служил некогда капитаном на судах типа «река—море», ходил из Нижнего прямиком через Волго-Дон аж в Турцию. Выйдя на пенсию, все так же крутился на речфлоте, ну а по осени, когда навигация заканчивалась, пристраивался продавать газеты в этом здании бывшего проектного института. Бергеру дядька очень нравился, может, потому, что был тоже наполовину немец, а может, просто своей поджарой и моложавой статью: не скажешь, что человеку да-авно за семьдесят! Именно поэтому Бергер про себя называл симпатичного капитана «железный Генрих», как в сказке братьев Гримм.
– Гутен морген, Генрих Францевич, – сказал Бергер. – Гутен морген!
– И вам того же, – кивнул капитан. – Хотя какой уж тут морген? Уже до абенда недалеко! Долго спим, молодой человек!
Генрих Францевич называл так всех мужчин младше его, ну а женщин, вне зависимости от возраста, – барышнями.
– Ничего, наша вахта не нормированная, отстоим как-нибудь, – усмехнулся Бергер, вынимая из кармана пятак. – «Комсомолка» субботняя еще осталась? Отлично, дайте номерок. А что тут случилось, не в курсе? – кивнул он на портрет. – У кого покойник?
– Городская жилищная инспекция понесла невосполнимую утрату, – без малейшего оттенка иронии произнес «железный Генрих».
– Понятно, – кивнул Бергер, забирая газету. – Ну, спасибо за информацию.
И он повернулся уйти, как вдруг «железный Генрих» проговорил – негромко, как бы про себя:
– Вовремя ушел человек.
– Куда? Кто? – не понял Бергер, глядя на дверь, однако «железный Генрих» смотрел на портрет Симанычева. – Вы о нем? Он ушел вовремя? В смысле, умер вовремя? Почему?
«Железный Генрих» смотрел хитровато. Он что-то знал – мужик был наблюдателен, а стоя с утра до вечера в вестибюле этого человеческого муравейника, многое можно увидеть! – и очень хотел поделиться этим знанием: ведь с возрастом страсть к осмыслению и оценке человеческих слабостей, именуемая в народе желанием посплетничать, обостряется не только у женщин. Однако пока молчал и щурил глаз.
Бергер понял, что «железный Генрих» нуждается в поощрении. Он снова поглядел на разложенные на прилавке газеты и взял сборник скандвордов. Сам Бергер их не выносил, считал порождением не интеллекта, а дури, но скандворды любила та женщина, с которой он иногда встречался. К ее слабостям он относился снисходительно, а потому иногда покупал ей такие газетки.
Отсчитывая сдачу, Генрих чуть наклонился вперед и сказал:
– Говорят, несчастный случай. Где там! Покончил с собой мужик.