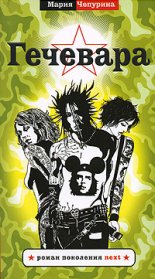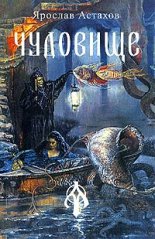Прекрасна и очень опасна Арсеньева Елена
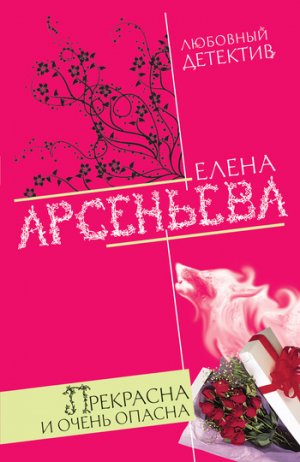
Только тут Лида решилась сдвинуться с места и обойти Костю.
Сергей лежал на спине – руки вытянуты вдоль тела; на груди, обтянутой свитером, – плеер: проводок тянется к наушнику-ракушке. Волосы откинуты со лба, белое-белое лицо, слегка улыбающиеся губы, спокойно опущенные веки. Голова его чуть повернута – ровно настолько, чтобы изуродованная щека оказалась прижата к подушке, и Лида видела его четкий профиль с хищным горбатым носом и лбом, который казался подчеркнуто высоким и чистым. Подбородок, и без того сильный, был сейчас еще немного выпячен, и лицо Сергея имело то дерзкое, немного насмешливое выражение, которое Лида так хорошо помнила. Это было обычное его выражение – раньше, давно, восемь лет назад – до их ссоры, до их взаимного отчуждения, ее отъезда – и их разлуки.
Их вечной разлуки…
Боже мой, за эти годы Лида успела забыть, как же красив, картинно красив был ее брат, забыла изысканную лепку его черт, потому что тот человек, который несколько дней назад пришел к ней и робко попросил приюта в собственном доме, оказался так изуродован, так изможден, что невозможно было узнать в нем былого красавца. Только смерть вернула лицу Сергея то, что отняла у него жизнь!
Она сначала подумала о смерти, а потом только осознала, что Сергей-то мертв. Повела глазами по выстуженной кухне – и взгляд ее сразу ухватил задвинутую печную вьюшку. Эти бутылки на столе… Он опьянел, слишком рано задвинул вьюшку и…
Как же это может быть? Как? Но ведь они даже не успели ни о чем поговорить, она так и не набралась храбрости спросить у него, почему, как так вышло, что он убил Валерия Майданского и угодил в тюрьму?! Она не спросила, что же произошло там, на зоне, что стало причиной его увечья: несчастный случай, злой умысел? Она не успела рассказать ему, как…
– Сережа? – спросила она высоким, дрожащим, детским голосом. – Сережа, ты где?!
Спросила так, словно искала его и не могла найти, – как было раньше, безумно давно, в детстве, когда они играли в прятки в этом самом доме. Здесь тогда еще было электричество, но они нарочно выключали его во всем доме. Только в печке на кухне – в этой вот самой печке! – пляшут красные огоньки за тяжелой чугунной дверкой, пахнет сосновой смолой и горячей пшенной кашей. Тетя Сима уже спит в своей боковушке (она их страсть как любила, эти крохотные комнатенки, и нарочно выгородила такую боковушку даже в городской квартире, в крупноблочных двухкомнатных хоромах), спит крепко-крепко, иногда принимается храпеть, и эти рулады порою даже заглушают треск промороженных дров в печке. Лидочка радуется, когда раздается теткин храп: она знает, что Сережа не может его слышать без того, чтобы не расхохотаться, и прислушивается, навостряет ушки: не донесется ли откуда-то сдавленный хохоток, не выдаст ли, где спрятался брат? Но он сдерживается, молчит, затаился так, словно его и нет нигде вовсе. И Лидочка вдруг воображает, что брат украдкой сбежал – тихонько оделся и подался в соседние Кукушки, например, где танцы в клубе и кино, а потом все идут к девчонкам в общежитие и там занимаются с ними неизвестно чем, так что тетя Сима при одном только упоминании об этом общежитии начинает булькать, как выкипающий чайник…
Брат ушел… но что это шуршит за печкой? Запечник, который вылезет в ночи и начнет навевать страшные сны? Или шорох раздается из подполья? Наверное, сейчас как раз подполяник празднует свадьбу своей дочери, а ведь она была украдена им из колыбели, когда мать оставила ее без присмотра… говорят, подполяники крадут девочек, которые остаются дома одни. А Лидочка сейчас одна!
– Сережка, ты где?! – кричит она, с трудом сдерживая слезы, но они уже звенят в голосе и вот-вот потекут по щекам, и вдруг зловещее шуршанье под полом прекращается, из-под печки выбирается толстенный теткин кот Малофей, а сверху, с полатей, сваливается… Сережка!
– Ну чего ты, ревушка-коровушка? – спрашивает он своим снисходительно-взрослым, невыносимо-противным и обожаемо-родным голосом, беря Лидочку за косичку, связанную калачиком на затылке, и легонько подергивая за нее. Лида подныривает брату под мышку и утыкается лицом в худой бок (ребра пересчитать можно!).
Как хорошо… Как спокойно…
Как давно это было и не вернется никогда! Полати порушены… вся жизнь изменилась бесповоротно! Вот что самое ужасное: не вернуть ничего, и прощения не попросить, и не погладить изуродованное, исстрадавшееся лицо… то есть погладить-то можно, но ведь брат не ощутит ее ласки. И не услышит отчаянного крика:
– Сережка, ты где?!
Не услышит и не отзовется. Ни-ког-да.
Лида почти не помнила, как избыла тот день. Вроде бы Костя не позволил ей остаться возле мертвого брата, увел с собой, в «Ниву», брошенную ими около магазина. Сели ждать. Молчали, молчали… Приехала милиция – скоро или нет, Лида не осознавала. Наверное, скоро, потому что было еще светло, солнце в зените, когда они все вместе, гурьбой, вернулись в теткину избу. Лида пыталась сосчитать, сколько народу приехало, но почему-то никак не могла: оперативников было то двое, то трое, а то вообще пятеро. Они вместе в Костей положили Сергея на две доски и унесли в машину: подъехать-то было невозможно. Сказали, что увезут в морг, на вскрытие, хотя все в один голос говорили, что и так картина ясная: угорел, мол, парень – перепил и угорел. Может, конечно, траванулся водкой, но, скорей всего, она окажется нормальной, а вот гемоглобин покажет наличие угарного газа… Потом писали какие-то бумаги – тут же, на углу стола. Костя все их читал и говорил Лиде, где ставить подпись, если нужно, – она по-прежнему ничего не соображала.
Удивительнее всего было, что того слова, которое мрачно, тёмно, настойчиво билось ей в уши вместе с толчками взбудораженной крови, мешая слышать все окружающие звуки, – этого слова так никто и не произнес. Лида сначала едва не зарыдала оттого, что приехали какие-то недоумки, которые не видят очевидного: Сережа ведь не просто так угорел по пьянке, он с собой покончил, это ей было сейчас ясней ясного, а Клавдия Васильевна и Константин это еще вчера, выходит, подозревали!
Потом вдруг до нее дошло, что и оперативники, и следователь молчат вовсе не потому, что ничего не видят и не понимают. Они жалели ее – жалели сестру несчастного самоубийцы…
Наконец кто-то объявил, что все дела сделаны и пора уходить. А жуткое слово «самоубийство» так и не было произнесено.
Ушли все, кроме следователя да Кости с Лидой. Прошлись еще раз по комнатам, проверили, все ли заперто. И уже перед самым уходом заметили под диванчиком плеер – тот самый, незаметно соскользнувший с груди Сергея.
Костя его поднял. Следователь открыл его, увидел, что внутри стоит кассета. Перемотал пленку – она была короткая, такое впечатление, всего на пару-тройку записей, включил, вложив в уши «ракушки», предварительно протерев их – не без брезгливости – носовым платком.
Изумление на его лице сменилось странной тоской, а потом каким-то озлобленно-трогательным выражением.
– Да так, ничего особенного, – сказал он, выключая плеер. – Песня душевная. Плеер я заберу – мало ли, вдруг это вещдок. В протокол его внесли, не помните?
– Внесли, – кивнул Костя. – Погодите, а что там за песня?
– Послушайте, – разрешил следователь.
Костя приложил к ушам «ракушки», и Лида уставилась на его лицо. Она постепенно выходила из ступора и сейчас вдруг с неожиданной остротой осознала, что видит на лице Кости ту же смену выражений, какую наблюдала только что на лице следователя.
Странная ревность одолела ее. Что узнали эти мужчины о ее мертвом брате – чего еще не знала она? Что за музыку слушал он? Раньше, помнится, любил «Машину времени», «Энигму», «Бони-М» и Розенбаума, а еще Чайковского любил, «Лебединое озеро» и Первый концерт для фортепьяно с оркестром. Кого из них позвал Сережа, чтобы сопроводили его в последний путь?
– Может, послушаешь, Лида? – Костя протянул ей плеер.
Она взяла, прижала магнитофончик к себе – неужели его заберут? Он потеряется там, в милиции, не исключено, его кто-нибудь присвоит, а вообще-то его можно положить в могилу с Сережей. Мысль о грядущих похоронах брата стала уж просто каким-то coup de grвce[2] – контрольным выстрелом, по-нынешнему выражаясь. Чувствуя, что если сейчас расплачется, то уж не сможет остановиться, Лида с силой воткнула в уши «ракушки», с силой нажала на play.
Короткий проигрыш – и зазвучал женский голос, чуть хрипловатый, словно бы сорванный, неровный, тревожный:
- Кружится снег – зима пришла опять,
- Закат в крови – и жизнь к закату мчится.
- Теперь настало время вспоминать
- Тебя, моя прекрасная волчица!
- Настало время вспоминать теперь
- Тебя, царица, в тысяче обличий.
- Матерый волк, вожак, отважный зверь
- Всегда считал тебя своей добычей.
- И лебеди летели на восход,
- И клекот ястребиный в небе таял,
- И мчался по реке последний лед —
- И я увел тебя из волчьей стаи.
- Навеки отражен в глазах твоих,
- Навеки опьянен тобой, волчица…
- Мы обрели свободу для двоих
- И поклялись навек не разлучиться.
- Опять пришла зима белым-бела.
- Я одинок в снегах земного круга.
- Скажи, зачем судьба нас развела
- Так далеко-далёко друг от друга?
- С тех пор я навсегда в твоем плену.
- Взошла луна. Снег под луной кружится.
- И волчья стая воет на луну…
- Я умираю, красная волчица!
20 декабря 2002 года
Лида продолжала нажимать на кнопку, словно боялась, что лифт не послушается и поедет назад, к этому черному мрачному взгляду исподлобья, к этому твердому рту и чуть подавшейся вперед в нетерпеливом ожидании фигуре убийцы.
Мельком удивилась, что Лола не возмущается, почему это ей не дали выйти из лифта. И вдруг заметила, что она тоже давит на кнопку – правда, не пятого, а четвертого этажа.
«Что-то забыла?»
Спрашивать Лида не стала – боялась не справиться с голосом. Да это и неважно было.
Четвертый этаж. Лола выскочила и, не простившись, не сказав ни слова, побежала по коридору мимо череды дверей. Лида снова нажала на кнопку с цифрой «пять», подумав при этом, что внизу на табло сейчас высветилась четверка, и если убийца вздумает ее выслеживать, то искать будет именно на четвертом этаже. Небось решил, что она поехала туда…
Лидино воображение, подстегнутое страхом, вышло из-под контроля. Сейчас ей казалось возможным все самое невероятное: вот убийца отшвыривает в сторону охранника, который пытается его остановить, и даже выпускает в него пулю, то же делает с другим охранником, выбежавшим на шум из подсобки, перескакивает через турникет – и кидается к лифту.
Нет, лифт надо еще вызвать и дождаться, это долго. Он распахивает стеклянную дверь, ведущую на лестницу, и мчится через две, три ступеньки, хватаясь за перила и швыряя тело вперед и вверх, так что движется быстро, быстро, быстрее и не бывает… как пуля!
Пятый этаж! Лифт остановился, дверцы распахнулись. По Лидиным расчетам, убийца был сейчас где-то на втором этаже, может быть, приближался к третьему. Пока доберется до четвертого, пока обежит его, пока удостоверится, что жертва ускользнула… У нее есть пара минут!
Выскочила из лифта и, бросив затравленный взгляд в сторону стеклянной двери, ведущей на главную лестницу, побежала по периметру этажа, приближаясь к обычной неприметной двери, над которой в былые времена светилась надпись «Запасной выход», а потом лампочка перегорела, вкрутить новую руки ни у кого не доходили годами, поэтому о том, что существует еще одна лестница, знали только старожилы студии, ну и народ особо любопытный. Вроде Лиды Погодиной.
Лестница выводила не в вестибюль студии (хотя, если убийца оттуда убежал, там, может быть, как раз безопасно, а ну как не убежал, а ну как караулит по-прежнему?!), а во внутренний двор, где стояли гаражи и технические постройки. Ворота этого двора были всегда заперты, однако Лида не сомневалась, что как-нибудь выберется. Вроде бы в ангаре, где стояла громадная неуклюжая ПТС (передвижная телевизионная станция), есть калитка, которая выходит на боковую аллейку парка Пушкина. Лида уговорит дежурного ее отомкнуть, уговорит непременно, но сначала надо туда добраться!
Она рванула дверь запасного выхода, выскочила на площадку и кинулась вниз по ступенькам. И пробежала не меньше этажа, прежде чем расслышала сквозь свое запаленное дыхание частую дробь чужих шагов.
Ноги подогнулись. Как она не подумала, что на четвертом этаже тоже есть выход на эту же самую запасную лестницу! И там-то, над дверью, кажется, табличка в порядке. Убийца обежал этаж и мигом смекнул, что жертва попытается спастись через черный ход.
И теперь бежит вниз, чтобы отрезать ей путь к спасению!
У Лиды подогнулись было ноги, но в этот миг логичность мышления, всегда бывшая ее самым сильным качеством и непременно помогавшая в трудные минуты жизни, робко приподняла задавленную слепым, безрассудным страхом голову и вопросила: «А не глупость ли это?» В смысле, не глупость ли – бежать убийце вниз, вместо того чтобы перехватить жертву на лестнице? Ведь если беглянка почует опасность, то запросто улизнет на тот же четвертый этаж, или на третий, или на второй, а тогда успеет выбраться из студии прежде, чем терминатор местного разлива спохватится!
А может, это вовсе даже и не он несется там впереди?
Лида приостановилась и свесилась в пролет. И в ту же секунду различила внизу тонкую руку, сжимающую красные варежки и скользящую по перилам. И поняла, кто это, еще прежде, чем снизу на нее поглядело бледное личико Лолы.
При виде Лиды она замерла, повисла на перилах, с усилием переводя дух, и Лида через минуту поравнялась с ней. Темные, яркие глаза Лолы казались огромными на помертвевшем лице, взгляд испуганно метался, алый рот приоткрылся, и Лида с привычной завистью подумала, что Лола обладает редкой красотой: ее не портит даже испуг, даже следы недавно пролитых слез, у нее даже веки после рыданий не опухли, и макияж умудрился каким-то непостижимым образом не размазаться! Она была гораздо больше похожа не на перепуганную женщину, а на актрису, которая играет перепуганную женщину.
А между прочим, с чего бы это Лоле пугаться?..
И стоило Лиде подумать об этом, как логика вновь высунула голову из-под пуховых подушек страха и спросила: «А зачем этот кошмарный парень, от которого ты так панически спасаешься, вообще притащился на студию? Почему, если он так уж обуреваем желанием убить тебя, не сделал этого там, в квартире Ваньки с Валькой, тихо и спокойно, без риска, без посторонних, а собирался учинить смертоубийство на глазах охранника и Лолы? Спохватился, что оставил свидетельницу, которая видела его и может описать? Не поздновато ли спохватился? И вообще, откуда он узнал, где ты работаешь? А может быть, он пришел на студию вовсе не за тобой? А за кем тогда?..»
И тут догадка ужалила ее, как пчела!
– Лола, кто этот парень? – спросила она как бы между прочим.
Лола споткнулась и кубарем покатилась бы с лестницы, если бы не успела ухватиться за перила.
– Како-ой па-арень? – простонала она, заикаясь, таким голосом, словно преодолевала дурноту, подступающий обморок.
– Тот, который ждал около лифта. Тот, от которого ты бежишь. Кто он такой? – настойчиво повторила Лида.
Какого угодно ответа она ждала, только не того, который последовал!
– Это мой жених, – упавшим голосом сказала Лола.
Ее жених?!
Теперь настала очередь спотыкаться Лиде… На счастье, они были уже на первом этаже, так что ноги переломать она не рисковала. Здесь не горела лампочка, и дверь пришлось искать на ощупь. Кое-как, мешая друг другу и сталкиваясь руками, нашарили ручку, кое-как сообразили, куда ее поворачивать, чтобы открыть, – и наконец-то выскочили во двор.
– Гос-споди, – простонала Лола, – какой колотун! Побежали скорей!
Девушки ринулись по двору, причем Лола чуть впереди, а Лида отставала, не зная, чему больше дивиться: тому ли, что Лола ее ни о чем не спрашивает, как бы априори допуская, что ее жених – сущее пугало, от которого должны кидаться врассыпную все нормальные люди; то ли тому, что эта молодая актриса, гость на студии телевидения редкий, так хорошо знает местные закоулки. Сначала запасную лестницу отыскала, а теперь безошибочно ведет Лиду к тому самому хитрому гаражу, в котором имелся выход в парк Пушкина… Что характерно, Лоле даже не пришлось стучаться, спрашивать у кого-то разрешения: с уверенностью завсегдатая она отыскала какую-то дверцу, пробежала по темному, гулкому, выстуженному, пахнущему бензином помещению, в центре которого громоздилась громадная, застывшая ПТС, и мгновенно нашла нужную дверь. Та была заложена могучим засовом, словно ворота какого-нибудь амбара, однако Лола, поднатужившись, смогла его отодвинуть – и через минуту они выбежали на тропку, ведущую куда-то в глубь парка.
Лида оглянулась: дверь-то в гараж осталась незапертой! По идее, надо бы сообщить об этом охране, но как это сделать, интересно? По телефону позвонить? Но свой мобильный она сегодня забыла дома, а у Лолы неведомо, есть он или нет. Можно спросить… но слишком многое надо было Лиде спросить у этой загадочной красотки, чтобы тратить время на какой-то мобильник!
Ладно, доберется до дому и позвонит на студию. Авось ничего страшного в третьем часу ночи тут не произойдет. А произойдет – ну что ж, сами хозяева виноваты, надо покрепче двери запирать. Чтобы две ошалевшие от страха девицы не смогли с ними справиться!
А вот, кстати, – насчет ошалевших от страха… Созрел первый вопросик для Лолы: с чего это она так перепугалась, увидев любимого жениха?
Но спросить Лида не успела, Лола ее опередила:
– Слушай, ты в верхней части живешь?
Вопрос для аборигенов не праздный. Нижний Новгород разделяется на две части: верхнюю, расположенную преимущественно на довольно высоких Дятловых горах над Окой, а также над местом ее слияния с Волгой, и нижнюю, называемую еще Заречной и занимающую низину между двумя реками, от знаменитой Стрелки до Волжского железнодорожного моста. В верхней части находятся все вузы, в том числе и университет имени Лобачевского, кремль, музеи, центральная улица Покровка, площадь Минина и Пожарского, элитные дома, Верхневолжская набережная – любимые места скоплений нижегородцев. Что характерно, Нижневолжская набережная, регулярно затопляемая при весенних разливах, тоже считается принадлежностью верхней части города. Такой вот топографически-географический парадокс. То есть верхняя часть – это все правобережье. Нижняя часть, левобережная, – это площадь Ленина, Сормово, автозавод, Московский вокзал, Канавинский базар… Жизнь в той или иной части города проводит между нижегородцами-снобами (а с некоторых пор в этом чудном городе завелись и такие – с подачи москвичей!) и остальными жителями незримую, но достаточно четкую грань. Впрочем, и снобы полагают, что уж лучше жить в самом захудалом районе нижней части Нижнего, чем в области. Но так думают все на свете горожане!
– Ну да, в верхней, – ответила Лида. – На Полтавской. А ты?
– В Гордеевке, – махнула рукой Лола (микрорайон Гордеевка находится за Московским вокзалом – то есть в нижней части города). – Туда сейчас не добраться. Да и боюсь я… – Она оглянулась на высоченную телевышку, нарядно перемигивающуюся огоньками, словно новогодняя елка, и вдруг схватилась за Лиду обеими руками: – Слушай, пусти до утра перекантоваться, а? А то мне хоть в сугробе ночуй. Денег нет, да и боюсь я домой возвращаться!
Лида терпеть не могла таких случайных ночевальщиков. После случившегося с Сергеем она жила одна, совершенно одна, и гостей своих всегда старалась выпроводить пораньше, пока еще ходил транспорт, а в крайнем случае – вызывала им по телефону такси. Строго говоря, она могла и сейчас махнуть какой-нибудь проезжающей мимо машине, сунуть шоферу сотню и спровадить безденежную актрисульку в ее Гордеевку. Она, в общем-то, почти так и поступила: проголосовала бродячему такси, но вместо Гордеевки велела ехать на Полтавскую и отделалась не сотней, а всего лишь пятьюдесятью рублями. Все равно обдираловка: езды от телецентра до Полтавской по Белинке – ровно три минуты. Она поступилась принципами потому, что вопросы Лоле все-таки не были еще заданы. А Лиде надо непременно выяснить, связан ли ужас Лолы перед явлением жениха с тем жутким происшествием, которое приключилось утром с Ванькой и Валькой? Иначе говоря, известно ли ей, что именно этот остроглазый мрачный тип стрелял в главных героев «Деревеньки»? Это вопрос первый и главный. Второй же связан с личностью жуткого жениха. Лиде до зарезу надо было знать, кто он: профессиональный киллер или обыкновенный провинциальный Отелло? Еще ей требовалось выяснить его домашний адрес и телефон…
Если кто-то думает, что она намеревалась отнести эти сведения в милицию и помочь оперативникам в розыске человека, покушавшегося на Ваньку с Валькой, то он глубоко ошибается.
10 апреля 2002 года
Не раз и не два было замечено, что все самое важное происходит в жизни случайно. И если проследить ту цепочку, которая вела к событиям, ставшим в твоей судьбе определяющими, поразишься, с какой мелочи, ну просто-таки с ерунды все началось! Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда… Вот именно: когда б мы знали, из какой ерунды раздувается иной раз вселенский пожар, опаляющий наши лица… и лица тех, кто рядом с нами!
Все уже осталось позади: и Сережины похороны (единогласное решение следствия было: смерть в результате несчастного случая – после алкогольного опьянения и отравления угарным газом), и девятины, и сороковины, и Лида постепенно снова начала привыкать к своей размеренной одинокой жизни. Но тут в нее ворвалась «Деревенька», и пришлось подстраивать свои дела под расписание трактов (Саныч требовал непременно присутствия на них сценариста, понятия «не могу» для него просто не существовало), опаздывать из-за этого на лекции или вообще переносить их (Лида вела факультативный курс русской демонологии в университете – практически бесплатно, из любви к искусству, как говорится), писать не просто когда и что хочется, а то, что потребно Санычу в данный конкретный момент. Порою то, что он одобрял вчера, сегодня казалось ему никчемным барахлом, поэтому Лида вскоре привыкла просыпаться от его безумных звонков в половине пятого утра и, путаясь в халате и остатках сна, срочно падать за компьютер и переделывать уже принятую сцену. Надо было встречаться со спонсорами передачи… В принципе, их брал на себя Саныч, но отчего-то эти новорусские скоробогачи становились гораздо податливее и щедрее, когда болтливый телевизионный хиппарь приводил с собой молчаливую, сдержанную, порою надменную, порою откровенно высокомерную, красивую Лидию Погодину – типа, писательницу, кандидата наук, в натуре, чисто интеллигентную, конкретно, местную знаменитость! Короче, выпадали дни, когда она себя не помнила из-за суеты. Воистину, довлеет дневи злоба его! И вот как-то раз, за кофе, одним глазом заглянув в программу телепередач, Лида увидела анонс фильма, который она давно хотела посмотреть. Это были голливудские «Опасные связи». И, конечно, – вот свинство! – он шел по местной программе ННТВ именно в то время, когда была назначена запись очередной «деревеньковской байки».
На счастье, у Лиды имелся видеомагнитофон, который, само собой разумеется, можно было запрограммировать на какое угодно время. Но именно тогда, когда она обозначала часы и минуты начала фильма, за спиной раздался телефонный звонок. От неожиданности палец въехал в единицу вместо двойки, Лида этого не заметила. Так вот и получилось, что видеомагнитофон включился на десять минут раньше, и перед фильмом записалось несколько рекламных роликов.
Усевшись на другой вечер – свободный, домашний, не «деревеньковский»! – на диван и включив видак, Лида, конечно, сразу поняла, что ошибочка вышла, но делать было нечего – и она терпеливо разглядывала какой-то кабинет с огромными хризантемами, стоящими в вазе почему-то на верхушке книжного стеллажа, письменный стол, за которым сидела улыбающаяся красивая женщина; темноватый зальчик, столики, задвинутые в полутемные, уютные ниши, стойку бара, чуть-чуть приподнятую над полом эстраду, каких-то девиц и парней, которые выплясывали под музыку, изувеченные рубящими лучами стробоскопов.
«Ночной клуб, что ли, новый открылся?» – устало подумала Лида. Потом на сцене появился худенький трогательный парнишка лет двадцати, не больше, с ворохом соломенных волос, стянутых на затылке: парнишка бренчал на гитаре; потом мелькнула высокая женская фигура в красном длинном платье и с длинными красными же волосами. В руке у нее был микрофон – кажется, она пела, Лида удивилась, узнав ту же красивую женщину, которая сидела за письменным столом: видимо, она была и директором клуба, и выступала в нем. Хорошо поставленный мужской голос зазывал всех нижегородцев и «гостей нашего города» в новый ночной клуб (Лида похвалила себя за догадливость), который открылся на Рождественской улице, недалеко от знаменитого «Барбариса», и назывался «Красная волчица».
Как? Что такое?!
Лида нажала на stop, перекрутила пленку на начало и снова просмотрела ролик.
После него прошла еще какая-то реклама, потом начался фильм, который она так мечтала посмотреть, но Лида не видела ни блистательного Джона Малковича, ни юного красавчика Киану Ривза, ни порочно-хорошенькой Умы Турман, ни кого-то другого из знаменитых актеров, снятых в этой лучшей из экранизаций романа Шодерло де Лакло. В конце концов она выключила телевизор.
Ладно, фильм от нее не уйдет! А вот «Красная волчица»…
Красная волчица! Песня, которую слушал Сергей в последние минуты своей жизни!
Плеер и пленку ей, конечно, не вернули, но именно об этой потертой старой кассете она жалела куда больше, чем об изделии великих Panasonic'ов. Все это время подспудно размышляла: почему из великого множества мелодий и песен Сергей выбрал именно эту? Что значила она для него? И что за странное словосочетание – «красная волчица»?
Лида была девушка дотошная, она посмотрела в энциклопедию и узнала, что красными волками называются китайские степные волки, имеющие рыжий оттенок шерсти, но все же рыжий, а не красный! Однако Лида вспоминала свой сон… Накануне того дня, как она узнала о смерти Сергея, она видела красную волчицу, даже двух. Теперь Лида не сомневалась, что этот сон возник не просто так – ей послал его именно умерший брат. И вот, оказывается, в Нижнем существует еще какой-то человек, для которого это сочетание слов – красная волчица – столь же знаменательно, как и для Сергея, а потом и для Лиды. Или это просто совпадение?
Так или иначе, она должна была все выяснить досконально.
Не столько ради Сергея, сколько ради себя.
Между прочим, до чего странная вещь – эти родственные чувства! Откуда что берется и куда девается? Как уже говорилось, Сергей был Лиде сводным братом: Николай Погодин женился на Марии Вересовой, будучи вдовцом с семилетним сыном. Маша три года воспитывала Сережку как родного, потом родила дочку Лидочку. Когда той было шесть, а Сереже, стало быть, шестнадцать, родители погибли – уехали отдыхать в Грузию и во время экскурсии по Военно-Грузинской дороге попали под лавину.
На дворе стоял 1976 год. Николай Погодин хорошо зарабатывал – он был ведущим инженером на военном заводе, а начинал вообще в Магадане, где в те советские времена платили бешеные деньги. Поэтому у сирот остались квартира, машина, очень неплохие сбережения. Мгновенно повзрослевший Сергей вызвал из деревни тетку – сестру отца – и поручил ей Лиду. Тетя Сима поворчала, конечно, что придется бросить хозяйство, но детей она очень любила, поэтому смирилась с тем, что превратилась из деревенской жительницы в городскую дачницу. Под ее ласковым приглядом, не больно-то стесненные в средствах (обоим до совершеннолетия полагались пенсии за погибших родителей, да и отцовы сберкнижки позволяли стоять на земле уверенно, деревенский огород обеспечивал их продуктами), ребята окончили школу, занимаясь, чем хотели: Сергей – баскетболом, плаванием и стрельбой; Лида – французским языком, танцами, музыкой, да еще она ходила в фольклорно-музыкальный кружок «Рябинка» при областном Доме фольклора.
Там-то и приключилась с ней история, о которой до сих пор было тошно, стыдно, погано вспоминать… тем более, если послушать соседей, история эта стала поводом к трагедии Сергея.
В те блаженные советско-патриархальные годы детское творчество процветало и поощрялось. Фольклорно-музыкальный кружок пользовался жаркой любовью первого секретаря обкома партии, который был родом не из Нижнего, а из области и вообще увлекался краеведением. С легкой руки «первого» фольклорный коллектив поощряли все, кому не лень. Его беспрестанно посылали на разные слеты, приглашали выступать перед «высокими гостями» (был в ту пору такой официальный термин), без него не обходился ни один праздничный концерт в Нижегородском кремле. Разумеется, идеологическая направленность танцев, песенок и драматических сценок непременно курировалась свыше – по принципу, как бы чего не вышло. Тогда вообще все на свете курировалось. Может, в этом и был смысл… Короче, среди прочих надсмотрщиков, приставленных к «Рябинке», был молодой инструктор отдела культуры обкома комсомола Валерий Майданский. Был он партийцем потомственным: его отец работал завотделом культуры обкома партии, и Валерий считался кадром сугубо проверенным, доверенным и серьезным. Однако никто не знал, что двадцатипятилетний инструктор питал патологическую слабость к девочкам-подросткам – тем, кого Владимир Набоков называл нимфетками. Ни о каком Набокове Валерий Майданский, понятное дело, и слыхом не слыхал: книги этого «белогфардейца» были в то время под запретом, да и вообще, чтение было его слабым местом, Валерий больше увлекался парными телодвижениями под музыку, однако длинноногие и длиннорукие, по-щенячьи неуклюжие девчонки приводили его в исступление, сходное с тем, которое испытывал Гумберт по отношению к Лолите. Лида Погодина, задумчивая и отстраненная, высокомерная недотрога, которая в наш суетный мир словно бы заглядывала по необходимости, пребывая, как правило, в мире собственном, далеком отсюда, распалила воображение Майданского так, что он совсем перестал владеть собой. И однажды после комсомольского слета, на котором выступала «Рябинка», изрядно подвыпивший инструктор поймал Лиду в укромном закутке ТЮЗа (там проходил слет, там же были накрыты щедрые столы для его участников), в одном из многочисленных и довольно глубоких «карманов» сцены, прижал ее к себе и принялся целовать и тискать. Совершенно ошалелая от изумления и страха, Лида минуту или две не сопротивлялась. Валерик распалился донельзя, воспринял это как зеленый свет и повалил девчонку на груду какой-то мягкой бутафории. Он уже задрал ей юбку и начал стаскивать колготки, когда Лида очнулась и завизжала так, что пыл Валерика угас, а страсть сменилась страхом. Не дожидаясь, пока сбегутся люди, он выпустил девочку и спрятался среди декораций, откуда потом незаметно выбрался в зал – как ни в чем не бывало.
А Лида между тем кинулась бежать. Дело было зимой, в январе, в двадцатипятиградусный мороз, однако она выскочила на улицу как была – в танцевальных туфельках, ситцевом сарафане и батистовой рубашке, начисто забыв про шубку, – и пробежала так через площадь Свободы, Театральный сквер и два длиннющих квартала улицы Белинского, ворвалась домой и потеряла сознание на руках открывшего ей Сергея. Ей было тринадцать, ему – двадцать три, парень был уже опытный и сразу понял, что именно напугало сестру. Сообразил он также, что самого страшного не произошло, а потому остановил тетку, порывавшуюся звонить в милицию и «Скорую помощь», и взялся сам приводить Лиду в чувство. Дождался, пока она открыла глаза и расплакалась – значит, напряжение ее отпустило, – спросил одно только:
– Кто?
Видимо, такой был у него голос, что Лида мгновенно перестала плакать и назвала своего обидчика.
Сергей, внешне совершенно спокойный, оделся и ушел в ТЮЗ. Громкого скандала он не хотел: боялся опозорить сестру, пойдут разговоры – не остановишь, а у нее жизнь впереди. Поэтому дождался, пока комсомольцы наелись, напились и стали расходиться, пристроился к полупьяному Валерику (тот уже успел забыть смертельно напуганную девчонку: снял напряжение с какой-то штатной давалкой в том же «кармане», и теперь ему было море по колено) и проводил его до дома. Но, войдя вслед за ним в подъезд, подняться на этаж ему не дал: отметелил так, что Валерик остался без передних зубов – как нижних, так и верхних, – потом приказал раздеться до трусов (Сергей был брезглив!) и заставил сдать стометровку тут же, вокруг дома, босиком по снегу. Затем закопал парня в сугроб – чтобы охладился малость! – и, постояв над несчастным маньяком минут пять, спокойно ушел.
Самое поразительное, что эта история не имела вообще никакого продолжения. Сергей отлично понимал, что Валерий его узнал – да он и не прятал лица, не скрывал от пакостника, за что свершается над ним эта месть, – но при всем при том он был убежден: Майданский не осмелится и слова пикнуть против него. Им приходилось пересекаться и раньше в молодежных компаниях, где за Сергеем утвердилась слава абсолютно бесстрашного, рискового человека, который на спор хоть бутылку шампанского выпьет, сидя на подоконнике четвертого этажа (как Долохов), хоть расколотит окна в пикете милиции на площади Минина – центральной площади города, хоть въедет на мотоцикле в университетский корпус (Сергей учился на радиофаке), когда там идет торжественный митинг, посвященный… да чему угодно посвященный, хотя бы первому выступлению римских рабов против патрициев под интернациональным лозунгом «Хлеба и зрелищ!». Майданский отлично знал репутацию Сергея и понимал, что, если решит нажаловаться партийному отцу и напустит на мстителя местных ментов, Погодин тоже молчать не станет. И уж тогда Валере Майданскому мало не покажется. А если еще при этом всплывут и прежние грешки любителя маленьких девочек, заботливо прикрытые отцом и его приятелями из областного УВД…
Короче, в ту безумную ночь Валерий притащился домой и сказал, что его били не-знаю-кто-не-знаю-где-не-знаю-почему. Сломанный нос ему выпрямили, зубы вставили, благоприобретенную в сугробе пневмонию вылечили и перевели на работу в отдел строительства обкома комсомола. Завотделом. То есть повысили в должности.
Вскоре Валерий, человек вообще-то легкий и не отягощенный особым умом (про таких в народе говорят: «Думает не головой, а головкой!»), забыл и Лиду Погодину, и ее опасного братца. Или почти забыл. При всей своей дурости он был немного философом и понимал, что пострадал за дело и еще легко отделался. Ведь Сергей мог его вообще убить…
Уж не предчувствие ли вещее его посещало? Но если даже и так, Валерий был слишком самоуверен, чтобы прислушиваться к каким-то там предчувствиям!
Нижний Новгород – город не бог весть какой большой, но все же и не столь маленький. Здесь можно годами не видеть старых знакомых – особенно если не стремишься с ними встречаться и вы вращаетесь в разных сферах. Особенно если страна в это время вдруг пошла вразнос и надо пытаться как-то усидеть в этой полуразбитой колеснице. Каждый думал о себе, и было не до старых обид и старых счетов.
Во время павловской реформы остатки сбережений Николая Погодина, заботливо оберегаемые его сестрой, превратились в нечто эфемерное. Лида в это время доучивалась на филфаке университета и уже была замужем за Виталием Приваловым, своим другом детства (они когда-то вместе занимались еще в том приснопамятном фольклорно-музыкальном детском коллективе). Вместе с мужем и его приятелем Иннокентием Кореневым они организовали первое в Нижнем Новгороде частное издательство и попытались наводнить рынок той литературой, которую все трое любили больше всего на свете: сказками.
К сожалению, это было время всеобщего беспредела. Тот, кто помнит, меня поймет, а кто не помнит, все равно не поверит. «Лимонные» состояния (это никакая не метафора, ибо деньги в ту пору были такие – миллионы-»лимоны») наживались и исчезали за один день, а то и за час. Получить товар от поставщика и не заплатить – вошло в норму, это называлось «кинуть». Фальшивые накладные, фальшивые авизо, фальшивые договоры и ордера… Финансовые пирамиды, обман на каждом шагу, полный беспредел, полуматерное слово «плюрализм», как девиз жизни… Зазвучали первые контрольные выстрелы, профессия киллера вошла в моду, а самыми авторитетными и значимыми людьми стали воровские «авторитеты». Они определяли цены, моды, политику (хотя нет, политику страны определяло ЦРУ!), музыкальные и литературные пристрастия, стиль жизни и стилистику речи.
Это было безумное время… Впрочем, почему было? Оно и теперь продолжается, просто мы к нему малость приспособились, привыкли, стали воспринимать как норму то, от чего раньше падали в глубокий обморок, умирали от инфаркта или травились выхлопными газами в автомобиле.
Но вернемся в 1991–1992 годы и в Нижний Новгород. Издательство «Ребус», руководимое Лидой Погодиной, Виталием Приваловым и Иннокентием Кореневым, распродало стотысячные тиражи своих сказок по городам и весям и теперь тратило целые состояния на телефонные переговоры, пытаясь выколотить деньги из недобросовестных плательщиков. Как назло, именно в это время полным ходом шел распад Союза, намечался распад России, «самостийные и незалежные» страны Балтии, Грузия, Украина, Казахстан и иже с ними плевать хотели на какое-то там нижегородское издательство, которое мечтало получить свои кровные. Отдельные, особо мечтательные футурологи грезили о создании Дальневосточной республики. А потому один из покупателей сказок, сахалинский предприниматель Игорь Малышкин, решил не выбиваться из стаи и кинуть этих волжских лохов на двадцать пять тысяч долларов.
Сумма-то, может, была и не бог весть какая… но дело в том, что ее взял в долг Иннокентий у каких-то очень серьезных мужиков. Трудно было поверить, что с ним сделают именно то, что грозились, однако приятели все же решили подсуетиться и начали ездить по неправедным должникам с просьбой вернуть деньги. Поездки в Киев и Ташкент толку не принесли. Грозный вообще разучился говорить по-русски. Однако на Сахалине Виталию неожиданно повезло. Он выдрал-таки из Малышкина – то ли подобревшего, то ли усовестившегося, то ли напугавшегося при виде «варяжского гостя» – всю сумму долга и полетел домой. Однако при пересадке в Красноярском аэропорту деньги у Виталия были отняты какими-то лихими людьми, так что он вернулся домой с дрожащими руками, ножевым порезом на боку и прорезанным же карманом куртки. Разумеется, пустым…
История в то время совершенно типичная, никого не удивившая, и последствия она, увы, имела тоже типичные. И кошмарные.
Через неделю после возвращения Виталия Иннокентий, который не вернул в срок долг, был избит до полусмерти и чуть не полгода провел в больницах. Его беременная на пятом месяце жена была так напугана случившимся с мужем, что у нее случились преждевременные роды, и она умерла от болевого шока.
Но эти страшные события проходили как бы вдали от Погодиных-Приваловых, потому что Лида немедленно после возвращения мужа с Сахалина заявила о своем намерении развестись с ним.
О причинах этого она ни брату, ни тетке не сказала. Просто вернулась в свою прежнюю квартиру и попыталась жить, как жила прежде. Однако это не получилось, потому что Сергей, который тоже дружил с Виталиком много лет, оскорбился за друга и откровенно сказал сестре, что подло бросать человека, которого и так стукнула жизнь.
– Видимо, ты рассчитывала, что он начнет приносить тебе в клювике легкие денежки? – беспощадно спросил Сергей. – Значит, в радости ты быть с ним готова, а как насчет горя? Пройдешь стороной? А может быть, ты хотела что-то урвать втихаря от этих двадцати пяти тысяч баксов, которые он не привез? Слава богу, что те подонки, которые его ограбили, уберегли тебя от искушения, иначе то, что случилось с Кореневым, было бы сейчас на твоей совести!
В ответ Лида промолчала – и брат с сестрой вообще не разговаривали месяц. За это время Лида, которая все эти годы параллельно с учебой на своем филфаке упорно занималась французским языком, познакомилась с девушкой-француженкой и вскоре уехала к ней погостить. Совершенно неожиданно для себя она нашла работу в Париже. Именно тогда в столицу мировой моды хлынули потоком новые русские богачи, битком набитые деньгами, жаждущие их потратить, но не умеющие связать даже двух слов для того, чтобы выразить свои намерения. Лида устроилась в Галери Лафайет (там работала ее новая подруга) переводчицей-консультантом и пять лет только и делала, что переводила с французского на русский все, что имело отношение к одежде, белью, обуви, аксессуарам, косметике, посуде, пластинкам, книгам, видеокассетам и компьютерным дискам… Она хорошо зарабатывала, она была довольна жизнью, она вполне могла бы остаться во Франции, если бы захотела, например, выйти замуж, ибо у нее было два очень даже серьезных кавалера! Но три года назад она получила известие о том, что Сергей арестован за убийство Валерия Майданского и получил пять лет лагерей, а тетя Сима умерла.
Пришлось возвращаться. Страшно звучит, конечно, однако Лида была рада вернуться – пусть и по такому печальному поводу. Она была из тех людей, которые способны жить полноценной жизнью только дома, только на родине. Страшно захотелось наверстать все, чего она сама себя лишила: например, защитить кандидатскую диссертацию по русской демонологии. Деньги у нее были, и немалые: в Париже она хорошо зарабатывала, а жила очень скромно.
Вскоре Париж забылся, как прекрасный, но далекий сон. Напоминали о нем только вещи, которыми Лида обзавелась на годы и годы вперед: свитерки, юбки, брюки, блузочки, пиджачки… В Галери Лафайет для персонала часто устраивались распродажи по поистине смехотворным ценам, так что она и впрямь изрядно прибарахлилась.
Теперь жизнь ее резко изменилась. Сидела в библиотеке, готовила диссертацию, вела факультативы, занималась оформлением невеликого наследства, хлопотами о брате: посылками, переводами, письмами… От свиданий с Лидой Сергей отказывался: он находился в лагере в Оренбургской области и считал, что сестре ни к чему подвергать себя таким тяготам и ехать бог знает куда, чтобы встретиться с ним. Ничего, скоро это кончится. Осталось три года, осталось два года…
Он вернулся этой зимой – подобием человека. Вернулся, чтобы умереть.
За годы разлуки они стали чужими: ведь не переписывались, не перезванивались, когда Лида была в Париже, связь между ними осуществлялась только через тетю Симу. И только страшное увечье Сергея и его тихая, воистину мученическая смерть заставили Лиду осознать: кровь – не вода, и есть в кровной связи людей нечто не объяснимое словами да и, наверное, не нуждающееся в объяснениях. Она не предполагала – она вдруг безошибочно почувствовала той кровью, которая была у нее общей с Сергеем: его преступление, увечье, его гибель – не случайность. Не просто роковое стечение обстоятельств! Это звенья одной цепи… цепи, каким-то образом замкнутой словами «красная волчица».
Сначала они были просто эфемерным образом, бесплотной тенью. Теперь в них забилась, заиграла некая жизнь. Так мигают, словно пульсируют, разноцветные огоньки на вывесках в ночных клубах.
Вывеска «Рэмбо» была синяя, «Льва на Покровке» – золотая, «Гей, славяне!» – голубая; вывеска «Барбариса» ослепляла смешением красок. Ну а у «Красной волчицы», само собой, она была красная.
Как зимний закат. Как кровь.
Закат в крови – и жизнь к закату мчится…
20 декабря 2002 года
Пистолет вдруг выпал из его рук, и патроны начали один за другим выкатываться из ствола с протяжным, заунывным звоном…
Что за чушь? Как они могут выкатываться?!
Ярослав вздрогнул, открыл глаза и уставился на пол. Никакого пистолета там и в помине нет, разумеется. И, уж конечно, никаких патронов. Приснилось? Неужели он заснул? Ну, видимо, да… А этот назойливый звон – его издает тот предмет, которому положено звонить по должности. А именно – дверной звонок.
Ярослав с усилием приподнялся с кресла: по своей дурацкой привычке он сидел, поджав ногу, и та затекла. Бросил взгляд на часы, стоявшие напротив, на телевизоре, – сколько? Шесть?
Шесть?! Он что, весь день проспал, до вечера? Судя по всему, да, потому что кому взбредет в голову являться в гости в шесть утра? Главное дело, сейчас-то, в декабре, что в шесть утра, что в шесть вечера – на улице одна картина: темень! Правда, в шесть вечера в домах светятся окна. А в шесть утра нормальные люди еще спят.
Все еще припадая на затекшую ногу, он шагнул к окну, выглянул. Слава те, господи, в многоэтажном доме на той стороне Звездинки освещены только несколько окошек. Значит, он проспал не весь день, а только час или полтора. Да и то, если рассудить, за день сидения в кресле нога не просто бы затекла, но и вовсе отвалилась бы, а теперь уже ничего, «оттерпла», можно идти и выяснять, кого это принесло ни свет ни заря.
Он уже стоял у двери, когда вдруг пришло в голову, что это явилась Лола. Хотя нет, вряд ли. Не для того она так панически смывалась от него несколько часов назад, чтобы сейчас взять да прийти с повинной головой!
Скорее, там не Лола, а те, кого она привела с собой… Узнала о случившемся, перемножила два на два и поняла, кто виноват. И решила, что ее очередь следующая. А что она еще могла подумать после его дурацкого появления на студии телевидения? А он ведь просто хотел спросить, зачем она этих ребят подставила? Ведь после того, что Ярослав узнал из «Трудных итогов», стало ясно, что он свалял невиданного дурака! Забавно: никогда не смотрел эту передачу, терпеть не мог ее ведущего, напоминающего живого покойника, однако именно этот типчик открыл ему глаза на величайшую ошибку его жизни.
Да нет, не могла Лола оказаться такой стервой, не могла!..
Звонок вновь залился трелью. Ярослав угрюмо покачал головой. Может, он и дурак, но уж трусом-то никогда не был. Хватит стоять тут, словно в надежде, что тот – вернее, те! – кто ломится в дверь, передумают и уйдут. Как будто в шесть утра эти ребята приходят для того, чтобы тотчас же передумать!
В двери не имелось глазка, а Ярослав был слишком горд, чтобы задать сакраментальный вопрос: «Кто там?» Уже поворачивая ручку замка, вспомнил, что те двое тоже точно так же не спросили, кто это к ним пожаловал, а просто открыли – и… Уж кто-кто, а Ярослав отлично знал, чем это для них кончилось! А вдруг его ждет то же самое?!
Но было уже поздно нравственно пятиться. И Ярослав, вздохнув и покачав головой, как бы подготовив себя к худшему, взял да и открыл наконец дверь.
Никаких «ребят» там не оказалось. На площадке стояла высокая молодая женщина в куртке-дубленке, клетчатой коричнево-зеленой юбке из толстой ворсистой ткани и сапожках с меховой оторочкой. Ее темно-русые волосы были заплетены в короткую косу, а светлые глаза тревожно смотрели на Ярослава.
Лицо с нервными, изломанными бровями и небольшим ртом показалось ему знакомым. Точно, он ее уже видел! Именно в этом полушубочке и сапожках, с этой смешной косой, из которой выбивались кудряшки. И юбку эту клетчатую он уже видел… такое впечатление, на каком-то полу…
Но тут незнакомка заговорила – и спугнула воспоминание, которое уже начало было оформляться.
– Вас зовут Ярослав Башилов? – спросила она с высокомерным видом, который непременно вызвал бы у Ярослава дикое раздражение, если бы он каким-то образом не догадался, что девушка вовсе не гнет перед ним форс, а, во-первых, это ее обычная манера разговора, а во-вторых, она сейчас изо всех сил пытается спрятать под этой маской страх. Однако отчего бы ей бояться Ярослава? Повода вроде бы и нет. Разве что бывало такое в ее жизни: приходила в шесть утра к одинокому мужчине, называла его по имени и нарывалась на…
Так, а откуда она, между прочим, знает, как его зовут?
И тут он внезапно вспомнил, где и когда ее видел. Да пару-тройку часов назад! В лифте, за спиной Лолы! Вот именно, сначала он увидел вытаращенные, полные ужаса карие глаза своей неверной невесты, за ее спиной столь же перепуганные светлые глаза вот этой девушки. А потом дверцы сомкнулись, и лифт увез наверх и Лолу, и ее подружку. И вот теперь Лола прислала подругу к нему…
Зачем? Мириться? Ну, это вряд ли. Выяснять отношения – вернее, его намерения? Это вполне возможно…
Ну и наглая же девка – Лола, имеется в виду. Да и этой светлоглазой особе наглости не занимать стать, если отважилась притащиться к человеку, который… который… А ведь вполне возможно, что Лола ей не сказала всей правды. Наплела небось невесть чего… Как эта красотка умеет врать, никто лучше Ярослава не знает. Интересно, под каким же предлогом она вынудила свою приятельницу потащиться в шесть утра к незнакомому мужчине? И что поручила ей сделать? Что ему сказать?
Между прочим, нет смысла теряться в догадках. Гораздо проще принять вид, что он не узнал гостью, и, поваляв перед ней некоторого «пинжака», выслушать все, что она ему скажет, – вернее, все, что поручила ей сказать эта врунья, эта…
Ладно. Каким бы словом он Лолу ни назвал, ей все будет мало, однако с ней у него так и так все кончено, а потому не надо оскорблять себя – прежде всего себя! – оскорбляя женщину, которой когда-то был увлечен, на которой даже подумывал жениться.
И вдруг промелькнула – словно стрела мимо уха просвистела! – мысль о том, как ему повезло, что Лола спровоцировала всю эту историю и вынудила его сделать то, что он сделал. Потому что он теперь начисто освободился от привязанности к этой… к ней, словом. Теперь ему даже страшно подумать, какая жизнь у них могла быть. Ведь все равно он прозрел бы рано или поздно – но тогда это уж точно было бы поздно. Ох, идиот, о чем он? Что может быть хуже того, что произошло? Он совершил кошмарную, чудовищную глупость, он совершил преступление, он готов был убить, и если бы не чудо в образе той перепуганной девушки, которая сидела на полу и смотрела помертвелыми глазами в ствол его пистолета, поджимая ноги под свою клетчатую юбку…
Ну и ну! Так ведь эта она стоит сейчас перед ним – та самая девушка в той самой юбке, с той самой косичкой, которая так забавно свернулась калачиком на полу, когда ее хозяйка шлепнулась в обморок – в той самой квартире. И он стоял, глядя на эту косичку, и на эту юбку, и на ее коленки, обтянутые коричневыми колготками, напоминавшими коричневые чулочки прилежной школьницы, – стоял, значит, глядел… И в эту минуту его отпустило. Ушло то безумие, в которое повергла его Лола, которое погнало его в ту квартиру, заставило совершить то, что он совершил. А ведь он готов был добить двух раненых подонков! Эта косичка, эти кудряшки над лбом, эти коленки, эти серые, сначала смертельно испуганные, а потом крепко сомкнувшиеся глаза удержали его на краю пропасти, в которую он уже готов был соскользнуть – и сгинуть в ней!
А она? Она-то запомнила его? Она-то понимает, к кому ее послала Лола?!
«Дурак ты, Башилов, это точно», – подумал Ярослав сердито. Да ведь девушка потому и боится, что отлично знает, кто он! Если Ярослав ее узнал – то и она его узнала. Может быть, не сейчас, а еще раньше – когда смотрела на него из кабинки лифта. Но если так… если так, зачем она пришла?!
Промелькнула угрюмая мысль, что без ребят здесь все-таки вряд ли обойдется. Небось затаились между этажами, сопят от нетерпения и вот сейчас, по сигналу, взлетят с лестничной площадки, навалятся уроем…
Но было тихо: никто нигде не сопел, сигналов не подавал, ниоткуда не взлетал и на Ярослава не наваливался. Девушка стояла, глядя на него с прежним высокомерно-вопросительным выражением, и Ярослав сообразил, что она так и не дождалась от него ответа. Все это довольно длительное время он молчал и только пялился на нее как дурак.
– Ну да, Ярослав Башилов – это я, – с некоторым усилием разомкнул он губы. – И что?
Она слегка пожала плечом:
– Как – что? Ведь вы, по-моему, меня узнали. Разве нет?
Ну и девка… Пожалуй, у этой «школьницы» в коричневых чулочках и с косичкой нервы как стальные тросы!
– Само собой, – кивнул Ярослав. – Неужто не узнал? Да и вы меня узнали. Разве нет?
Он ее нарочно передразнил. И она чуть дрогнула губами в улыбке: оценила шутку.
– Само собой.
Тоже передразнила! Ох, рисковая штучка…
– Я вас сразу узнала. Но теперь вот какой вопрос: вы нынче ночью на студию приходили из-за меня или из-за Лолы?
– Из-за Лолы, конечно. Я и представления не имел, что вы там работаете.
– Я там не работаю. То есть, в принципе, работаю, но… Хотя это совершенно неважно, – махнула рукой девушка. – Извините, Ярослав, а… а можно я войду? Мне надо с вами поговорить.
– Быть того не может, – усмехнулся он. – Поговорить, да? И о чем, интересно? Хотите, угадаю с трех раз? Вернее, с одного? Небось о том, что вам довелось наблюдать вчера утром?
Она на миг опустила ресницы, потом снова блеснула на него взглядом:
– В общем, да. Но… можно все-таки войти?
Ему до смерти хотелось выглянуть на площадку и проверить, где конкретно таится кавалерия, готовая в любое мгновение броситься на выручку отважной и безрассудной героине. Но гордыня не позволяла.
– Проходите, – посторонился Ярослав. – Вы как, одна войдете или своих телохранителей прихватите?
Она изумленно вскинула брови, хлопнула два раза ресницами. Потом сообразила и криво усмехнулась:
– Вообще-то я пришла одна. Но, честно сказать, некоторые меры предосторожности приняла.
Сообщив об этом, она спокойно прошла в коридор, как если бы слова создали вокруг нее некий кокон безопасности. Оглянулась, посмотрела, как Ярослав запирает дверь. Спросила:
– У вас тепло? Шубу снять можно?
– Ради бога. – Он вынул из стенного шкафа плечики. – В принципе, у меня бывает даже жарко, но сегодня ветер как раз в окна, северо-западный, так что малость выстудило. А насчет мер предосторожности – можно поконкретней? Вы что, оставили дома конверт с надписью: «Вскрыть в случае моей внезапной смерти или исчезновения»?
– Ну, что-то в этом роде, – осторожно ответила она, спуская с плеч шубку и поворачиваясь к нему спиной.
Ярослав понять не мог, чего это она так стоит, чего ждет, почему не раздевается. Потом доехало: да ведь она ожидает, что он снимет с нее дубленку!
Начал помогать, вышло это суетливо и неловко. Ярославу стало стыдно, он разозлился – и на себя, и на нее. Ну и наглая же особа. Приходит к человеку, которого боится до смерти, которого знает как убийцу, – и в то же время ждет от него каких-то утонченных манер.
И тут же ему стало смешно от просто-таки вопиющей нелепости ситуации:
– Рискнули прийти сюда, а у самой все же поджилки тряслись? Письмецо оставили? Ну разве вы не понимаете, что я запросто мог бы… еще там… если бы хотел?.. – Он махнул рукой.
– Я знаю. И я очень благодарна вам, что вы этого не сделали, – кивнула она церемонно, с таким видом, словно зачитывала приказ с благодарностью. – Спасибо, что вы меня не убили. Дело в том, что у меня еще остались очень важные дела, и поэтому нужно еще немного пожить.
Он не выронил дубленочку только потому, что уже повесил ее на плечики, а плечики пристроил в шкаф.
Ну и ну! Эта особа находится у него каких-то десять минут, а то и пять, и за это время умудрилась уже который раз поставить его в такой тупик, что остается только глазами хлопать от растерянности.
Значит, у нее неотложные дела? И только поэтому хочется пожить? А завершив их, она что, застрелится?
Нет, понять что-либо в ее поведении совершенно невозможно. Раньше ему казалось, что самая большая загадка женского рода – это Лола. Но с Лолой теперь все ясно и просто – до тошноты. А вот эта штучка с косичкой…
Его вдруг зазнобило – от напряжения и недосыпа.
– Кофе хотите? Или чаю?
Она обхватила плечи руками, словно и ее тоже познабливало:
– А вы что будете?
– Кофе. У меня растворимый. «Нескафе-голд» – устроит?
– Конечно. Только очень крепкий, если можно, две или три ложки на чашку, и с одной ложечкой сахару. А то я ночь вообще не спала, поэтому как-то зябко.
Ну вот, аналогичная ситуация.
– А я думал, девушки пьют все без сахара, и кофе, и чай, – не удержался Ярослав от банальности. С другой стороны, надо же с ней о чем-то разговаривать, не сидеть же молчком в напряженном ожидании, когда она соблаговолит высказаться!
– Да, – кивнула она, принимая чашку и с удовольствием принюхиваясь. – В принципе – да, именно так они и пьют. Но я же говорю, что не спала, а от сладкого кофе быстрее просыпаешься и взбадриваешься.
Все-таки у нее забавная манера говорить – такая обстоятельная. Как будто в неторопливом нанизывании слов она обретает спокойствие и уверенность. Как будто убеждена – звук ее голоса должен действовать умиротворяюще.
Между прочим, так оно и есть. Ярославу ни с того ни с сего стало удивительно спокойно. Наверняка она и злых собак вот так же приветливо, неторопливо пытается уговорить, чтобы не кусались!
А ему-то что бы такого ей сказать, чтобы не выглядеть совсем уж чурбаном? Да, кстати…
– А как вас зовут? Вы кто?
– Лидия Погодина меня зовут. Я пишу сценарии «Деревеньки» – ну, той передачи, в которой снимаются Лола и Иван с Валентином. Те ребята, которых вы… – Она проглотила слова вместе с кофе.
Так, все. Краткое спокойствие было разрушено. Ярослав напрягся так, словно сзади, за спиной, оказался кто-то невидимый, незнакомый, молчаливый, чьих намерений он не знал, не понимал – только ощущал опасность, исходящую от незнакомца. Так у него было однажды в жизни – еще давно, еще там, в Талкане, в Амурской области, – он тогда чудом остался жив, а потому это ощущение навсегда осталось предвестием каких-то очень больших неприятностей.
Да уж, наверняка эта сероглазая «школьница» пришла к нему не для того, чтобы рассуждать, когда девушки кладут кофе в сахар, а когда – нет! В смысле, сахар в кофе.
Да какая разница, ко всем чертям?!
Она вмиг почувствовала вспышку его раздражения и тоже напряглась. Отставила чашку, сложила руки на груди: закрылась.
– В общем, так. Пора переходить к делу, как мне кажется.
Ярослав кивнул, глядя исподлобья.
– Лола у меня, вы о ней не беспокойтесь. Мы когда убежали из студии от вас, сразу поехали ко мне. Там у Лолы началась истерика, и, пока я ее успокаивала, она мне все рассказала, как и что у вас вышло.