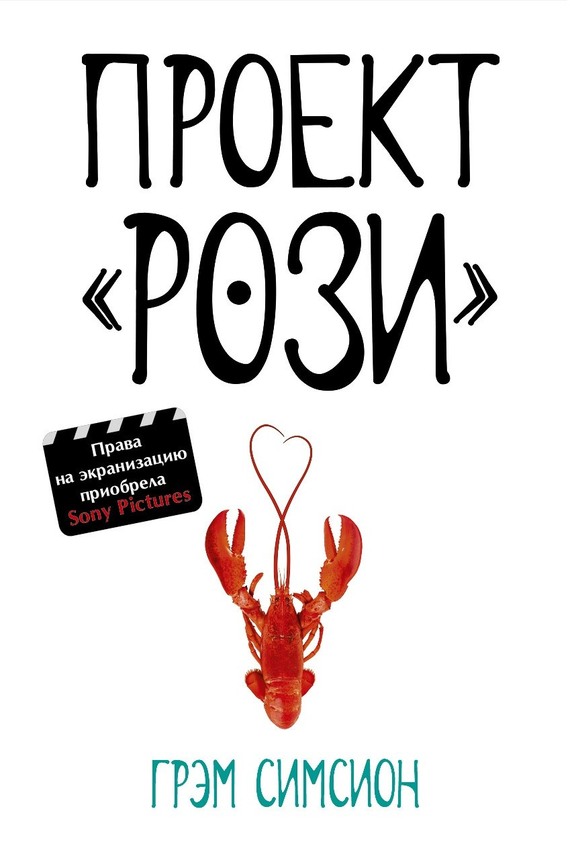Закон сохранения любви Шишкин Евгений

…«Какой она телочкой стала! Я целячок ей попорчу. Таньку обую!» – при свидетелях порешил вор, по кличке Кича. Он только что отмотал пару лет сроку, вышел с зоны и, увидев уже повзрослелую Таньку – подкрашенную, в короткой юбчонке, – запал на нее с алчным похотливым прицелом. У никольской шпаны Кича был в фаворе: за плечами геройская биография – посидел и на малолетке, и на взросляке, фирменные тюремные татуировки на теле, а в кармане всегда – финка. Сергей с хулиганской братией компанию не водил, но про аппетиты Кичи был наслышан: слухи доходили от ровесников, и сама Танька горестно намекала: охотится, мол, за ней… Заступников у Таньки не находилось: ни старших братьев, ни влиятельной родни; отец-инвалид, полусвихнутый пьяница, и мать – уборщица из заводской столовки. «Я Таньку все равно обую!» – щурил злые масленые глаза Кича. Он не только посягательством, но уже одним своим бандюжеским видом – коротко стриженный, с блатным пробором посередке, бровью, пересеченной шрамом, татуированными кольцами на пальцах – наводил на окрестных парней и девок страху. «Не обуешь, гад!» – решил для себя Сергей. Решил после того, как Танька призналась ему: «Он вчера меня в сарай затащил. Руки полотенцем хотел связать, чтоб следов не было. Стал издеваться. Приставал. Говорит, давай по-хорошему… Еле вырвалась. А в милицию потом не пойдешь. Ведь потом все пальцем тыкать станут…» – «Ты не реви, Танюха. Я чего-нибудь придумаю». – «Чего ты придумаешь?» – «Чего-нибудь».
Придумал. Подстерег Кичу и не грубо, но твердо сказал: «Ты Таньку не трогай. Я парень ее…» – «Чего? Откуда ты выполз, шнурок?» – «Ты Таньку не трогай! Я… я жениться на ней буду… Она невеста моя. Не трогай». Сам Кича возиться с Сергеем не стал: шестерки из местной шпаны по наущению Кичи выбили Сергею зуб, а уж синяков на теле у него оставили не счесть. Но разговор подействовал: Кича не наглел, Таньку пожирал глазами, над «женихом» глумился, но рук к чужой невесте больше не тянул. А Сергей с тех пор усердно играл роль жениха, всегда провожал Таньку по темной поре и после танцев до дому, до самой квартиры. И ни разу не поцеловал.
Зато в июньскую вдохновенную ночь школьного выпускного вечера Танька зазовет Сергея в дом своей бабушки, где бабушка-то как раз и не находилась, обовьет его шею руками, прижмется всем телом к нему, неумело-страстно, по-девичьи, зашепчет горячим шепотом: «Слышь, Сереженька, полюби меня. Я тебе по праву досталась. Если б не ты, Кича бы не отстал… Ты меня спас. Парня любимого у меня все равно нету, а ты друг. Навсегда мой друг. Будь моим первым…»
Голос Таньки дрожал, и оттого еще соблазнительней были ее неловкие объятия. Сергей раскраснелся, чувствовал, как кровь ударила в виски, пульсирует, отдается во всем теле. Но нахлынувший плотский жар оборол. Стеснительно отодвинул от себя Таньку: «Неправильно как-то. Любимого парня, говоришь, у тебя нет… Меня отдаривать не надо. Я тебе от чистого сердца хотел помочь. Не надо платы… А любимого парня ты еще встретишь. Обязательно встретишь». Так они и расстались, в чем-то друг друга не поняв. Сперва на несколько дней. А спустя полгода – почти на два десятка лет.
Любимый парень для Татьяны ждать себя не заставил. В военную комендатуру Никольска приезжал молодой лейтенант на стажировку, он и стал любимым. Скоро Татьяна махала косынкой с подножки поезда остающемуся Никольску: женой офицера отправлялась в дальневосточный приморский гарнизон.
– …Так и мотались по воинским частям. Приморье, Средняя Азия, Кольский полуостров… Потом армию стали душить. Кругом бедность, разор. Муж уволился, подался на свою родину, в Рязань. А я – сюда, на свою малую родину. Разошлись мы с ним. Закладывать он стал сильно, руки распускать… Дочка выросла, в Питер уехала, в колледж поступила. А я здесь. Домушку вон на окраине купила. Там и живу. Специальности у меня – никакой. Вот бутылки принимаю, да и то иной раз просчитываюсь… Я уж видела тебя, Сережа, однажды. Ты с женой и дочкой недалеко отсюда проходил. Я не окликнула, постеснялась. Жизнь-то меня не шибко украсила. – Татьяна усмехнулась, развела руки: дескать, вот погляди-полюбуйся: какова клуша накутанная. Поправила на руке порванную перчатку, из которой высовывался средний палец с розово накрашенным коротким ногтем.
– Все такая же, – приободрил Сергей. Но вслед комплименту подумал в противовес: «Небось, помотало тебя в жизни, Таня, Танечка, Танюша». Стало почему-то очень жаль ее, потолстевшую, подурневшую, однокашницу и партнершу по бадминтону, названную невестой. Жаль – словно опять посягал на нее циничный блатарь Кича.
– Давай, Сережа, бутылки-то. – Татьяна расставила в ящике посуду, отсчитала деньги.
– Ураган был, как ты? Дом не нарушило? – спросил Сергей, уводя разговор от посуды.
– Ветрище дул, думала – снесет, – рассмеялась Татьяна. – Полечу, как та девочка из сказки…
– Элли из Изумрудного города.
– Ты все помнишь. Недаром хорошистом в школе-то числился.
– Я недавно эту сказку дочери читал. Она любит сказки слушать.
Неловкая пауза в таком общении была запланирована. Казалось, можно было говорить и говорить, рассказывать да вспоминать, но что-то говорило за них помимо слов; взгляд, наитие без объяснений открывали подноготную давно не видевшихся людей и встретившихся нежданно у пустых ящиков под посуду. Сергей кивнул головой, простился. Татьяна помахала ему рукой вослед и опять села на ящик, склонилась над газетой с кроссвордами. Но карандаш брать не спешила.
6
«У кого про что, у вшивого всё про баню. Опять они про масонов…» – догадливо усмехнулся Сергей, издали разглядев дружескую пару.
Для Сан Саныча и Лёвы Черных, словно утешливая погремушка для младенца, словно сортовой табачок для заядлого курильщика, был любимым и неотвязно прилипчивым спор о евреях. С полуоборота, с полунамека, даже с полуискры – по веянию каких-то трудно уловимых ассоциаций возгоралась эта неисчерпаемая «русская тема».
Нынче спор обуял их перед домом Сан Саныча, на лавке, у палисадника. Они сидели после восстановительных работ: только что устлали новым рубероидом сарай, кровлю которого истрепали недавние ливни.
– Крути не крути, факт неоспоримый: евреи самый умный народ. В них генетика живучести, сионская солидарность. Только такая сильная нация, не находясь на вершине политической власти, смогла взять в свои руки капиталы Америки. – Слова Сан Саныча звучали убедительно, плотно и, казалось, малой щелочки не оставляли для возражений. – Про наши деньги и говорить не приходится. Обставили нас в два счета.
– А вот не хренчики ли им! – сложив из веснушчатых пальцев кукиш, язвительно и весело сказал Лёва. Маленького роста, конопатый, с отчаянно рыжими курчавыми волосами, остроязыкий визави Сан Саныча никогда не уступал. – Они в революцию семнадцатого года тоже думали: уж всё! Всё в их власти! Губёшки-то раскатили. Да ведь перышки-то Сталин пообщипал! – Лёва расхохотался. – Чем больше сегодня нагрешат, тем больше завтра и спросится.
– Всё мы какими-то глупыми мечтами тешимся. Всё о небесном возмездии мечтаем. Не для себя – для соседа! А достойная жизнь мимо нас проходит, – пессимистично возразил Сан Саныч. – Даже свой талант приспособить во благо не можем. Вот поэтому старые гнутые гвозди правим, чтоб крышу ремонтировать… А в них – вековая культура, народ Книги. Талантливы как черти, трудолюбивы как муравьи. И пить умеют.
– Тут угодил ты в самую суть! – обрадовался Лёва. – Закусывать они могут умеючи. А про таланты я не согласен с тобой, Саныч. Талант таланту рознь. В них талант узенький. Широты в них нету, удали. У нас гений кто? – Лёва, вытянув рыжий ёрнический нос, заглядывал в глаза Сан Санычу. – У нас гений Федор Иванович Шаляпин! А у них – Аркадий Райкин. Певец и паяц. Чуешь разницу? Или художники. У нас Васнецов с «Богатырями». У них Шагал – с синим петухом, похожим на осла. – Лёва рассмеялся, устрашительно потряс указательным пальцем: – А финансовая власть для них – способ выживанья. Защитная реакция организма! Как панцирь для черепахи… Кровь из носу – стань богатым! Чтоб оградиться от мира, чтоб спастись. Всеми щупальцами к деньгам! Евреев-то без денег давно бы смяли. Как эскимосов каких-нибудь или индейцев. Загнали бы куда-нибудь в резервации, подальше. В Биробиджан… А много ли их там, в Биробиджане-то? Знаешь?
Взбалмошный Лёва наседал коршуном, не скупился на восклицания, смачно сдабривал речь издевочным хохотом.
– Вот ты нам скажи, Серёга, – издали обратился Лёва к идущему к ним Кондратову, – у вас на погранзаставе, когда служил в Забайкалье, евреев много было?
– Да я уж тебе не один раз говорил, – усмехнулся Сергей, протягивая руку раззадорившемуся Лёве и распалившему его Сан Санычу. Сел с ними на лавку, закурил.
– Вот и в Афгане наших семитов я не очень разглядел, – продолжал Лёва. – Журналюга один из Москвы прилетал, помню. Всё у бэтээра фотографировался. А среди солдат – не встречал. Потому, Сан Саныч, нету никакого животного антисемитизма. Антисемитами не рождаются!
– Завтра на завод новый директор приезжает, – вступил не по теме в разговор Сергей, обращаясь к Лёве. До недавнего дня Лёва Черных тоже работал на заводе снабженцем-экспедитором, покуда и его непоседливая деятельность оказалась не востребована. – Мужики у проходной собраться хотят. Вроде пикета. Потолковать с новым начальством. Придешь?
– Чего с ним толковать? Какой-нибудь еврейский олигарх завод давно уже прицапал. Свою марионетку сюда шлет, – живо отозвался Лёва. – Завод уж мертв. Пустят здесь линию по производству водочки. Пущай русский мужик поскорей спивается да подыхает. Современные шинкари… – Лёва еще туже завязывал русско-еврейский узел. На любое объективное или адвокатское по отношению к евреям возражение Сан Саныча наскакивал огненно-рыжим ястребом, одетым в солдатский камуфляжный бушлат.
Сергей слушал Лёву вполуха: слыхивал он от приятеля уже много юдофобских рассуждений. Только проку-то! Собственную дурость на другого не перевесишь. От хулы в кармане не прибавится.
– Олигархи не на пустом месте рождаются. Горбачев, Ельцин, Черномырдин, – подбрасывал угольку в прожорливую топку неиссякаемой темы Сан Саныч, – по национальности – славяне. У них в руках все бразды. Во всех губерниях, во всех почти городах – губернаторы и мэры русские. Русские в России правят, так почему…
Лёва не давал досказать, злоехидно подхватывал:
– Русские правят, да не русские заправляют! Все еще по ленинскому принципу живут. Демократы, а расклад – большевицкий! Коль начальник русский, заместитель должен быть еврей! А если главный – жид, в замы ему – славянина сунуть!
– Ты больно-то не шуми, – приосадил Сан Саныч, оглянувшись по сторонам.
Лёва от смеха затряс курчавой головой:
– Вот оно как! Матерись из души в душеньку – никто тебя не остановит. А скажи слово «жид» – как шилом в зад!.. А в книгах почитай. Такое понапишут – сблюешь. Матюгов – хоть лопатой греби. Но попадись «жид» – тут сразу вся интеллигенция на дыбы. – Лёва не усидел на лавке, вскочил, язвительно метал копья в Сан Саныча: – У тебя в школе детки матюжок из трех букв нацарапают на стене – ты как директор завхозу прикажешь: стереть! А ежели вот «жид» напишут – целое, поди, расследованье устроишь. Кто написал? Да еще дойдет до прессы. Набегут дураки из газет. С ними какой-нибудь подлец с телевидения.
– Ты мне на больную мозоль не наступай! – строго прервал его Сан Саныч. – Я теперь не в школе!
Школьная директорская стезя Сан Саныча оборвалась недавним горьким уроком. Шов – ручная штопка – на чулке учительницы географии сыграл роковую роль…
Окончив педагогический институт, Сан Саныч без малого десяток лет оттрубил у школьной доски, пиша на ней физические формулы; потом пересел на директорский стул. Почти столько же лет занимал он хлопотливую должность, покуда «дикость», какая-то «мамаевщина», безумствующий «вал грабежа и беззакония» не оплеснул развратом и пошлостью даже «российское святилище» – школу. Такими словами начинал Сан Саныч письмо в Кремль. Сам не виновен, но переполнял стыд за учительские невыплаты зарплат, а тут заметил еще, что у географички, чистюли, аккуратистки – штопанный шов на чулке: выходит, совсем без денег сидит… Учитель, так почитаемый в провинциальных городах издревле, оказался преданным и оскорбленным, писал дальше в своем послании Сан Саныч, сам по духу человек просвещения, отец троих детей, являвший здравость рассудка и сдержанности. Нельзя унижать учителя беспросветной бедностью и отвращать от школы ученика, адресовал он свою боль к российскому «царю» в высокие кремлевские палаты. Но письмо, споткнувшись об администрацию президента, угодило в Министерство образования, оттуда – вниз, в облоно, а потом – и в Никольск, обойдя проторенный чиновный круг. Дело кончилось скандалом. В местной администрации Сан Саныч в сердцах написал заявление. Теперь он зиму отработал охранником в автосервисе по починке иномарок, хозяином которого был его давнишний ученик.
– Пойду к Борьке Вайсману, – выпалил Лёва, запахиваясь армейским бушлатом. – У него ураганом антенну-тарелку сорвало. Надо помочь.
– Ну вот, – без укоризны укорил Сан Саныч. – Тоже мне антисемит. Чуть что – еврею плечо подставлять.
– Русские антисемиты – самые добрые антисемиты в мире. Да и что с еврея взять? Он ведь в России без русского как дитя. В шахту не полезет. Лес валить не станет. В армии служить не захочет. Землю пахать не сможет. Водопроводный кран и тот не починит. Только на скрипках играть, рожи в телевизоре корчить да пером по бумаге скрябать, вроде того же Борьки Вайсмана. Правда, зубы еще рвать умеют. Не отымешь. – Лёва рассмеялся и рыжим крапчатым кулаком потер свой нос.
Когда Лёва ушел, на лавке, у серого, так еще и не просохлого штакетника, под голыми ветками старой высокой рябины, где остались свояки Сан Саныч и Сергей, стало как-то пустовато, невесело; шумный хохотливый Лёва в их компании стоил троих.
Деревянный рубленый дом с мезонином, обшитый доской, смотрел в улицу тремя тускло отсвечивающими свет неба окнами. Окна – в резных наличниках, расщепившихся, обветшалых, потерявших кое-где свои пиленые загогулины. После ливней и свирепых ветров дом, казалось, насквозь промок: и по фасаду, и по бокам темнели сырые разводы. Шиферная кровля все еще оставалась намокшей, серой, лишь новые листы белели квадратными заплатами. Выделялись на сарае и свежие белые рейки, прихваченные к крыше поверх нового, стеклисто отблескивающего рубероида. И Сан Саныч, и Сергей время от времени оборачивались на дом, вероятно, подумывая о чем-то о хозяйском, но ни о чем покуда не говорили.
В воздухе появился горьковатый дух. Из трубы дома заструился дым. Должно быть, печь затопила старшая дочь Сан Саныча и Валентины. Еще у них росло двое близнецов-парней, которых к печке пока не допускали.
– Деньжонок одолжи, Сан Саныч, – виновато произнес Сергей. – На заводе обещали, да вот опять не выплатили. Я в общем-то знал, что не выплатят. Но Маринку перед отъездом расстраивать не стал. Думаю, перебьемся тут с Ленкой. А то и, глядишь, работу какую-нибудь присмотрю… Мне немного. На хлеб.
– О чем речь. Только у самих денег-то – шиш с маком. Непогода вон еще на ремонт отняла… Спасибо Валентине, она на своем молочном комбинате без дела не сидит. У них простоев не бывает. Люди работать перестанут, а есть не перестанут. Из ее заначки выужу… Смотрю, авоська у тебя из кармана торчит. Картошки набрать?
– Набрать, Сан Саныч.
– Моркови, свеклы тоже положить?
– Положи, если уцелела после потопа.
– Уцелела. Пойдем в дом. По стопке самогоночки дерябнем. Я вчера свеженькую нагнал, с рябиной. Что-то промерз на ветру, – сказал Сан Саныч, поднимаясь с лавки.
– Не откажусь.
Идя ко крыльцу, Сергей подумал с какой-то особенной, опасливой грустью: «Надо же – Сан Саныч самогонку стал гнать. Когда учительствовал, такого не бывало. Директор школы, всегда в галстуке, на виду. Всем пример. А тут – самогонка. Что-то и впрямь в России сдвинулось. Будто туча над всеми зависла. Заводы закрываются. В Чечне работорговля. В Кремле – то пьянка, то болезнь…»
Невеселые раздумья Сергея словно бы услыхал и перебил их бодрительным словом Сан Саныч:
– Ничего, Сергей, наши предки не из таких ям выбирались, – он по-братски положил ему на плечо руку. – Спасенье русскому человеку не в деньгах искать надо. Денег у нас всегда не хватало и не будет хватать. Спасенье в чем-то другом. В духовной открытости, может… Весна вон на дворе. А мы ей порадоваться забываем.
Между туч пробивалось солнце. Косые столпы желтого солнечного света обрушились сейчас и на старый город.
– Весну никто не отменит. Это правда, – улыбнулся Сергей.
Предчувствие близкой выпивки и грядущего вместе с нею благостного тепла тоже скрашивали уныние. Выпьешь рюмку-другую – и, глядишь, распрямится душа!
Вечером, по ходу обыденных хлопот и семейных разговоров, Сан Саныч насторожил жену вопросом:
– Валюша, ты верно ли сделала: путевку-то Марине навязала? Может, самой надо было поехать? Я говорил…
– Куда бы я поехала, когда дом залило? У детей сухого нечего было надеть. Половицы хлюпали. Полкрыши снесло. А я бы поехала… – с нотками возмущения откликнулась Валентина. – Пусть хоть Маринка отдохнет, полечится.
– Разве ж я против? Просто к слову пришлось… Сергей сегодня приходил. Смурён больно. На работе у него нелады, а тут еще и она уехала. Даже в фигуре у него что-то сутулое появилось. Как побитый ходит.
– Ничего, перебьется. И Ленка, считай, уже подручница, – живо откликнулась Валентина. – Пусть Маринка на море посмотрит, а то всё среди кривых заборов…
На этот короткий непритязательный разговор вскоре наложились другие, праздные и не очень праздные, но мысли о младшей сестре застряли у Валентины в мозгу где-то особняком. Она то и дело вспоминала Марину.
В годы сиротства, после ранней кончины отца, а потом и безвременного ухода матери, Валентине часто становилось жаль, очень жаль, до боли в сердце жаль младшую сестру. Себя она не жалела, выросла, считай, уже, на работу определилась, а вот Маринка – ведь девчушка еще, ей-то без отца-матери каково? – да и рассеянная она к тому же; печь, бывало, затопит, а вьюшку открыть забудет; дым в горнице – закашляется, глаза от слез блестят, трет их кулачками… Или, бывало, Валентина с получки купит ей альбом для рисования и акварельные краски, а Маринка в тот же день, за один вечер, изрисует весь альбом от корки до корки – морями и парусниками разными, звездами и планетами необычными; Валентине немного жалко денег, отданных за альбом, альбом-то уж и кончился… но сестру она никогда не упрекала за такое искусство, да и запах акварельных красок ей самой очень нравился. На похоронах матери она дала себе слово: ни у кого не прося подмоги, поднимет сестренку, оденет-обует не хуже других и даст ей образование. Высшее – не получилось, но строительный техникум Маринка окончила под опекунством Валентины. А как ликовала сестренка, когда Валентине удалось взять ее с собой в неожиданно подвернувшуюся турпоездку на теплоходе до Волгограда! Даже ночью, казалось, Маринка любовалась на реку, не смыкала глаз и не отрывалась от иллюминатора (ехали в третьем классе, в трюме, там не окна – иллюминаторы). На судне Маринка признакомилась и подружилась с каким-то черноголовым мальчишкой, – оказалось, цыганенок, едет с табором куда-то под Астрахань; Валентина глаз с сестры не спускала, боялась: вдруг цыгане заманят, околдуют доверчивую девчуху, украдкой увезут с собой…
Весь нынешний вечер Валентина, нечаянно растревоженная мужем словами о Марине, цеплялась умом за дни сестринского взросления.
А замуж за Сергея Кондратова отдавала? Считай, ревела взахлеб. Будто мать отпускает на далекую чужую сторону единственную кровинушку дочку.
7
У заводской проходной с пустыми кабинками вахтерш и запертыми вертушками толпился народ. Преимущественно – мужики. Женщин немного. Да и они, неброско одетые, почти не выделялись из мужиковой массы, серовато обряженной в темные – синие, черные, коричневые – куртки, темные кепки, спортивные вязаные темные шапочки на один фасон. Народу, вероятно, собралось бы и поболее, но некстати прыснул дождь. Дождь совсем слабенький, морось, но и от него всё вокруг – волглое, отяжелевшее. А укрыться негде. Проходная за спиной людей была заперта: малый, оставшийся заводской персонал попадал на производственную территорию через соседствующий административный корпус. Сюда и должно было подкатить новое начальство.
Сборище у завода, кое-где прикрытое пестрячими женскими зонтами, было полустихийное, единой организующей силы за народом не стояло, но тем не менее к заводским воротам клейкой лентой были прилеплены два бумажных плаката: «Отдайте наши деньги!» и «Ваш капитализм – дерьмо!» Плакаты были написаны корявенько, возможно, ученической рукой, красной гуашью, которая уже кое-где размокла и потекла красной слезой. Кто-то написал от руки, наскоро, и текст петиции к местным властям. Это ходатайство передавали друг другу, подписывали, хотя в большинстве своем люди понимали тщету данной бумаги.
В действенность митингования мало кто верил: митинги и даже забастовки на заводе уже случались, только не давали рабочему люду желанного результата. Теперь люди шли в пикетчики «так», для собственного успокоения совести или по любопытству.
Сергей Кондратов тоже очутился здесь почти без толики надежды. Трезво он уже расценил: былому производству – хана. И прежде-то оборудование нуждалось в замене, модернизации, а теперь, в бездействии, всё старилось троекратно быстрей, всё ценное разворовывалось, снималось, отвинчивалось… Сергей даже не судил себя за учиненный вандализм в измерительной лаборатории.
– Вишь, взялись Россию бизнесом проучить. Везде только и слышишь: бизнес, бизнес, бизнес…
– Прихвостни американские! Всю страну хотят в мешочников превратить.
– Лысый перестройщик заварил. Теперь весь простой народ на воров работает.
– Этой власти русский народ не нужен. Чем больше помрет, тем больше им нефти достанется.
– Молодежь наркотой травят. Девки проституткам завидуют. Разве такие к станку пойдут?
– Беспризорников стало – как в гражданскую.
– Сейчас и так гражданская. На одного новорожденного двое мертвецов.
– Верно. Бабы рожать не хотят.
– Чем детей-то кормить?
Разговоры средь людей вспыхивали короткие, обозленные. Ядовитые восклики сыпались адресно во власть или безадресно, на любого. Однако почти без матюгов, редко где-то сорвется… (мужики помнили о женщинах).
Одну из женщин, в синем берете и темно-зеленом дешевом пуховике, которыми на никольской барахолке торговали вьетнамцы, Сергей хорошо знал по работе в цехе. Фрезеровщица Лиза. Он очень редко разговаривал с ней, только здоровался. Говорить с ней было трудно: она заикалась, тянула слоги, подолгу одолевая некоторые буквы. На станке она выполняла однообразную и монотонную работу: брала заготовку – маленький металлический стержень, крепила в приспособлении, фрезой протачивала канавку… И так много-много-много раз в смену. И так изо дня в день. Как автомат.
Рядом с Лизой вертелся Юрка, сын, мальчишка лет двенадцати. Почему-то он был здесь, а не в школе. Правда, все знали, что мальчонка этот – сорвиголова, школу недолюбливает и на взрослой стачке ему, видать, интереснее.
– Гляди-ка ты! Лёва Черных с флагом чешет!
По толпе прокатилось оживление. К заводу приближался Лёва, высоко подняв на тонком древке красный стяг. Простоволосый, со встрепанной рыжей шевелюрой, в расстегнутом пятнистом бушлате, он вышагивал решительно, широко, театрально. Рядом с ним, поспевая, посмеиваясь, поблескивая золоченой оправой очков с притемненными стеклами, двигался корреспондент местной «Никольской правды» Борис Вайсман – в черном кожаном пальто, в клетчатом кепи, с кейсом на наплечном ремне.
– Товахрищи! Только новая пхролетахрская хреволюция освободит храбочий класс от ненавистного капитала! – картавя, подделываясь под Ленина, митингово проголосил Лёва. – Товахрищи! Наша судьба в наших хруках! – И он высоко загундосил пролетарский гимн «Интернационал», тверже обхватив руками древко пролетарского стяга:
- Вставай, проклятьем заклейменный
- Весь мир голодных и рабов…
На его игру кто-то ответил смехом, кто-то потешливыми улыбками, а кто-то в толпе крепче обозлился.
– А вот ты скажи, братец журналист, ты должен знать, в газете работаешь, – басовито заговорил невысокий круглолицый толстяк по прозвищу Кладовщик, в телогрейке и в маленькой замызганной шляпе, обращаясь к Вайсману. – У нас в стране сейчас революция – не революция, война – не война. Бардак, одним словом. А в других странах? А? У нас же продукцию двадцать стран закупало. А? В ихних-то государствах тоже чубайсы до власти дорвались? А? Пошто вдруг ничего нашенского не нужно стало? А?
Борис ничего не отвечал, усмехался, посверкивал златом очков: не понять, что там у него в глазах, под затемненными стеклами. На вопрос Кладовщика откликались другие. По толпе опять шла волна отрывистых реплик.
В одном из окон заводоуправления, на третьем этаже, Сергей заметил Окунева. Тот сверху наблюдал за бывшими заводчанами и, похоже, таился: вплотную к окну не подходил. «Я ему в институте диплом помогал писать, хмырю. Теперь вот по разные стороны баррикады…» – мимоходом подумал Сергей.
Тут люди загомонили:
– Едет!
– Точно – едет!
– Вон она! Черная «Волга» поворачивает.
– Из Москвы, говорят, прибыл.
– Уж лучше б кого-то из своих выбрали.
– Верно. Московские-то говнисты.
– Немца бы нам из Германии выписать…
В сером туманце мелкого дождя по дороге, ведущей к заводу, катила черная машина. Чем ближе была ее блестящая никелем «морда», тем меньше в толпе оставалось слов. Наконец люди и вовсе смолкли и слегка расступились, чтобы уже заплакавшие красные лозунги на воротах были видны подъезжающему начальству.
Черная «Волга» остановилась перед собравшимися, не стала пробиваться к парадному входу администрации. Директор, вероятно, избегать народа не хотел. Но сперва из машины вышел коренастый белобрысый парень, по всему видать, охранник; быстрым прожорливым взглядом окинул толпу; обернулся, что-то сказал шоферу и лишь тогда открыл заднюю дверцу машины. Спокойно и чинно, будто толпа ждала его для приветствий, из машины выбрался немолодой, пегий от седин в волосах, но еще пружинно ступающий на землю человек. Одет он был с лоском: в черный костюм с мелкой серой строчкой, в крахмально-белую рубашку и красный шелковый галстук с золотистыми ромбами. Охранник шел рядом, чуть впереди директора.
– Чего бунтуете, мужики? Здравствуйте! – просто, без казенщины и заигрываний обратился он. Доброжелательным трезвым тоном сразу поколебал настроение толпы, поумерил негодования.
Чувствовалось, что человек этот тёрт, в нем нет амбиций и резонерства молодых экономистов, которые мусолились в телевизоре. Но и чиновную сытость он с лица припрятать тоже не мог.
– Работы хотим! Мы не бездельники – рабочий класс!
– Почему старого директора убрали?
– Зачем производство остановили? Полгорода на заводе держалось!
Выкрики раздались с разных концов толпы. Люди невольно приближались к директору. Он и сам сделал шаг навстречу.
– Насчет работы… Так я и приехал, чтобы заново организовать рабочие места… Прежнее руководство освобождено не мной. По решению собрания акционеров, куда входят и ваши представители… А продукцию – сами знаете! – повысил он голос, – завод выпускать дальше не может. Такое качество рынок не примет. Конкуренция…
– По кой хрен он сдался, этот рынок! Все от него страдают!
– Раньше тоже конкуренция была. Мы на Запад работали!
– Зачем завод рушить? Ваш капитализм – людям смерть!
Директора перебили. Но он ничуть не смутился, спокойно выслушал поперечников, приспустил на толстой шее галстук, усмехнулся с хитрецой. Ответил резонно и вопросительно:
– Разве не мы с вами выбрали этот строй? Мы все! Не поодиночке… Я коммунист. Я не жёг партбилета. Я всегда голосовал за коммунистов. Поэтому капитализм не мой. Наш! Общий! И если мы в нем оказались по собственной воле, то надо спокойно преодолевать кризис. Во-первых, надо…
Директор, загибая пальцы, начал перечислять безотлагательные дела, которыми намерен заняться, «опираясь на коллектив». Толпа, притихнув, слушала его дельную речь. Казалось, конфликт плавно перейдет в увещевание и каждый из собравшихся найдет в этом свою кроху надежды. Люди еще плотнее стали вокруг директора кольцом. Топчась, переместились к нему еще ближе. Охранник заметно нервничал и оттеснял самых первых.
Сергей рассеянно прислушивался к начальственной речи, непроизвольно наблюдал за фрезеровщицей Лизой. Она стояла самая ближняя к директору (охранник ее не отодвигал, он теснил только мужиков) и, казалось, доверчиво, как ребенок, ловила все слова и даже дыхание. Она смотрела на него широко открытыми глазами, иногда подавалась чуть вперед, как будто хотела что-то уяснить, узнать о чем-то конкретнее. Но заикание онемляло ее. Эх, фрезеровщица Лиза! – попечалился Сергей. Со слов знакомых и он заглянул за ситцевую занавеску, где пряталась бабья доля…
Муж Лизы, водила-дальнобойщик, закемарил за рулем в ночном рейсе, мотанулся на «мазовской» фуре на встречную полосу и подмял неувильнувший «БМВ», летевший на пределе скорости. Из груды импортного металла спасатели вырезали автогеном два трупа. Долгие выселки дальнобойщику были по суду обеспечены. Но друзья несчастливцев из крутой иномарки вынесли вдобавок свой приговор: дом, в котором жила семья виновного шофера, обратили в собственность местных торговых азербайджанцев, а Лизу и Юрку-сына измудрились переселить, якобы временно, в комнату пустующего заводского барака, который давно определили под снос и уже оставили без воды и без газа – одно электричество. Нынче Лизу грозились оставить и вовсе без света. Дом стал «ничей», завод отрекся от старой рухляди, снял со всех обслуживаний и списал со всех балансов. К тому же Лиза недавно овдовела. Муж умер от туберкулеза. Лиза честно билась за мужнину жизнь, возила на выселки кое-какие харчи и доступное лекарство, но заводской кормилец станок смолк, безработица вылилась изнурительным безденежьем, а безденежье для больного ссыльного мужа стало скорым плотником по изготовке деревянного бушлата.
Сергей с грустью поглядывал на бывшую заводскую фрезеровщицу в синем берете, когда поблизости раздался веселый голос Лёвы:
– Слышь, Серёга, как мужик лепит. Будто Мишка Горбатый в свое время. Пятно бы ему еще на плешину…
– Я тоже из рабочего класса… – доносился голос директора.
– Что-то не похоже. А, братцы? – прогудел где-то в толпе Кладовщик. До директора его слова не дошли, но окружающие бас бывшего работяги из заводской литейки разобрали. – Такую холеную рожу у мартена не встретишь. Даже слесарей таких не бывает. А?
Мужики поблизости – одни рассмеялись, другие сильнее насупились. По толпе опять прокатился беспокойный ропот. Люди стали перешептываться. Речь директора тускнела. Первоначальный запас доверия к нему усыхал.
– Я всегда оставался на стороне рабочего класса…
– Эй, коммунист! Деньги нам на зарплату привез? – выкрикнул Лёва.
– Всем сейчас нелегко! – твердо, с грозной ноткой ответил директор на выпад.
– Кому это всем? – Лёва тоже в карман за словом не лазил. – Ты свою рожу в зеркале видел? Она у тебя шире, чем у премьер-министра!
– Вас про деньги спросили! – выкрикнул Сергей, серьезно и строго, чтобы не превращать рабочий сбор в фарс. – Деньги привезли для расчетов? Заработанное людям отдать?
– Я уже ответил. Всем сейчас нелегко… Деньги мы должны с вами заработать!
Тут случилось то, о чем никто не мог и подумать. Лиза, стоявшая рядом с директором, видать, яснее осознав его слова про деньги, вся побелела, губы у нее задрожали, глаза сверкнули безумным блеском. Она резко, неожиданно – пантерой – кинулась к директору и вцепилась в его горло руками. Всё произошло так внезапно, что белобрысый охранник, опасавшийся ближних мужиков, Лизу проворонил. Люди в первых рядах непроизвольно колебнулись за ней и оттеснили охранника от его шефа.
Кто-то пронзительно свистнул. Толпа заколыхалась, заулюлюкала, враз налилась исступленным негодованием. Навалившись скопом, мужики и вовсе оттерли охранника от директора, а директора взяли в тесный кольцевой полон.
Кто-то пнул его, кто-то потащил за рукав. Другие пробовали остановить драку, тянули руки до Лизы, разнять… Зажатый со всех сторон, с ужасом в глазах, бледный, задыхающийся, директор хватал ртом воздух и пытался оторвать от своей шеи цепкие пальцы неистовой фрезеровщицы. Берет с головы Лизы сбился, упал, лицо уже играло малиновыми пятнами напряжения, из уголка рта сочилась слюна; ни крик, ни стон, ни слова, а какое-то шипение вырывалось из ее груди. На шее директора виднелись алые метины – свежие бороздки царапин, наполненных кровью.
– Суки! Предатели!
– Коммуняки продажные!
– У этих жирных быков всегда народ виноват…
– Бей новых буржуев, ребята! – задорный Лёвин голос озлобленно взбудораживал толпу.
Что-то азартное, веселящее было в этой потасовке. Словно в детской игре «куча мала – не надо ли меня?». Но вместе с тем – отчаянность и беспросветье, словно и малый огонек надежды на работу, на заводской прибыток угас. У Лизы в приступе плача дергались плечи. Люди гудели как улей, облепив директора и что-то выкрикивая ему в лицо.
Вдруг громыхнул выстрел! Охранник, который метался посреди серой мужиковой плечистой толпы, не в силах пробиться к начальнику, выхватил из кобуры под пиджаком пистолет и пальнул упредительно в небо. Все на миг ошалели, замерли.
– Расступись! Прочь! Отойдите! – прорычал охранник и ринулся напролом к своему подопечному.
– Пушкой людей пугать? Холуй! – выкрикнул возмущенно Лёва, сунул в чьи-то руки свой красный стяг и смело двинулся наперехват рассвирепелому охраннику.
Люди опять гомонили от возмущения и азарта. Лёва ловко пробрался к охраннику сзади, умело – не зря занимался единоборствами – врезал ему коротким ударом в бок, в печень, и заломил руку с оружием. Пистолет упал в лужу. Чтоб уж верняком обезоружить охранника, Лёва всадил ему ребром ладони по шее.
– Мужики, я его сделал! Я сделал этого козлика! – заорал он с победительным куражом.
Охранник после ударов Лёвы на землю не упал – всё ж молод и крепок, – но еле стоял на ногах, шатался, руками общупывал воздух, глаза – пустые, водянисто-серые, взгляда в них нет…
К директору на подмогу бросился шофер из черной «Волги». Но только он зарылся в толпе, раздался новый грохот. Юрка, сын Лизы, большим обломком кирпича саданул в заднее стекло оставленной начальственной машины. Водитель растерялся: куда? чего? за гаденышем-пацаненком бежать или к шефу на выручку? Или назад к машине, черный блестящий багажник которой посеребрило россыпью мелких осколков?
Вой милицейской сирены был истошным, обжигающим, продирал до костей. Быстро поспели. Словно наготове где-то прятались за углом. Милицейский «уазик» с мигалками и автобус ОМОНа.
Люди, кое-кто, кинулись врассыпную, от директора и охранника отступились, оставляя их потрепанно-побитыми посередке призаводской площади. Кое-кто предпочел тут же и смыться – вдоль заводского забора. Но основной костяк плотной массой ополчился на растравленные сиренами и мигалками машины.
Милиция свою службу знала. Толпа не успела опамятоваться, как оказалась рассеченной, расколотой, парализованной напрочь. И уже не толпой, а жалкими горстками, на которые свирепо налетели омоновцы в черной униформе с черными же дубинками, взвивающимися над головами.
– Расходитесь! Назад! Всем назад!
В ответ – крики, женский визг, брань.
– Собаки! Сволота!
– На кого работаете? А?
– У-у, гады!
ОМОН с бунтарями чикаться не стал: кто угодил под горячую руку, того и попотчевали резиновой палкой. Тех, кто посмел сопротивляться, отпинываться, вырываться или вздумал орать, как Лёва Черных: «Родной народ дубинами учить? Менты поганые!» – тех прибрали для каталажки.
Лёву арестовали не без потехи. Он кричал, бузотёрил, но когда его окружили трое омоновцев, вдруг заулыбался и поднял руки вверх: «Всё, мусора, сдаюсь! Забирайте!»
Ошалелый омоновец в каске накинулся и на Сергея Кондратова, толкнул локтем в грудь и при этом тупо орал: «Разойдись! Разойдись!!» Сергей не столько со злобы, сколько по инстинкту самозащиты, пропустил омоновца мимо себя вперед, а затем, схватив его за рукав, сделал подсечку. Но потом всё вдруг скомкалось. Искры из глаз! Удар резиновой дубинки вдоль спины, так что концом прицепило и шею, обезмыслил, ослепил Сергея. Тут же ему заломили руки и потащили к автобусу. Всё мельтешило перед глазами. Над головой какие-то крики. Краем глаза он заметил главную бунтарщицу Лизу, она сидела у забора на корточках, косматая, закрыв голову обеими руками. Еще в какой-то момент он увидел Окунева, который вился вокруг директора.
Скоро площадь перед заводской проходной, перед запертыми воротами и административным корпусом опустела. Плакаты на воротах еще сильнее расплылись и обвисли. Окурки, разбитое стекло, красный грязный стяг и синий берет, истоптанный, потерянный Лизой… Слабенький дождик, который был едва заметен на лужах, полегоньку зашлифовывал следы бесплодного противостояния.
8
Задержанные пикетчики томились в отделении милиции, в обезьяннике – в камерах с дверями из металлических решеток. К следователю для дознания и составления протокола вызывали по одному. По одному, с интервалами, отпускали и на волю, чтобы не провоцировать новое мужиковское скопище и возможную коллективную выпивку.
– Составишь, Костя, на меня эту бумагу, и чего дальше? – спросил Сергей, сидя в кабинете напротив следователя Шубина, старшего лейтенанта с аккуратными черными усиками и веселыми глазами. Шубин жил с Кондратовым на одной улице, с ним они водили давнее знакомство.
– Штрафу вам дадут, гаврикам, за нарушение общественного порядка, и всех делов.
– Где бы еще денег на штрафы-то взять?
– Подшабашить! – тут же ответил Шубин. – Я вот сейчас разберусь с вами, гавриками, бумаги допишу и пойду вагоны разгружать. У меня на станции вроде подряда, бригада грузчиков. – Он оторвался от протокола, который писал почти машинально, усмехнулся с хитрецой, так что один ус поднялся выше другого: – Я ведь недавно женился, Сергей. Еще года нет. Надо молодую красивую жену красиво содержать. Приодеть, мебелишки подкупить. И то хочется, и это надобно… Взятки я брать не умею, поэтому приходится пуп надрывать.
Сергей знал о том, что Шубин женился. Знал, что жена нездешних мест, из Самары, что нашел ее веселый старлей, будучи на курсах в ментовской школе. Жена у него – тут Шубин без приукраски говорил – молодая, видная: вишневые губы, глаза большие, черные, грудь пышная, бедрами заманчиво повиливает… Сергей ее несколько раз видел. Проходя мимо – невольно глаз косил, обегал фигуру снизу вверх. Бывало, и оглядывался с мыслью: «Ай да Костя, какую кралю отхватил!»
– Если хочешь, могу с собой взять, – сказал Шубин. – У меня новая бригада наклевывается. Штраф за пару вечеров отработаешь.
– Я бы рад, да твои костоломы дубиной меня огрели. Шея не поворачивается и руку поднимать больно.
– Что ж поделаешь – служба. Они бы с удовольствием дубинами других проучили. Но – увы, приказа нет… Кстати, там двое братовей было. Один – с завода, другой – из ОМОНа… Я вот тоже на работяг, на нищету, протоколы сочиняю. А ведь с вашего завода двести тонн титанового сплава за границу как металлолом продали. Мы ничего сделать не можем. Частная собственность выше государственных интересов! А проще сказать: шкурный интерес больше в чести. Распишись здесь. – Шубин пододвинул протокол на край стола.
– Трусливые мы, что ли, Костя? – склоняясь над листом, пробухтел Сергей. – Брат брата лупит. Титан вагонами тащат. Ты грузчиком халтуришь. Я инженер – в грош не ценен. Будто квартиранты в родной стране. А главное, не понять: за кем сила? за кем правда?.. ГКЧП был – пьяные да непутевые. В девяносто третьем – новая грызня. Против Ельцина – те, кто с ним раньше в обнимку шел… Ваучеры, инфляции, дефолт. В телевизор посмотришь – сплюнуть хочется. А мы всё в стороне! Молчим. Боимся, выходит?
– Не забивай, Сергей, голову. Жизнь сама всё устаканит, – усмехнулся Шубин.
– Может, и устаканит. Только на нашем ли веку?
– На нашем! Конечно, на нашем! Целая жизнь впереди! – ответил безунывный следователь.
В кабинет порывисто, без стука, заглянул милицейский сержант с красным бугристым лицом:
– Тарищ старш летенант, юного мстителя поймали. Куды его?
– Какого еще мстителя?
– Хлопец. Стекло в «Волге» кирпичом хряпнул.
«Юрка!» – с какой-то горькой радостью догадался Сергей, вспомнив сына несчастной бунтарки Лизы.
– Прошу тебя, Костя, отпусти мальчугана, – заговорщицки обратился Сергей к Шубину. – Мы за себя постоять не можем, так за нас дети стихийно бунтуют… Отпусти без последствий. Матери его сейчас очень худо.
Мужики проявляли солидарность: дождались, чтобы из отделения выпустили всех заводчан, чтоб не оставили кого-то ночевать в кэпэзэшных покоях. Милиционеры тоже хотели поскорее избавиться от трудового класса, сочувствуя народному гневу под стенами одураченного завода.
Когда на свободу выпустили всех задержанных, в воздухе зависло решение: минувшее событие обмозговать и обмыть. Не всей бунтарской стаей, а разбившись на дружеские компании. Сергей Кондратов и Лёва Черных были званы Кладовщиком в гости. В сарай. Там у него было припрятано полчетверти калиновой настойки.
– Не хуже брынцаловки! – уверял Кладовщик, хотя никто таких уверений не требовал. Всем известно, что калиновую настойку Кладовщик делает на отличном муравьином спирту, который покупает в аптеке у родной сестры, фармацевта. – Запомните, братцы, похмелье не зависит от количества выпитого и от качества напитка. Если пьешь с порядочными людьми, то и похмелье не в тягость. А если с человеком дурным, то хоть ихнюю мартину дуй, утром всё нутро извернет. Верно я говорю, братцы? А?
По дороге в сарай в компанию влился Борис Вайсман. Во время беспорядков и омоновского наезда он растворился, исчез, занырнул куда-то в тину, как пескарь. Сейчас вынырнул. Как огурчик… Ни укоризны, ни обиды на Бориса, улизнувшего от омоновских клешней, мужики не испытывали. Беззлобно подтрунивали.
– Зря ты свинтил, Борька, – сетовал Лёва. – Ментам сунул бы в нос удостоверение «Пресса», они б и с нами поласковей обошлись. А тебя б никто и пальцем не тронул. На тебе, вишь, кожанка, очёчки золотые, кепочка клетчатая. Сразу понятно, что какой-то шиш с пригорка…
– Ихнего брата, папарацу, только тронь, – весело басил Кладовщик, поправляя на своей голове побитую молью шляпу. – Как в дерьмо ступишь. Такую свободу прессе устроят! Все б и позабыли, зачем у завода-то собрались. А?
– Я из редакции, отписался. Про завод уже завтра в номере будет, – отрапортовал Борис.
– Всё по-честному написал? – спросил Сергей.
– Я лажу не гоню!
В словоохотливой четверке, идущей распивать калиновое зелье, Борис Вайсман лишним никому не казался. «Боренька, сыночек, ты на них не равняйся. Они мужики, русские. У них спиваться принято. А тебе так неприлично… – не раз, не два говаривала Борису мать, Полина Янкелевна, когда поутру сын отдирал от подушки чугунную с похмелья голову и нащупывал на тумбочке очки, чтоб нацепить на опухший нос. – Равняйся на папу. Он и повеселиться умеет, и выпить. Но чтоб по стенке ползти…» Семью Вайсманов занесло в Никольск по хотенью судьбы, которой распорядилось МГБ. В послевоенном сорок девятом рентгенолога Давида Вайсмана из Витебска объявили врагом народа. В послесталинском пятьдесят шестом он освободился из северных лагерей, выписал из Витебска свою невесту Полину и, ограниченный в желаниях по выбору места жительства, обосновался в ближнем Никольске, в старом городе. Здесь и родились дети. Младший из них – Боренька. Было время, когда семья Вайсманов, как все старогорожане, вела земельное хозяйство. Картошка, лук, чеснок, огурцы попадали на стол с собственных угодий. Борька и в юности, а позднее уж и тем паче, не терпел крестьянского труда. Лопаты чурался, окучник презирал, борозды с картошкой ненавидел. Но пить с соседскими парнями пивал иной раз до одурения, похлеще, чем исконный русский. Впрочем, мало кто из молодых собутыльников заострял его национальную особость. Все считали Вайсманов вполне обрусевшими. Разве что Лёва Черных мог вставить приятелю шпильку еврейским анекдотом. Но тот же Лёва выступал верным защитником и помощником Борису, ежели в том приспичивали обстоятельства.
…В сарае у Кладовщика мужики расселись кружком: на пустых деревянных ящиках, на перевернутом вверх дном ведре, на березовой чурке. Посредине на кирпичах – фанерина, на которой из мутно-зеленого стекла четверть с чайного цвета настойкой; граненые пожелтелые стаканы, буханка хлеба, банка с солеными помидорами и железная миска с мочеными яблоками. В сарае было сумрачно. Пахло дровами, старой овчинной шубой и отопревшей периной. Еще примешивался запах брошенной обуви и той металлической заржавелой рухляди, которую любят всякие сараи и чердаки.
Моросящий нудный дождь перестал. В квадратном оконце с полувыбитым стеклом виднелась поднявшаяся из-за реки оранжевая, с прозрачными материками, луна. Выяснело и похолодало. Хотя стоял апрель, но к ночи весеннее тепло вымораживалось, и порой лужи схватывались пузырястым ледком.
Холод не мешал: спирт с духом ягод калины действовал неотразимо, горячил кровь. Для освещения сарая Кладовщик зажег допотопную керосиновую лампу. Говорили многословно, с хмельным мажором, жестикулируя, дымя табаком. Малосильный свет керосинки метался из стороны в сторону между теней. Из стороны в сторону шатался и разговор.
– Директор этот – пешка. Чего он тут один переворотит? Всю страну надо поднимать, – говорил Сергей. – Лиза рожу ему поцарапала – это и нам в науку. Прорвало бабу. Всех бы нас прорвало – так бы не жили.
– Вот скажи, Серёга, ежли б тебе выпал случай расстрелять кого-нибудь из высшего руководства последних времен, – подкидывал задачку Лёва, – ты б кого кокнул? Я бы – жирного Гайдара! А ты б кого?
Сергей усмехнулся кровожадным фантазиям друга, но ответил всерьез:
– Я бы Горбачева расстрелял.
– На словах-то мы все храбрые, – заметил Борис.
– Точно бы расстрелял? А? – захотел увериться Кладовщик.
– Кого-то другого – не знаю. Но этого бы – точно. Прочитал бы ему собственный приговор – и все тридцать пуль из «акаэма» одной очередью.
Кондратов был неколебимо, как-то гранитно уверен, что разврат в стране зачал последний советский генсек, помеченный пятном на голове, будто дьявольским знаком. Он так же истово был уверен в том, что если б ему дали автомат, родной «калашников», с которым он не расставался, служа два года на границе, и вправду предоставили случай судить по указу собственной совести бывшего рокового правителя, он бестрепетно бы нажал на курок, стиснув зубы: «Это тебе, иуда, за разрушенную страну, за разграбленный завод, за пустые бутылки…»
– Пока америкашки нам дают кредиты и кормят своей гнилой курятиной, – хватал новую тему Лёва, – добра не будет. Они всем странам помогают: на гривенник добреца да на двугривенный говнеца.
– На Америку нечего пенять. Запад нас воровать у самих себя не учит, – говорил Борис. Дужки очков у него красновато блестели от огонька керосинки, по стеклам шамански струился свет; от этого скользящего света казалось, что Борис пьянее, чем на самом деле. – У нас порядка нет… А весь прогресс в России так или иначе связан с иностранцами. Рюрики – чужеземцы. Екатерина Вторая – арийка. Петр Первый – весь онемеченный был…
– Ты еще хана Батыя назови! Борька, брось свою антирусскую пропаганду! – сжав кулак, устрашил Лёва. – Твои ушлые соплеменники тоже жить нас учили. В революцию всю Россию кровью залили. Не один ты грамотный. Мы тоже солженицыных и шафаревичей проходили.
– Господь все равно на нашей стороне, – раздавался бас Кладовщика. – Я вот читал, братцы, от тепла скоро льды потают и земная ось под другим углом пойдет. И чего, думаете, будет? А? Будет потоп всей бесовской Америке. Это им Господь насылает за Россию мщение.
В дверь сарая кто-то негромко постучал. Разговор смолк.
– Кто там? А? – выкрикнул Кладовщик, насупя брови.