Обручение на чертовом мосту Арсеньева Елена
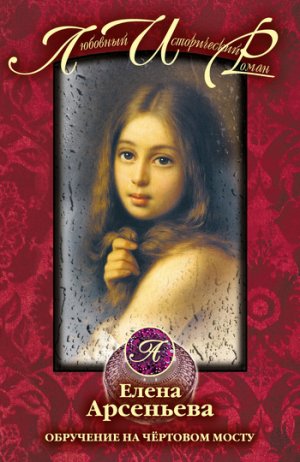
– Пусть это вас не волнует, моя прелесть, – небрежно отозвался Игнатий, взмахивая рукой в окошко, чтобы привлечь внимание возчика. – На омнибусной станции нас ждет мой багаж, а в нем – не менее десяти коробок с самыми чудненькими платьицами, которые я купил для вас, и шляпки… о, charmant! – Он поцеловал кончики пальцев. – Ну и тальмочка для тепла, и отличные шали, и ботинки…
– Погодите! – ошеломленно перебила Ирена. – То есть как это – вы купили?
– О Господи! – раздраженно возопил Игнатий. – Попросил одну мою приятельницу… я хочу сказать, жену одного моего приятеля, – торопливо поправился он, – у нее примерно такая фигура и ножка, как ваши, – отправиться по модным лавкам и составить гардероб, от шляпки до… до самой последней вещицы, какая только может понадобиться женщине. Вы понимаете? – Он значительно улыбнулся Ирене. – Разумеется, это все только на самое первое время, на время пути, однако можно ручаться, что все первейшего качества, если учесть, какие за это были убиты в лавках деньги…
– Нет, я не понимаю, – пробормотала потрясенная Ирена. – Вы говорите, в лавках? В магазинах? Это что, значит – купили la confection?! Готовое платье?! Mais c’est impossible! C’est un mauvais ton![4]
– Уверяю, ma chre, на вас будут шить лучшие портные Парижа! Но пока придется потерпеть… Да ну же, Ирена, вы неблагодарны! – воскликнул Игнатий с досадой, увидав, что ее глаза вновь заплывают слезами. – Я забочусь о вас, нарочно занял уйму денег, чтобы обеспечить ваши удобства, а вы – плакать. Право, на вас не угодишь! Пока не до капризов, знаете ли. Вот уладим все дела с моим отцом, потом с вашими родителями, – тогда и капризничайте, сколько душе угодно. А пока утрите слезы! Да где же запропастился этот чертов дурак?!
Игнатий гневно выскочил на подножку кареты и чуть ли не нос к носу столкнулся с кучером, который как раз в это мгновение поднялся с колен: он раскладывал на траве для просушки свою добычу – мокрые ассигнации.
– А ну собери! – грозно велел Игнатий. – Ты что, ополоумел? А если ветром унесет? Мне, знаешь ли, деньги еще пригодятся: путь до Нижнего ого-го каков, а у меня в кармане пусто. Билеты ведь, знаете ли, взяты самые дорогие, кои по два в ряд, по восемьдесят пять рублей! Не трястись же в кабриолете[5] за шестьдесят пять с персоны!
Мгновение возчик стоял молча, очевидно, не в силах переварить услышанное, затем в отчаянии всплеснул руками.
– Так как же, барин?! – заблажил он плачущим голосом. – Вы же сами… в реку… я думал… мои оне!
– Оне! – передразнил Игнатий. – С ума сошел, кто такими деньгами бросается?
– Вы и бросались, – совершенно справедливо заметил возчик. – Давеча бросались, с моста.
– Собирай, собирай, нечего тут! – криво усмехнулся Игнатий. – Это просто жест такой был, ну, шутка, ты понимаешь?
– Шутить изволили? – угрюмо переспросил кучер. – Добрые шуточки! А ну как не отдам я денежки? – Он пал на колени и с поразительным проворством собрал купюры в кучу – так опытный игрок мгновенно собирает с ломберного сукна рассыпанную колоду. – Мои оне – вот и весь сказ! Вы их выбросили, выбросили без надобности!
Он сделал движение сунуть деньги за пазуху, однако Игнатий оказался проворнее и перехватил его руку.
– А ну! – только и сказал он холодно, и пальцы возчика разжались. – Я тебе… это грабеж!
– Грабеж?! – со слезами, но и с хитростью в голос воскликнул кучер. – А вы барышню… увозом… Я что, думаете, не слышал?
Рука Игнатия, уже прятавшая пачку во внутренний карман сюртука, замерла на полпути. Испытующе взглянув на возчика, он медленно, нехотя отделил несколько бумажек и протянул ему:
– Ладно, держи… шантажист! Но гляди, чуть слово скажешь – не сносить тебе головы! А теперь – гони! Если опоздаем к омнибусу, я не только эти деньги у тебя вытрясу, но и все твои куриные мозги!
– Не, не опоздаем! – заорал повеселевший лихач. – Мы свое дело знаем! Отменно!
Игнатий вскочил в карету, захлопнул за собою дверцу и возбужденно взглянул на Ирену.
– Вот теперь мне кажется, будто я похищаю вас! – сказал он негромко, взволнованно.
Глаза его сверкали, брови играли, великолепный рот улыбался, черная густая прядь упала на бледный лоб… Сердце Ирены дрогнуло.
Он был так красив! И не только она принадлежала ему – он ей принадлежал тоже! А значит…
Ирена толком не понимала, что же это значит, – просто надеялась, что лихач во всю прыть лошадиную мчит их не только к омнибусу, но и к счастью, к коему надобно примчать вовремя, дабы не упустить! Она всей душою надеялась на то, что не упустит!
Глава III
ТОТ САМЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ЭСКОРТ
Нижний встретил их прекрасным, колдовским закатом, полыхающим над Стрелкою, и полнейшей пустотою на станции омнибусов. Никто не встретил графа и графиню Лаврентьевых, так что, пометавшись понапрасну на съезжей, Игнатий принужден был взять извозчика и приказал везти себя c молодой супругой в гостиницу. Собственно говоря, это оказались довольно жалкие номера неподалеку от станции, но Ирена так намучилась в пути, что не спорила, а велела немедля подать себе горячей воды, да побольше, послала прислугу в лавку за самым лучшим мыом, а потом с наслаждением начала мыться.
Ей отродясь не приходилось самой мыть себе волосы, но, с другой стороны, трястись в скверной колымаге вкупе с десятком попутчиков не приходилось тоже (да и из дому сбегать, если на то пошло!), – потому она не стала чиниться и вскоре поняла, что мытье головы – не самое хитрое дело, приуготовленное для нее в жизни. Прислуга призвала прачку, которой частенько приходилось стирать для постояльцев, и та здесь же, под Ирениным присмотром, замыла кое-что из бельишка. Сушить мокрые вещи она утащила в корзине к себе: не развешивать же, в самом деле, панталоны и сорочки на убогой обстановке нумера! Принести все прачка посулила завтра поутру, чистое и наглаженное.
После ее ухода Ирена подсела с гребнем к зеркалу и, медленно расчесывая мокрые перепутанные волосы, принялась вглядываться в свое лицо. Оказывается, она порядком от себя отвыкла! Чтобы больше десяти дней не глядеться в зеркало – это уж совсем в голове не укладывается. Даже в Смольном их муштровали в приличной скромности: у кого найдут в вещах хоть малое, карманное зеркальце – не миновать сурового выговора классной дамы, а то и к начальнице отделения, maman, поведут: «Как вы можете, m-lle Сокольская?! В ваши годы… вы должны знать, что лучшая красота девицы – это чистота, чистота нравственная!» Однако Ирена все-таки училась на Николаевской половине, в Обществе благородных девиц, куда принимались только потомственные дворянки, поэтому в зале для уроков танцевания у них было зеркало – огромное, от потолка до полу, – и всегда можно было улучить момент и поглядеться, хотя бы мельком. Ходили страшные слухи, будто на Александровской половине не было зеркала даже в танцевальной зале, однако там учились всякие дочки штабс-капитанов, протоиереев и третьестепенных дворян, принятые на казенный счет, а с ними Ирена не зналась, потому проверить ужасные слухи не могла, только недоумевала: как это так можно жить, неделями не смотрясь в зеркало?! Ну вот, теперь она узнала – как.
Она глядела на себя, как на забытую подружку. Слава богу, по-прежнему хорошенькая, может быть, даже красивая, хотя в классе считалась лишь девятой по красоте. Нос не то чтобы курносый, но все-таки вздернутый, зеленые глаза широко расставлены, лоб очень высокий (Ирене всегда твердили, что для девицы иметь такой высокий лоб неприлично, поэтому она выпускала на него несколько кудряшек, благо волосы у нее вились от природы), рот тоже великоват, никак не сложишь его бантиком… Ничего, зато лицо сияет, словно изнутри светится нежным бело-розовым светом, кожа нежнейшая, как персик, ресницы… хорошие ресницы, особенно если смочить их прованским маслом и чуть загнуть, брови отличные, разлетаются к вискам, придавая лицу надменное выражение, особенно если Ирена задумается или обидится. Но все это было и раньше, а ведь должно появиться нечто новое! Ведь она изменилась за это время, очень изменилась. Вот голову себе сама вымыла… и вообще, прежняя Ирена, надзирающая за прачкою, которая моет ее белье, Ирена, вспомнившая о таком низменном существе, как прачка, – это что-то невероятное! Конечно, она всегда была чистюля, но что сделала бы прежняя Ирена? Послала бы за белошвейкою, на худой конец – в дорогой магазин за новыми вещами, а прежние, ношеные, выбросила бы, чтоб не возиться! Однако она предпочла позвать дешевую прачку, потому что поняла: если Игнатий снял для них комнаты в этих совсем простых нумерах, вдобавок себе взял общую, где, кроме него, еще четверо ночуют, значит, у него на исходе деньги. Вот еще одна новая черта, которую с недоверием открыла в себе Ирена: она не только допустила в свое сознание такое недостойное благородной особы понятие, как деньги, но и стала задумываться об их количестве!
Она торопливо принялась заплетать еще влажные волосы в две косы. Гордыня – ее лучшая подруга, она поддерживала Ирену все эти безумные, тяжкие дни – она и сейчас нашептывает на ухо: «Никто не должен видеть твоих слез!»
Никто, вот именно! Даже та красавица в зеркале! Вот так, правильно. Вздерни-ка повыше брови, Ирена. Понадменнее, пожалуйста. А теперь поскорее спать. И пусть лучшая подруга твоя тоже уснет, отдохнет. И да приснится вам молодая графиня Лаврентьева, которая завтра вступит в наследственное поместье своего супруга!
Уныло встала она утром: серое небо не сулило ничего хорошего. Уныло встретила унылого Игнатия: экипажа из Лаврентьева нет как нет, очевидно, письмо Игнатия не дошло, затерялось у почтарей; придется возчика подряжать. После ужасного завтрака – ячневая каша вчерашняя, такая крутая, что ложку не повернуть, вдобавок несоленая, пригоревшая и политая прогорклым маслом, – Ирена с отвращением принялась одеваться. Прачка спалила утюгом кружево на любимой сорочке – еще домашней, еще своей! – пришлось надеть купленное «приятельницей» Игнатия. Ну, или «женой приятеля». Новая сорочка была изобильно обшита кружевом, тончайшего батиста, однако внушала Ирене непонятную брезгливость: чересчур коротка, едва ли до колен, и когда стоишь в ней в одних ажурных чулках (почему-то все новые чулки были только ажурные, словно у непотребных девиц!), еще без панталон, вид совершенно будто у какой-нибудь кокотки!
Для успокоения души Ирена желала бы хоть платье надеть свое, однако за время пути оно испачкалось, оборки оторвались – словом, его следовало либо отдать хорошей портнихе в починку, либо уж прямо бедным людям. Раньше, дома, такие «безнадежные» платья дарили горничным на именины, на Рождество или, например, к свадьбе. Однако сейчас у Ирены не было горничной. Ну что ж, в Лаврентьеве, уж верно, будет!
Наконец с помощью служанки из номеров она уложила волосы, оделась во все новое – и не могла не признать, что выглядит премило в бело-розовой гроденаплевой шляпке с зелеными цветами и лентами, и платьице было тоже гро-: грод’анверовое, с узенькими полосочками – все разненьких зелененьких оттеночков. Ничего не скажешь – прелесть!
Игнатий тоже смотрелся настоящим франтом. Похоже, последние гроши были отданы прачке, потому что рубашка просто-таки скрипела от крахмала, а воротнички едва не резали кожу. Очевидно, по этой причине Игнатий был особенно молчалив, и хотя не мог не заметить, с каким любопытством Ирена оглядывает просторные пустоватые улицы Нижнего (кремль показался ей очень красив, а от всего остального пугающе веяло провинциальностью), разомкнул рот всего лишь однажды, чтобы сообщить: вот в этом, мол, доме, напротив Покровской церкви, жил некогда приятель молодости его отца – князь Гагарин, большой шалун и проказник. Среди проказ князя и его веселой компании была рассылка видным горожанам приглашений на губернаторский бал, которого тот и не думал устраивать, или ночные катания по городу в каретах в чем мать родила.
Однажды ночью гагаринская компания переменила вывески на фасадах зданий. Утром изумленные горожане увидели над дверью духовной консистории слова: «Распивочно и на вынос», на здании судебной палаты – «Стриженая шерсть оптом и в розницу», на воротах архиерейского дома – «Продажа дамского белья и приданого для новорожденных», на губернаторском подъезде – изображение банки пиявок с надписью: «Здесь отворяют кровь».
Как-то раз Гагарин приручил и выдрессировал пару годовалых медвежат, которых постоянно водил при себе на цепочке. Во время праздничного скопления публики на главной Покровской улице он спускал со своего балкона во втором этаже на канате медвежонка и после достаточного переполоха среди прохожих втаскивал его обратно.
Как-то Гагарин устроил «афинскую ночь», для которой сманил женскую прислугу многих горожан…
– Дальнейшие его подвиги происходили где-то за Уралом, – с явным сожалением сообщил Игнатий, а Ирена покосилась на него не без угрюмости.
Ее немало озадачили нотки восхищения в голосе мужа, живописующего несусветные забавы князя Гагарина. На взгляд Ирены, это была неприличная дурь, простительная для малого юнкера, но отнюдь не для немолодого уже человека, вдобавок – отпрыска знатного рода. Можно было только порадоваться, что сподвижников веселого князя в Нижнем «иных уж нет, а те – далече», но вот беда: к одному из этих, кто «далече», сейчас и держит путь Ирен… Остается надеяться, что граф Лаврентьев остепенился и позабыл проказы юных лет. А если это не так, Ирене надлежит с первого шага поставить себя в графском доме так, чтобы все, а раньше всех – хозяин, относились к ней с уважением.
Хорошо говорить! Но как себя поставить, когда сама про себя знаешь, что ты – беглая, непослушная дочь, обвенчавшаяся тайно, и даже не против воли родительской, а вовсе не известив об этом отца с матерью? Ежели Ирена других людей ни во что не ставит, даже самых близких, кто же будет ее почитать? Уж, верно, не старый граф Лаврентьев!
Чем глубже погружалась Ирена в эти мысли, тем плотнее смыкались темные «воды печали» над ее головой. Она молчком сидела в уголке кареты, стиснув руки словно бы нервным, а на самом деле молитвенным жестом, и едва удерживала слезы: даром такая тоска не приходит, это что-нибудь да значит! Ну а что это может значить? Скорее всего, то, что Лаврентьево не окажется таким уж местом обетованным, как ей желается, а граф всего менее будет похож на доброго, всепрощающего батюшку. Ох, задаст он им с Игнатием хорошую баню… ох, задаст!
В эту минуту Игнатий, доселе нарушавший тишину лишь бессвязным, отрывистым насвистыванием обрывков все той же знаменитой арии Лючии де Ламмермур, насмешливо спросил:
– Что-то вы примолкли, душенька? Уж не страшно ли вам, часом?
Открывать свои мысли было, конечно, никак нельзя, и Ирена не совсем ловко соврала:
– Сон вспоминаю. Сон мне ужасный снился, просто кошмар!
– И мне! – подхватил Игнатий. – И мне тоже! Диво, конечно, что я вообще заснул: блохи и клопы заедали. Но под утро забылся и, вообразите, вижу, будто я – это не я, а некая птица вроде ворона, и летаю я над кладбищем. Кладбище такое странное, такое странное: могилки все дерном убитые, а сверху надгробные камни лежат. Ни крестов, ничего. Спускаюсь пониже и вдруг вижу на каждом камне необычайно четко выбитую надпись, начинаю читать – и, вообразите, оказывается, что здесь похоронены только близкие мне люди! Деды и прадеды по отцовской линии – я их имена только в книге родословия читал, есть у отца в кабинете, им самим составленная, – родители матушкины, что две зимы тому назад померли в одночасье, совсем уж старенькие были, дряхлые…
Голос Игнатия странно дрогнул, и Ирена подумала, что этих своих деда с бабкою он, верно, крепко любил… А еще до нее вдруг дошло, что в разговорах с нею Игнатий никогда ни словом не вспоминал о своей матери, словно ее и вовсе на свете не было. Ирена почему-то решила, что она давно умерла. И теперь она с замиранием сердца подумала: а ну как она жива? Ну как придется завоевывать еще и ее сердце, пытаться расположить к себе? Последние остатки духа улетучились Бог весть куда. С графом она еще как-нибудь справилась бы, ну, очаровала или разжалобила бы его, а вот с этой неведомой свекровью… о Господи!
– И вижу вдруг могилу отца своего, – продолжал Игнатий. – А ведь я доподлинно знаю, что он жив! Не веря своим глазам, опускаюсь на серый камень, и вдруг он отъехал в сторону, земля разверзлась – и я вижу гроб, из которого раздается отцов голос: «Не успеет петух прокричать трижды, как мы свидимся с тобою, сын мой!»
– Господи, воля твоя, Господи, помилуй! – быстро закрестилась Ирена, но тут же устыдилась своей суеверности, отнюдь не приставшей образованной барышне, нет, замужней взрослой даме, и произнесла небрежно: – Ну, чепуха! Страшно, конечно, особенно…
– Особенно про этот крик петуха, – подхватил Игнатий. – Однако ежели бы этот сон был вещим, я уже умер бы нынче же. А вроде жив, как вы думаете? Но я совсем не прочь, чтобы сон мой отчасти сбылся…
Сначала Ирена не поняла, потом круглыми глазами воззрилась на мужа:
– Да простит вас Бог, Игнатий! Что вы такое говорите?! Вы желаете смерти своему отцу?
Игнатий поглядел лукаво:
– Ну, ну, Ирена, вы ведь не ханжа, зачем же так-то? Положа руку на сердце, разве вы не боитесь встречи с ним? Разве не теряетесь в догадках: как-то сей граф встретит нас? Не прогонит ли взашей? Даст ли свое благословение? Сказать по правде, я никогда в жизни не мог предвидеть ни одного поступка своего отца, никогда не мог заранее предсказать, как он поведет себя, тем паче – в такой ситуации, какую мы с вами намерены ему предложить.
«Как?! – едва не вскрикнула Ирена. – Да ведь ты уверял меня, что на благорасположение отца твоего можно безусловно надеяться?!»
Очевидно, ее лицо сделалось таким неуверенным и несчастным, что Игнатий от души расхохотался, глядя на нее.
– Ох, Ирена, Ирена, ты еще совсем дитя! – выдохнул он между приступами хохота. – Ну, не куксись! Конечно же, я ничуточки не думал, будто отец останется недоволен нашим браком. Напротив! Даже если бы он сам полжизни потратил, не сыскал бы мне более завидной невесты, чем вы, дорогая!
Игнатий поцеловал ей руку и значительно поглядел в лицо. Он почему-то называл Ирену то на «вы», то на «ты», и это ее ужасно раздражало. Не то чтоб раздражало, но… просто она начинала чувствовать себя еще более неуверенно.
– Сказать правду – если уж сказать совершенную правду, – продолжал Игнатий, – у нас с отцом не самые лучшие отношения. Старик никогда не мог понять, что хоть питаться поневоле приходится действительностью, но задаваться идеалами – тоже значит жить! Он полагал, что я веду мелкую, рассеянную жизнь, ничем не занимаюсь, бегаю по вечеринкам и балам, где блещу эпиграммами и ловкостью обращения. Да, что и говорить, я сделался человек вполне светский. Ведь правда же, Ирена? Как воспитанник юнкерского училища, отлично говорю по-французски, знаком со старою и новейшею французской литературой, а равно и с корифеями отечественной словесности. Этикет всякий так изучил, что от зубов отскакивает! А отец все-таки считал меня как бы человеком нестоящим! И все почему? Потому что я не желал вникать в его жизнь, уподобляться этому барству неразумному. В деревне ведь как? Тщатся во всем подражать городским вельможам, тратят на обучение своих дворовых огромные деньги: поварскому искусству отец посылал обучаться своего кашевара, так двести рублей уплатил! Дворовую девку мыть нарядные платья учили – тоже будь здоров денег вбухали. А толку во всем этом – чуть. С народом нашим вы ведь знаете как? Глупы, тупы, ленивы все до крайности! Непременно нужно, чтобы управитель-немец со шпицрутеном стоял над душой, тогда только дело пойдет, тогда и в поле вовремя выйдут, и, готовясь к новому спектаклю (у отца отменный театр из крепостных людей, я вам не говорил?), станут репетировать старательно, хоть по неделе будут речитативом говорить. Но это все из-под палки! Кругом невежество, это нежелание учиться, развиваться. Слыхали, что было при последней холере? Народ убивал докторов, веря, что они отравляют колодцы. Однажды толпа остановила карету, в которой везли больных в лазарет, разбила ее, а больных освободила, чтоб дома померли, – ну и других заразили. Дурость, дурость! – выкрикнул Игнатий с таким ожесточением, что Ирена незаметно отодвинулась.
Ей вдруг как-то не по себе сделалось. Игнатий все-таки странный: то обличал господ, которые своих людей утесняют, то народ дураком честит. Не понять, чего он хочет. И почему с таким пылом выкрикивает:
– Да, я играл! И, не скрою, случалось, проигрывал! Ну а какая разница, куда деньги всаживать? В зеленое сукно либо в какие-то сельскохозяйственные новации? Вследствие всех его затей свободных денег у него никогда не было, случались времена, когда отец за неуплатою опекунских залогов на время оставался с пустым карманом, так что принужден был срочно продавать что-нибудь из имений, какой-нибудь лесок, лошадей, коров, крестьян целыми семьями, а то и брать взаймы у племянника… Мне задерживал выплаты карманных денег! – Голос его дал обиженного петуха.
– У племянника? – переспросила Ирена. – Стало быть, у вас есть кузен? Вы никогда не говорили… А родные братья и сестры у вас есть?
Игнатий вдруг покраснел, да так, что нежная кожа щек сделалась багровой, чудилось, вот-вот кровь брызнет.
– Бог миловал, – буркнул он с явной неохотою. – Кузен же – да, есть, Колька Берсенев, дурак и сволочь порядочная. Богат как скотина, оттого и полагает себя вправе всех учить да поучать. Ох, натерпелся я от него с малолетства. Он ведь когда-то жил у нас в Лаврентьеве, учителя у нас были одни, общие, так он, бывало, задания все выполнит в минуту, способная сволочь, а потом давай меня изводить: мол, деревенщина ты и есть деревенщина, мозгов-то тебе не прикупили…
Игнатий осекся, словно спохватившись, и встревоженно глянул на Ирену, которая как воззрилась на него изумленно, так и не сводила глаз. Она и не предполагала в своем супруге такой глубины ненависти к кому-то, тем паче ненависти, основанной на глупых детских обидах. Это все равно как если бы Ирена ненавидела своего угнетателя-брата за все его детские причуды! Он ведь рос во врожденном убеждении, что всякая женщина – игрушка для мужчины («Весь в отца!» – говорила матушка), а кто был для него самой доступною игрушкою? Конечно, сестра, которая была младше на год и с которой он держался так надменно и грубо, словно пророк с учеником-придурком. Наверное, этот Колька Берсенев был весьма схож со Стасиком Белыш-Сокольским. Но гораздо сильнее задело Ирену небрежное упоминание Игнатия о сводных сестрах. Стало быть, у них разные матери. Что ж, дело обыкновенное, если Лаврентьев женился, оставшись вдовцом с ребенком, однако уж слишком покраснел Игнатий. Что-то в его ответе крылось цинично-неприличное, и, кажется, Ирена догадывалась, что же именно. У Лаврентьева были крепостные любовницы! Само по себе дело тоже обычное, хоть и осуждаемое порядочными, благородными людьми. Ведь тут все происходит по единоличному желанию господина, девушка – его собственность и противиться не может. И на таких девицах потом никто не женится, ни мужики, ни, разумеется, сам барин. Конечно, поступок отвратительный, принуждать девушку – это, можно сказать, насилие, однако Ирена первая бы возмутилась, прослышав, что кто-то из ее знакомых или незнакомых женился бы на крепостной лишь из-за того, что обесчестил ее. В конце концов, у девушки всегда есть выход – например, утопиться. Все-таки честь – это первое, и если уж не удалось соблюсти невинность до брака, жить, конечно, не стоит.
Ирена целомудренно поджала губки. Надо постараться в Лаврентьеве держаться как можно дальше от этих незаконных детей графа, прижитых от крестьянок! Впрочем, где ей с ними придется общаться? Им место в хлеву, в курной избе или где там еще живут мужики, в крайнем случае – в людской. Ирена так и передернулась. Нет, никого из этих «сводных» Игнатия она не намерена терпеть в том доме, где будет жить. Однако каково Игнатию было видеть их, знать о них! Он такая тонкая, чувствительная натура, принимает все так близко к сердцу! Вот сидит с совершенно убитым видом: наверняка мучается оттого, что столь необдуманно брякнул об этих незаконных и оскорбил стыдливость Ирены.
Конечно, благовоспитанной девице даже думать немыслимо о таких понятиях, как «насилие», «блуд», «незаконнорожденные дети», «любовница», она и слов-то этих знать не должна! Однако Ирена оставит при себе свои тайные знания, которые, как это ни странно, ее не столько оскорбили, сколько… сколько сняли изрядную тяжесть с ее души. Что же, что она из дому сбежала, обвенчавшись тайно? Что же, что предавалась недозволенным ласкам в карете? Зато сам устрашающий граф Лаврентьев, за благословением которого она едет с таким трепетом, истинный распутник! Граф теперь может метать громы и молнии в нее и в сына, но напрасно он будет ждать, что Ирена хлопнется ему в ноги или вовсе в обморок. Она будет спокойна и холодна, и этот человек непременно почувствует, что перед ним не какая-нибудь там расчетливая охотница за графским титулом и деньгами (которых, возможно, и вовсе нет из-за очередного… как это?.. опекунского подлога? Нет, залога!), а гордая женщина, способная сама решать свою судьбу!
Она распрямила плечи и уставилась в окошко.
Здесь не стоял глухой стеной лес, как между Владимиром и Нижним, а то и дело среди деревьев открывалась необычной красоты равнина, или уютная долинка, или живописное взгорье, привольное, просторное, светлое, чудно украшенное цветущими рябинами, или боярышником, или сплошными желтыми полосами буйно распустившихся одуванчиков, с всеохватным, ласковым небом, как бы накрывающим округу своим голубым куполом. Чудесное приволье, еще по-весеннему разноцветно-зеленое шевеление листвы… Какие-то птицы носились перед каретою, а потом разлетались по сторонам, имея вид чрезвычайно деятельный и хлопотливый. Кое-где в вершинах деревьев уже чернели гнезда, и Ирена вдруг подумала, что она, как эти птицы, летит в свое новое гнездо, где ей суждено будет «вывести» детей и пропеть свою песенку жизни – в точности как этим хлопотливым пташкам!
Против ожидания сия поэтическая метафора не вызвала в ней никакого умиления, а, напротив, испугала. Дети? Почему-то она никогда о них не думала, а ведь они появятся – и весьма скоро, если судить по всем ее замужним подружкам.
Ирена отчего-то полагала, что они с Игнатием вечно будут любоваться друг другом, чирикая о том, кто в кого сильнее влюблен. Но не минуло и двух недель их бракосочетания, как они уже сидят надувшись, не помышляя ни о каком чириканье, тем паче – о нежностях… Что же будет, когда еще и дети появятся?
Ирена ощутила вдруг себя невероятно одинокой, заблудившейся в этих красивых, восхитительных, но совершенно чужих ей просторах. Что же она делает? У нее на всем белом свете только один близкий человек – это Игнатий. Так что ж она сидит букою, отворотясь от него? Ждет, чтобы он обиделся? Остыл бы к ней? Но у кого она тогда найдет утешение в горестях, к кому приклонит голову на грудь?
Ирена порывисто обернулась к мужу – и от неожиданности даже отшатнулась с испуганным восклицанием, потому что в то же самое мгновенье Игнатий кинулся перед ней на колени и, крепко обняв ее ноги, прижался к ним щекой. Bсе тело его содрогалось от тяжелых рыданий, а сквозь надрывные всхлипывания прорывалось бормотание, сперва показавшееся Ирене совершенно бессвязным. Но вскоре она стала, хоть и с некоторым трудом, улавливать смысл этих бессвязных восклицаний.
– Ирена… Ирена! – задыхаясь, выкрикивал Игнатий. – Бога ради… не надо так! Не отворачивайтесь от меня! Я не вынесу… я этого просто не вынесу! Вы и не знаете, что значит для меня ваша любовь! Отец… о Господи… отец всегда считал меня ни на что не годным. Он давал мне деньги, но при этом говорил, что куда лучше было бы просто зарыть их в землю. Он думал, что без этих его денег я ничто… просто ничто! Его единственный сын… он презирал и меня, и себя – за то, что у него только такой сын, а другого нет! Он говорил, что я никому не буду нужен, кроме него самого и моей несчастной матери. Он говорил, что я достоин только таскаться с крепостными девками, что жену мне придется покупать за большие деньги. И вот, вообразите, Ирена, и вот я встретил вас, и вот вы полюбили меня – такого, какой я есть, ничего обо мне не зная и даже не представляя себе размеров батюшкиного наследства. И я привожу вас в Лаврентьево, показываю отцу: вас, которая ради меня попрала все условности, которая тайно со мной обвенчалась, которая была готова отдаться мне в карете, в наемной карете…
Он внезапно умолк, вскинул голову и уставился на Ирену огромными, влажными от слез глазами. У нее мелко затрепыхалось сердце. Стоя на коленях, бледный – вот уж в точности будто полотно! – Игнатий как никогда был похож на истинного романтического героя, обезумевшего от любви. Пусть некоторые его слова показались Ирене дикими, но ведь Игнатий воистину обезумел. Нет, она была жестока к нему! И с этой мыслью, движимая непременным желанием загладить свою жестокость, Ирена быстро нагнулась вперед и поцеловала его в губы.
Нет, она думала лишь коснуться… но губы ее мгновенно попали в капкан рта Игнатия, который алчно, до боли впился в них. Ирена чувствовала его язык, его зубы и, полуиспуганная, полудовольная таким взрывом чувств, пыталась отвечать так же пылко и так же болезненно. Поцелуй становился все более алчным, Ирене вдруг показалось, что их рты пожирают друг друга. Внезапно Игнатий схватил ее руку и прижал к своей груди.
– Слышите, как сердце бьется? – шепнул он, так резко прервав поцелуй, что у Ирены даже голова закружилась. – Это все вы сделали, все моя любовь к вам! Останови! – закричал он диким голосом, ужасно перепугав Ирену, и заколотил в стенку.
Слышно было, как возница громко, испуганно затпрукал, лошади стали, повозка несколько раз дернулась и замерла.
– Барин, чего изволите? – закричал возница. – Али случилось что? Не зашиблись ли?
– Поди… поди… – закричал Игнатий, приоткрывая дверцу и высовываясь наполовину так, что нижняя часть его тела была все же загорожена. – Поди вон, прогуляйся. Полчаса, ну час. И не подходи сюда, пока я не позову. Дам на водку. А подойдешь… – голос его вдруг сорвался, – а подойдешь – убью! Понял?
– Понял, понял, чего ж не понять! – донесся удаляющийся голос возницы, не в шутку испуганного. – Барин, я не подойду, вот те крест, только ты уж там поскорее управляйся, не то гроза нас застигнет, гроза вон собирается!
– Ладно, я скоро, – буркнул ему вслед Игнатий, захлопывая дверцу и оборачиваясь к Ирене.
Она в испуге вжалась в спинку сиденья, желая – и не в силах отвести глаза от пальцев Игнатия, который принялся расстегивать брюки.
Что, опять?!
Вдруг до Ирены долетел незнакомый голос.
– И давно ты тут комарей кормишь, болезный, пока они там отдыхают? – спрашивал кто-то.
– Да нет… – вяло отвечал возница. – Солнушко вон почти что и не двинулось, да только тучки все ближе сбираются. Ливень ливанет…
– Нет, разве что к ночи гроза сберется, – возразил незнакомец. – И тогда ударит гром в литавры, молния возожжет жертвенные огни…
– Чего? – промямлил немало изумленный кучер, и Ирена поняла, что сама изумлена неожиданным лексиконом.
Она хотела осторожно выглянуть в окошко, чтобы увидеть, какой это путник изъясняется, будто актер захудалого театра, однако Игнатий уже распахнул дверцу и вывалился из кареты, восторженно и недоверчиво крича:
– Ты ли это? Емеля? Емеля, душа Тряпичкин! Софокл беспорточный!
Глава IV
НЕВЕРОЯТНОЕ ИЗВЕСТИЕ
Ирена какое-то время сидела, испуганно глядя вслед Игнатию и слушая, как его восторженные выкрики перемежаются ответными, по большей части совершенно невнятными, а иногда несусветными, вроде: «Ах ты, студень! Явление второе: те же и… Взгляните, други: вырядился, будто на свадьбу!» Причем издавались все эти восклицания то басом, то волнующим баритоном, то смешным, писклявеньким голосишком, так что Ирене вскоре стало казаться, что там не один какой-то Емеля, а по меньшей мере пятеро или шестеро совершенно разных людей, причем один из них был «Софокл беспорточный». Он что, не одет?!
Наконец, не в силах одолеть любопытства, Ирена быстро поправила шляпку и решилась выглянуть.
Первое, что она с великим облегчением обнаружила, – молодой высокий мужик все-таки был в портках из небеленого холста, сделавшихся уже давным-давно грязно-серыми, а также в коричневом сермяжном армяке, надетом прямо на голое тело и подпоясанном чем-то, в чем после некоторого раздумья Ирена распознала обрывок вожжей, и то лишь потому, что точно такие вожжи тянулись к упряжи небольшой повозки. Это было нечто среднее между обрубленным дормезом и раскоряченным кабриолетом, словом, куцая несуразица, полинявшая и довольно-таки облезлая. Поскольку Емеля не переставал обнимать и увесисто хлопать по плечам Игнатия, вожжи то натягивались, то дергались, вынуждая дергаться низкорослую, косматую и тощую лошаденку, запряженную в этот, с позволения сказать, экипаж. Понимая, очевидно, что коли возница стоит на земле, то ехать никуда не надо и ее только попусту терзают, лошаденка сердито мотала головой, норовя длинными желтыми губами цапнуть своего мучителя то за плечо, то за смешную, нелепую шапку, боком сидевшую на его голове. Это было так смешно, что Ирена не сдержала хохота.
Игнатий и Емеля перестали колотить друг друга по плечам и обернулись к ней. Ярко-коричневые, будто спелые каштаны, Емелины глаза едва не выкатились из орбит при виде Ирены. Он сорвал шапку с головы и подмел ею пыль в поклоне, который сделал бы честь кавалеру времен Людовика XIV, хотя и несколько не вязался с прорехами армяка и косо, лесенкой стриженными белобрысыми лохмами. А впрочем, выражение лица у него было предоброе и черты весьма правильные.
– Приветствую тебя, о чудо красоты! – согнувшись и елозя шапкою по дороге, пробормотал Емеля. – Нимфа, к путнику строгой не будь, подскажи, гнев или милость готовят мне мудрые боги?
Ирена растерянно моргнула, не зная, верить ли своим ушам. Очевидно, почуяв ее потрясение, Емеля бухнулся на колени и принялся с невероятной стремительностью класть земные поклоны, бормоча:
– Матушка-барыня, милосердная госпожа и кормилица, не вели мя, раба твоего Емельку, казнить, вели миловать. Хошь бы словечко молвить изволь, а мы за тебя век будем Бога молить!
Тут Игнатий, доселе безмолвно глазевший на Емелины телодвижения и ошалелое Иренино лицо, вдруг чуть присел, хлопнул себя по полусогнутым коленям и захохотал так, что обе лошади – и та, на которой ехали Игнатий с Иреною, и Емелина мохнашка – враз испугались и принялись громко, заливисто ржать.
Кучер кинулся к своей, Емеля, прервав представление, – к своей, причем если первый хлестнул лошаденку два раза вожжами по кроткой морде, то Емеля встал в позу и, попытавшись вздернуть на плечо полу армяка, изрек:
– И ты, Брут!
Коняга, верно, смутилась – и умолкла.
– Ирена, ради бога, не пугайтесь, – кое-как сквозь смех выдавил Игнатий. – Этот Емеля, по прозвищу Софокл, – совершенно безобидное существо, вдобавок мой молочный брат, потому я и держусь с ним так, накоротке, – счел нужным объяснить Игнатий. – Вдобавок он не просто абы кто, а премьер батюшкиного домашнего театра, герой, герой-любовник, резонер, злодей, благородный отец, верный слуга – словом, все амплуа его, ибо талант в самом деле удивительный!
Ирена не без сомнения поглядела на нового знакомца, но следующая, если уж прибегать к театральному лексикону, реплика Игнатия ввергла ее в полный столбняк:
– А это моя жена, молодая графиня Лаврентьева, в девичестве графиня Сокольская. Прошу любить и жаловать.
Ирена не знала, то ли в обморок хлопнуться, то ли зарыдать, то ли расхохотаться презрительно: ее – ее! – в жизни еще не представляли мужику, пусть и крепостному актеру, а они, как известно, пользовались среди прочей дворни некоторыми привилегиями, пусть и молочному брату – ну и что, подумаешь, Станислава тоже выкормила, из-за матушкиной болезни, крепостная мамка, и у нее был свой ребеночек, однако он жил себе да и жил в одной из многочисленных деревень Сокольских, и никто в господском доме даже имени его не помнил. Нет, надо с этой фамильярностью Игнатия непременно покончить. Кто спит с собаками, у того блохи не выводятся! Ей захотелось прямо сейчас, немедля, дать Емеле хорошую оплеуху, чтобы сразу поставить его на место, однако Игнатий явно желал, чтобы она была с Емелею поприветливее, а потому Ирена не стала перечить мужу перед таким ничтожеством, как крепостной мужик, и шевельнула уголками губ, изображая улыбку.
Емеля, впрочем, оказался не способен оценить ее благорасположения: по-прежнему стоял столбом, пялясь на Ирену, и бормотал, тыча в нее пальцем, словно в какого-нибудь настоящего, всамделишного китайца, сидящего в витрине ярмарочного павильона:
– Да хва врать-то, Игнаша! Неужто и прям из графьев? Брешешь, как не совестно! Небось подобрал в нумерах да нарядил как куклу!
– Что?! – рыкнул Игнатий, замахиваясь, однако Емеля оказался проворнее и рухнул на колени, патетически заламывая руки и в голос вопия:
– О грозная, неумолимая царица! Прости раба, что слово глупое промолвил! Не будь, владычица, жестокосердной, вели своим вассалам кинжалы спрятать в ножны. Язык мой – враг, но он еще послужит тебе и мне! Не отрезай его!
Ирена крепилась-крепилась, да не смогла сдержаться – фыркнула. Игнатий же хохотал от всей души.
– Ладно, Софокл, будет паясничать, поднимайся. Ты прощен покуда, ну а впредь забываться не изволь. Скажи лучше, отчего меня с молодой супругою никто не встретил? Неужто не получили письма?
– Получили с опозданием, – смиренно сообщил Емеля, поднимаясь с колен и опасливо косясь на Ирену. – Да и то в нашей суматохе решили: ничего, сам как-нибудь доберешься. Ну потом, уж так и быть, послали меня.
Игнатий даже задохнулся и какое-то время стоял, весь пунцовый от возмущения, не в силах слова молвить.
– Как так – решили? – наконец возмущенно, срываясь на какой-то петушиный хрип, воскликнул он. – Кто это решил меня не встречать и вместо эскорта прислать мне с графинею такую позорную телегу? Да я за такое… да я… знаешь ли ты, что я сейчас с тобой сделаю, коли ты осмелился мне даже сказать такое?!
– Ну что ж, давай, коси малину, руби смородину, – пожал плечами Емеля, похоже, ничуть не убоявшийся этого взрыва негодования. – Чего валишь с больной головы на здоровую? Я, что ль, распорядился не по твоему хотению? Адольф Иваныч у нас главный управляющий – его воли и есть наказ.
– Какой еще Адольф? – гневно выкрикнул Игнатий. – Не знаю никакого Адольфа!
– Вестимо, не знаешь, – покладисто проговорил Емеля. – Его в Лаврентьево всего лишь год как наняли, ты в эту пору уже в санкт-петербурхах обретался.
– Батюшка мне ни про какого Адольфа не сообщал, – не без обиды поджал губы Игнатий, на что Емеля с прежней рассудительной покладистостью ответствовал:
– А их сиятельство, верно, сочли: на что дитяти голову пустяшностью всякою забивать? Меньше знаешь, лучше спишь.
– Одному удивляюсь, – заносчиво произнес Игнатий. – Как это батюшка позволил, чтобы какой-то там Адольф позволил себе так меня унизить?! Как он не воспротивился, увидев сию колымагу? Или не заметил? Да здоров ли он, я все позабываю спросить?
Емеля раз или два хлопнул глазами, которые внезапно вытаращились до вовсе уж ненормальных пределов. Глядя на него, Ирена впервые полностью осознала смысл выражения: глаза на лоб вылезли.
– Софокл, да полно тебе рожи корчить! – нетерпеливо выкрикнул Игнатий. – Болен, что ли, отец? Ну, и каково он? Не удар ли?
Емеля шлепнул губами, но изо рта его вырвалось только слабое шипение.
– Что? – крикнул Игнатий, еще пуще побагровев. – Что с батюшкою?!
– Так ведь он… уже месяца два… преставился! – кое-как выговорил Емеля. – Разве ты не знал?
Глава V
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ
Игнатий стоял недвижим. Ирена зажала рот рукой, увидев, каким бледным сделалось его только что налитое кровью лицо.
– Не знал… – наконец-то смог он выдавить сквозь посеревшие губы.
– Царство небесное их сиятельству! – Емеля размашисто перекрестился. – Вот уж кто, думали, вечен и бессмертен! Однако все мы конечны, и баре не менее мужиков. – Он снова перекрестился, и голос его постепенно утратил приличную печальному известию тихую скорбь и патетически возвысился: – А что? Али они не из той же глины Господом слеплены?
Ирена его, впрочем, и не слушала. Испуганно простерла руки к Игнатию, едва не рыдая от жалости к нему. У нее и самой заболело сердце от внезапности страшной вести – что же должен был испытывать Игнатий? Одно дело – с детским жестокосердием мечтать о том, как со смертью отца он будет сам себе хозяином, другое дело – столкнуться с этой смертью лицом к лицу… Нет, посмотреть ей как бы вслед. Еще неизвестно, что тяжелее перенести Игнатию: весть о кончине отца или пренебрежительное молчание управляющего. Как этот мерзкий Адольф посмел не сообщить молодому господину о случившемся? Впрочем, может быть, тут виновна почта? Надо надеяться, Игнатий накрепко проучит нерадивого негодяя, слишком о себе возомнившего, а еще лучше – вовсе его уволит… нет, с позором выгонит взашей!
Ирена даже поразилась, откуда у нее вдруг взялась такая ненависть к совершенно незнакомому, ни разу не виденному человеку. И, главное дело, ненависть эта вспыхнула совершенно некстати: сейчас надобно не об Адольфе каком-то там думать, а утешить своего молодого мужа, пережившего страшное потрясение!
Она шагнула к Игнатию, желая обнять, поцеловать эти прекрасные, полные слез глаза, погладить понурую чернокудрую голову, сказать, что горе – это, конечно, горе, но он теперь не один на свете, есть существо рядом, которое разделит с ним все горести и все печали, однако запнулась, удивленная. В лицо Игнатия вернулись краски, плечи его распрямились. Чернокудрая голова вовсе не была печально опущена, сверкающие глаза были совершенно сухими, и вообще – он ничуть не напоминал раздавленного бедою, осиротелого сына.
– Ах ты Софокл чертов! – вдруг проговорил он, обращаясь к Емеле низким голосом, какой бывает у человека, пытающегося скрыть так и рвущееся наружу возбуждение. – Такая новость… а ты все вокруг да около! Напился, да? Вот погоди – я из тебя дурь повыбью. Ты у меня не забалуешь, как при батюшке! Никто не забалует! – вдруг выкрикнул он, потрясая кулаками, и осекся, опустил руки. Суматошно оглянулся, словно устыдившись.
Емеля, оглаживая переполошившуюся мохноногую лошадку и обращаясь как бы к той, примирительно молвил:
– Ладно, ваше сиятельство, уж будя вопеть-то, давай, повелевай, на ком далее поедешь: на мне али на прежнем кучере?
– Выгружай вещи, Софокл, да поскорее, – приказал Игнатий. – Какая ни есть развалюха, а все ж своя. Но этот ваш Адольф Иваныч мне дорого заплатит за нее… дорого! Кстати о плате: ты уж не сердись на меня, – просительно обратился он к наемному вознице, который с разинутым ртом наблюдал за происходящим. – Мы, конечно, уговаривались до Лаврентьева, однако у меня денег только за полдороги заплатить, а больше нет.
Кучер, обретя наконец дар речи, возмущенно заблажил, однако Игнатий внезапно вспомнил о своем графском достоинстве и так грозно выкатил глаза, так взревел:
– А ну, пшел прочь, дурак! Вот я тебя!.. – что обиженный возница счел за благо убраться восвояси, даже не пересчитав монет, которых ссыпал ему в горсть Игнатий, а свое отношение к свершившемуся выразил особенной грубостью, с которой побросал привязанный к задку его повозки багаж.
Емеля даже закряхтел, увидев эту гору, однако Игнатий не преминул по-новому, по-графски, рыкнуть и на него, а потому вещи довольно споро оказались погружены заново, накрепко увязаны – и Ирена не успела опомниться, как оказалась сидящей рядом с мужем в очередном экипаже, внутренность которого отличалась от прежнего только тем, что сиденья и стенки были обиты не ржавой, потрескавшейся кожею, а до лысин протертым линялым трипом[6] неопределенного цвета да пахло в карете не мышами, как в прежней, а застарелой плесенью.
Игнатий так и не сказал ей ни слова. Едва Емеля уговорил мохноногую, которая все еще не пришла в себя с испугу, тронуться с места, он откинулся на спинку и закрыл глаза. Ирена, по обыкновению забившись в уголок, исподтишка на него поглядывала.
Голубая жилка билась на виске Игнатия, нервно подрагивали длинные, круто загнутые ресницы, губы были плотно стиснуты, и все лицо его четкостью и отточенностью черт напоминало античный мраморный образ. По горлу Игнатия порою пробегал комок, сплетенные пальцы начинали дрожать, и Ирена поняла, что до ее мужа наконец-то дошла суть свершившегося, постепенно сменив первое оглушительное, неразборчивое потрясение. Да уж, ему было о чем подумать… хотя бы о тех непредсказуемых случайностях, которые способны мгновенно прекратить одну человеческую жизнь – и перевернуть другую.
Судя по Емелиным отрывочным словам, которые услышала Ирена, пока мужчины увязывали багаж, граф Лаврентьев умер по оплошности цирюльника. Нет, тот не перехватил барину спьяну горло опасной бритвою, что было хотя бы понятно и не столь обидно. Срезая графу мозоль, цирюльник слегка зацепил за живое, так что показалась кровь. Обрез был ничтожным, ему и внимания-то никто не уделил, разве что барин насмешливо бросил: «Спасибо! Усердно поработал!» Однако порез не исчез вскорости бесследно, как следовало ожидать, а вокруг него образовалось черное пятно.
Вызванный доктор поглядел на зловещее пятно и сообщил, что налицо старческое умирание конечностей, проявившееся антоновым огнем, который прекратить невозможно.
Да уж! Антонов огонь мгновенно распространился на всю ступню и грозил ползти по ноге. Граф, всегда отличавшийся поразительным хладнокровием и быстрым принятием решений, заявил, что ногу надобно отрезать. Хотя два привезенных к нему и лечивших его доктора титуловались медико-хирургами, оба, лишь дело дошло до операции, стали от нее отказываться. Решили дело наконец-то жребием. При операции могучий духом и телом граф сам, без посторонней помощи держал ногу, ободрял хирурга и только иногда спрашивал: «Ну, скоро вы там?»
Операция закончилась, рана уже стала подживать, как вдруг резко почернела – и жар мгновенно дошел до мозга.
Старый Лаврентьев умер в один день…
Свое страшное сообщение Емеля закончил философическим изречением:
– Ну, что делать, судьба: кому скоромным куском подавиться – хоть век постись, а комара проглотишь – и подавишься.
Наверное, он искренне хотел утешить Игнатия, однако вряд ли это ему удалось.
Конечно, сочувственно рассуждала Ирена, отношения отца с сыном были очень непростыми, а все-таки Игнатий сейчас не может не вспоминать лучших дней их совместной жизни, забот и щедрости отца. Наверное, ему нелегко поверить, что этого больше не будет, что отец навеки закрыл глаза и уже не сказать ему, никогда не сказать о своей сыновней любви.
Она тоже прикрыла глаза, потому что на них вдруг навернулись слезы. Вот если, Господи помилуй, за время ее бегства что-то приключится с отцом и матушкою – каково-то будет чувствовать себя Ирена, узнав об этом? Какая мука ляжет ей на душу!
Сердце защемило от боли, тоски, раскаяния. В который уже раз горько попрекнула себя Ирена за то, что поддалась безрассудному порыву и нанесла такое ужасное оскорбление своей семье. Матушка с отцом уже давно вернулись домой, прочли ее невразумительную записку и… ужаснулись? Впали в отчаяние? Кинулись на поиски своей глупой, заблудшей дочери? Или прокляли ее, вычеркнули из своей жизни, запретив упоминать даже имя ее и заперев ее комнаты, словно в них обитала прокаженная, даже мысль о которой может нести смертельную заразу?
Ирена с трудом подавила надрывное всхлипывание и взглянула на Игнатия. Он по-прежнему сидел закрыв глаза, с выражением тяжелой задумчивости. И такое одиночество взяло вдруг Ирену за сердце, что она принуждена была прижать к нему руки жестом извечной боли.
Они ведь муж и жена! Они поженились, пылая любовью и желанием быть всегда, нераздельно вместе! Отчего же сейчас, в самую тяжкую минуту их недолгой совместной жизни, они сидят врозь, отодвинувшись друг от друга как можно дальше – словно нарочно разъединившись перед лицом горя, которое должно было объединить их…
Ах, если бы Игнатий сейчас обнял ее, поцеловал… хотя бы приласкал рассеянно! Хотя бы снова начал приставать со своими пугающими непристойностями – она, кажется, стерпела бы и это, только не сидеть вот так, сжавшись в уголке, бездомною, никому не нужной бродяжкою!
Жалость к себе с такой силой вспыхнула в сердце Ирены, что она с трудом подавила желание искательно, просяще прильнуть к Игнатию – не затем, чтобы его утешить, а утешиться самой. Так заласканная кошка, обидевшись, что призадумавшийся хозяин не обращает на нее внимания, тычется мордочкой в его безучастно повисшую ладонь, подлазит под руку, нетерпеливо и раздраженно мяукая: ну погладь же ты, мол, меня!
Ну нет. Ирена не кошка! И если Игнатий не понимает, что все беды (а не только радости!) муж и жена должны делить пополам, она научит его. Только не сейчас. Немного времени спустя. Когда оставит его тяжкая задумчивость, а у Ирены высохнут предательские слезы.
Она отвернулась к окну, уставилась на скачущие мимо леса: дорога здесь была неровная, очевидно, они уже свернули от главного пути к Лаврентьеву.
Чем дальше гнал Емеля свою низкорослую, но очень выносливую лошаденку, тем более начинали редеть деревья, и вдруг сквозь них, сверкнув со всех сторон, открылась неширокая речка, окаймлявшая долину. По долине тянулась деревенька, затем роща, просторные поля… Все было озарено ласковым, уже не слепящим, а мягким предзакатным солнцем, которое бережно высвечивало каждый листок, каждую травинку, каждую веточку, словно торопясь полюбоваться их красотою и свежестью, прежде чем заиграют в небесах буйные краски заката, а им на смену явится темная, неразборчивая ночь.
Замелькали деревенские избы. Улочка была довольно чиста, хотя непременная свинья возлежала в непременной луже, так привольно перегородившей дорогу, что карета пробралась через нее, лишь чудом не увязив колеса.
Емеля громко кричал на лошадь; Игнатий, очнувшись от задумчивости, выглядывал в окно с выражением острого, болезненного любопытства, как если бы оказался здесь впервые.
Наконец деревенька осталась позади. За околицей Ирена увидела сколоченную из бревен перекладину, на которой висел колокол. В такие колокола били набат при пожаре или другой тревоге. Но все кругом было тихо и мирно. Вдали виднелась вереница белых платочков и разноцветных сарафанов, юбок, кофт: с полей гуськом шли бабы, закинув на плечи тяпки, с белыми узелками в руках.
– Останови, Софокл, – вдруг сказал Игнатий, а поскольку Емеля не услышал, завопил что было мочи: – Останови, тебе говорят!
Оглушенная, испуганная Ирена зажала уши.
Игнатий выскочил из кареты, оскользнулся на лепехе навоза, громко чертыхнулся и кинулся к набатному колоколу. Схватился за веревку, дернул раз, и другой, и третий…
Тяжелый, тревожный гул прокатился над деревней.
– Ты что делаешь, Игнаша? – испуганно вскричал Емеля. – Да сюда сейчас уйма народу сбежится!






