Справа оставался городок Щербакова Галина
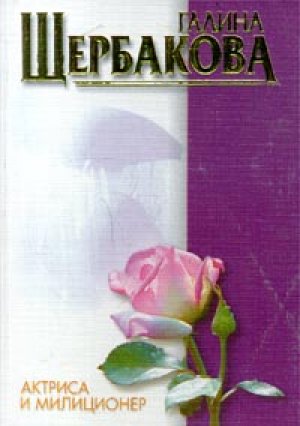
Улица была обрублена с двух концов.
Сразу после войны трехэтажный «дом-гигант», на строительстве которого Мокеевна работала в тридцать втором году, отдали под общежитие вербованным рабочим. Законы в общежитии свои, порядки тоже, и улица, сговорившись, выстроила против «гиганта» бетонный забор. Собственно, не выстроила – вылила. Сейчас он уже осел, хоть и говорили, что ничего с ним и за сто лет не сделается, и росла сверху на заборе трава.
С другого конца Короткой была построена больница. С тех пор улице – ни туда ни сюда. Стала она кургузой, но зато тихой. Машины приезжают только свои. Пш! Пш! Подруливают спокойно, без шума. Да еще «скорая» по улице временами ездит уколы делать старому шахтеру Макару Васильевичу. Вот уже какой год ездит, а он все живет, хоть на улице убеждены: даже если здорового человека столько раз шприцем потыкать – помрет как миленький. А этому не лучше, не хуже.
Верка Корониха, медсестра из гнойной операционной, что живет на этой улице, уверяет, что, если б не было чертова забора и можно было по прямой отвозить в больницу разных больных, побитых и порезанных, была б большая экономия и медикаментов, и медицинских сил.
Последнее время поползли слухи, что улицу сломают совсем – будут расширять больницу. Миром написали куда надо письмо с протестом, все подписали, кроме Героя Социалистического Труда Кузьменко Леонида Федоровича. Он был против. Он так и ходил, гордый своей принципиальностью, не зная, что в последний момент его жена Антонина подпись его подделала, потому что какой же это документ без подписи Героя?
Все одобряли Антонину за решительность, и письмо ушло в Москву. Но ответа все не было, и разговоры стихли. И это можно было понимать по-разному. То ли ничего и не собирались делать с обрубленной улицей, то ли прислушались к голосу народа и Героя Социалистического Труда.
К тому моменту, с которого мы начинаем рассказ, никаких событий на улице не происходило. В холодке на веранде лежал удивительный жилец этого света, Макар Васильевич. Он думал о зиме, о соревнованиях по фигурному катанию. Он очень любил этот вид спорта и каждое лето мечтал дожить до зимы. Правда, ушла на тренерскую работу очень симпатичная девушка Габи, но Макар надеялся, что ее покажут, когда она – теперь тренер – будет принимать в свои объятия откатавшихся немчиков и будет тереться о них щекой.
– Вот так и лежит целыми днями, – рассказывала соседкам его внучка Полина Николаевна, с которой дед Макар доживает жизнь. – Я так думаю, что он уже ничего не понимает. Спросишь его – мычит чего-то… А не умирает… Ему и самому, бедному, наверное, жизнь надоела…
Никто в это лето не кончал на Короткой школу, никто не женился. Про холеру поговорили – и перестали. Верка принесла из больницы двенадцать килограммов хлорки и раздала всем, чтоб посыпали в уборных. Посыпали. Слоями стояли по вечерам густые запахи улицы – жареной картошки со свининой, подгнивающих в изобилии яблок, хлорки и нежный, как папиросная прокладка в дорогой книге, запах фиалки.
На эти запахи выходила на улицу Мокеевна. Под старой, слинявшей от дождей клеенкой стоял у нее во дворе венский стул с гнутой спинкой. Она ставила его возле калитки, которую здесь называют форткой, гнутой спинкой поворачивала к общежитию, но не почему-либо, а только из-за солнца, которое, будто не желая уходить, по вечерам долго обнеживало островерхую крышу «гиганта» то сверху, то слева, то справа. Садясь, Мокеевна клала руку на палочку с причудливой ручкой, оставшуюся от мужа. Покойник любил ходить в шляпе и с палочкой. Было и того и другого у него много. Шляп – соломенных, фетровых, парусиновых, и палочек – и темных, и светлых, и расписных, с выжженными из разных мест приветами, и даже палка-зонтик – вещь вообще ненужная. Кто это по их грязи и в дождь гуляет?
«Это было папино хобби», – сказала недавно старшая дочь Мокеевны, директор школы в Тюмени. И Мокеевне стало неприятно, вроде Анна чем-то оскорбила покойного Деда. Так Мокеевна еще и при жизни называла мужа. Она помнила, как на улице говорили:
«Дед Сычев как из дому шел? Простой или при шляпе?»
Если при шляпе – значит, не по делам. Шляпа и палочка – это были предметы Дедова гулянья, это на футбол сходить, пиво попить, лекцию о международном положении послушать… По делам Дед ходил, как все, в фуражке. «Раньше люди, – думала Мокеевна, – вообще знали и время, и место. Пили по выходным, свадьбы справляли осенью, ели не часто, но помногу, а сейчас всюду пишут, что надо понемножку, но часто. На кого это рассчитано? На какого такого неработающего человека?»
Мокеевна знала на улице всех и все. В этом не было большого секрета – человек, считай, всю жизнь тут прожил. Но вот как она ухитрялась, посидев три часа у фортки и ни с кем не поговорив, узнать не только, что было в этот день в каждом дворе, но и что случится завтра, это, конечно, улицу несколько беспокоило.
Подошла к ней как-то соседка через три дома, Лукьяновна, с плачем: «У моего что-то страшное доктора находят».
– Знаю, – говорит Мокеевна.
– Господи, откуда ж ты знаешь, если мне только сегодня сказали? – возмущается Лукьяновна.
– Он у тебя уже полгода больной, – говорит Мокеевна, – а я тебе все удивляюсь, ходишь, смеешься. Краситься прошлым месяцем пошла…
– Он тебе жаловался, что ли? – пугается Лукьяновна.
– Не он. Гузно его жаловалось…
– Какое гузно? – совсем теряется Лукьяновна.
– То, что сзади. Оно ж у него совсем присохло. На нем все штаны раньше были в обтяжку, половинки аж играли, а теперь ничего нет. С несерьезной болезни мясо так не пропадает.
Первой узнала Мокеевна, что дал задний ход жених Полининой дочери. И надо же, именно ей Полина доказывала, что Витя уехал в длительную секретную командировку, откуда и писать нельзя. Мокеевна качала головой, жалела Тамарку, а Полину урезонивала:
– Ты только много не бреши. Утопнешь.
– Как вам не стыдно, – возмущалась Полина, – кто это брешет?
– Ты лучше Томке объясни, чтоб она не ходила как с креста снятая. Это ж ей вредит…
– Вам легко говорить, – вздыхала Полина.
Мокеевне, наверное, действительно было легко говорить на эти темы. Было у нее три дочери. Все три были старые девы. И уже окончательно. И думала, и говорила об этом Мокеевна спокойно, что людей удивляло. Разве ж может мать не переживать, если три девки засохли на корню? Но старухе было вроде все равно. А если уж говорить честно, то и не вроде, а на самом деле была она спокойная и счастливая. Не оттого, конечно, что дочери не замужем, а оттого, что все, что можно, уже пережито: смерти, потери, несправедливости – все было, было, было… И заросло. И переживала Мокеевна сейчас счастливую, безмятежную старость. Сидела на крыше своей жизни, с удовлетворением постигая, что карабкаться и выкарабкиваться уже не надо. Сиди себе на душевной верхотуре, озирайся, сверху далеко видно, и радуйся, что завтра не может принести ни потерь, ни неожиданностей. И как о детской дурости вспоминала она иногда о молодом страхе перед старостью. Что с нее, с молодости, возьмешь?
Она с удивлением думала о том времени, когда в гражданскую убили ее жениха. Как кидалась она грудью на стерню и выла. Казалось, что конец всему. Потом в двадцать девятом ее дядьку, у которого она жила с трех лет после смерти родителей, раскулачивали. Выгнали их, простоволосых, из хаты и увезли. Ее, сироту, не тронули. Тоже бежала по стерне, тоже выла. Но забылось и это. Уехала на шахты. Встретила своего Деда Сычева, тогда просто Митю. Ей уже тридцать было, она и не чаяла замуж выйти, а Митя, хоть и моложе был на четыре года, так пристал, такой был настойчивый, что года не прошло с тех пор, как осталась одна, вышла замуж. А потом голод в тридцать втором. Еле-еле выходила маленькую свою Аньку. Ходила голодная «гигант» строить. Воздвигали невообразимую высоту с балкончиками. Вышла раз на третьем этаже поглядеть с такой махины на свою землянку – и чуть сознание не потеряла. «Кто ж тут жить будет? – думала. – Скворцы и то ниже». Только-только новая жизнь стала налаживаться, Митя в шахте стал стахановцем, его портрет в газете даже поместили. Две дочки, что родились после болезненной Аньки, были крепкие, потому что была уже своя корова, хорошая такая корова, молочная… Все было хорошо, и парень родился. Митя от радости только что на руках не ходил… Назвали Колькой. А тут война… И мальчишку в сорок первом девчонки потеряли. Пошли на ставок купаться, а его на траве вроде оставили… А тут где-то бомбежка. Они ее еще не слышали. Девчонки перепугались до смерти, вылезли, а ребенка – нету. Туда-сюда. Кругом шурфы глубокие, дите, видать, и не заметило. Митя на фронте. Валентина, та, что постарше, стала после Колюшки заикаться. По ночам стала кричать… Корову украли. Есть стало нечего. Когда наши отошли из Донбасса, а немцы еще не пришли, было у них пять дней безвластия. Начался грабеж. Откуда их столько, бандитов, вылезло? Люди по погребам прятались, с топорами спать ложились. Она слышала, как корову уводили. А что сделаешь? Хотела кинуться, о смерти в такой момент разве думаешь? Девчонки на руках повисли, не пустили. Валентина совсем головой замотала, так они стояли и слушали, как сбивали с сарая замок… Она совсем не боялась немцев, а когда пришли, ругалась с ними, скандалила, во двор не пускала. Потом ей объяснили, что ей с рук все сходило, потому что это не немцы были, а итальянцы и румыны. «Один черт!» – говорила Мокеевна. Но когда появились уже в конце оккупации «настоящие» немцы, утихла: поняла, что черт не один. А потом стали все с войны возвращаться, а Мити все нет и нет, нет и нет… Живой, знала, живой… Писал ведь. Куда человек делся, если с 9 мая 1945 года фотографию прислал – стоит возле танка, усы вверх закручены, морда довольная. Видно, снимался выпивши. А потом исчез. И объявился аж через два года. Она уже работу нашла хорошую – базарной. Ходила по базару, собирала рубчики за место. Пока пройдешь по ряду, накидают в сумку и мяса, и масла, и рыбки. Вначале стеснялась, на милостыню походило все это, потом увидела, что это дань не ей, а ее должности, разносит она по базару бумажные квадратики с лиловыми разводами печати, которым цена два рубля, а это ж разве деньги? Место на базаре – все! За него и десяти бы рублей не жалко! Так что то, что приносила она в сумке, было вроде бы справедливо… Так и приспособилась безмужняя Мокеевна к нелегкой послевоенной жизни, а тут Митя и объявился… Худой, весь какой-то шелудивый… Но в шляпе. Он ее двумя пальчиками снял у порога и говорит: «Если простишь – переступлю порог, а нет – так и травить душу не хочу, сразу уйду». Девчонки кинулись к нему, через порог втащили. Оказывается, повезла его одна медицинская сестра к себе… Да не куда-нибудь, а в Москву. Вот он там два года помыкался и сбежал. Потом он в подробностях рассказал Мокеевне всю историю. И как началось, и как кончилось. Странное дело, не было у нее никакой обиды на ту женщину. Митя рассказывал: «У нее в Москве комната на Тверском бульваре, шесть метров, чистая комната, хорошая, но, поверь, Лиза, я в той комнате чувствовал себя как в пенале. Ночью прямо ужас какой, руками шевелю над головой, задвижку выдвинуть хочу… А женщина она хорошая… Муж погиб… Молодая…» Пошел Митя на шахту, стал опять хорошо зарабатывать, велел кончать Мокеевне базарные дела… И вроде и не было его долгого возвращения. А от незадавшейся московской жизни осталась только привычка носить шляпу и на гулянье выбрасывать вперед ног палочку. «Ну, Сычев – чистый интеллигент», – говорили на обрубленной улице.
А как отгрохали они домище, дочки уехали. Остались вдвоем, копили на машину, мечтали о внуках… У Анны уже высшее образование. Учительница. Вот у Валентины, правда, из-за заикания ничего с институтом не вышло. Поехала к старшей. Работает на фабрике. Прядильщица. А Елена только-только поступила на медицинский. Жизнь вполне хорошая, был бы мальчишечка, тоже подняли бы… И, бывало, лежат они с мужем на двух никелированных кроватях, головами к большому, толстому китайскому ковру, и Мокеевна спрашивает: «А что, Дед, вот эти две кровати поместились бы в той московской комнате?» «Да что ты!» – отвечал Митя. Вскакивал с кровати и ногами в голубых трикотажных кальсонах отмерял шесть квадратных метров. Радостно убеждался, что и в длину кровати не прошли бы. Мокеевна качала головой: «Эх ты, меряльщик! Разве ж в этом дело?» И Сычев смущенно лез под стеганое одеяло: «Ты ж пойми, я в шахте привык согнувшись, но это ж работа… А дома надо чтоб просторно. У нас вон все двери открыты. Воздух!»
А в пятьдесят седьмом присыпало Деда. Хоронили его пышно, как и полагается знатного человека. Мокеевне определили хорошую пенсию. А зачем ей деньги? У нее на сберкнижке вся машина уже лежала. И то ли оттого, что все предыдущие несчастья обязательно сулили нищету и неустроенность, а это было другим, то ли и слез уже больших не осталось, только в стерню Мокеевна грудью не падала. Шла за гробом в черной гипюровой накидке, высокая, величественная. И казалось, не дочки ее, а она их поддерживает в эту минуту.



