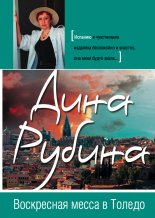Роман-воспоминание Рыбаков Анатолий
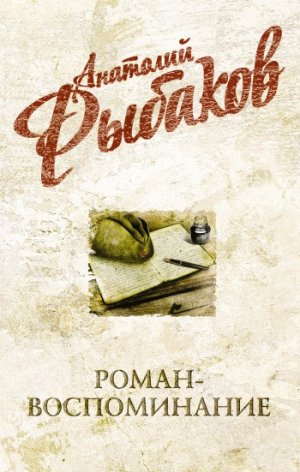
Как-то в школу пригласили старика француза – доживавшего свой век в Москве участника Парижской коммуны. Чтобы ученики не разбежались после уроков, Гриша приказал запереть вешалку, закрыть двери, никого не выпускать. Встреча состоялась. Принуждать людей ходить на собрание безнравственно? А пренебрегать памятью героических парижских коммунаров, расстрелянных у стены Пер-Лашез, – это нравственно? Так рассуждали мы тогда. И я так рассуждал. И все же смущали испуг и растерянность, которые видел я на лицах учителей, многих учеников, особенно девочек – мы внушали им страх. Я старался подражать Грише – не кричал, уговаривал, убеждал. Но не получалось, как у Гриши: в его голосе была особая тональность, которой я не владел. Однажды он мне насмешливо сказал: «Либеральничаешь?» Вроде бы беззлобно сказал, но со значением, он все говорил со значением.
Мы во всем поддерживали Гришу, были его верным и преданным окружением, он олицетворял для нас новую, революционную мораль, находил время для каждого, внимательно выслушивал, давал ненавязчивые советы, ободряюще улыбался, у него были небольшие карие глаза, то ли усталые, то ли грустные, мясистый нос, откинутые назад черные прямые волосы. В лице была некая асимметрия, может быть, из-за чуть скошенного рта и чуть отвислой нижней губы. Нам нравилось, что он с Кавказа, рассказывал о Сураханах, Балаханах, Биби-Эйбате, нефтяных промыслах, о бакинском пролетариате, о двадцати шести бакинских комиссарах, убитых англичанами…
В декабре 1925 года покончил с собой Есенин. Его тело привезли из Ленинграда. Я и еще несколько ребят пошли на панихиду в уже упомянутый мною Дом печати на Никитском бульваре. На фасаде дома висел большой плакат: «Умер великий поэт». Народу было много. После панихиды гроб вынесли, и многолюдная похоронная процессия двинулась по Никитскому и Тверскому бульварам. Всю дорогу гроб несли на руках, два раза обнесли вокруг памятника Пушкину. На Ваганьковском кладбище опять выступали с речами. Как и в Доме печати, я их не слышал, там я стоял во дворе, здесь – далеко от могилы. Я знал, что у Есенина было много поклонников, но и много врагов, называвших его «кулацким поэтом», преследовавших и бранивших его в печати… «Но, обреченный на гоненье, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть». Я знал, что он пьянствует, устраивает скандалы, но любил Есенина, грусть его поэзии, чудесное сплетение слов… «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне…», «О Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску»… Пронзает сердце.
Смерть Есенина взбудоражила молодежь. Этого не могла скрыть и затушевать даже мощная государственная пропагандистская машина. Были случаи самоубийств, были собрания, выступления, направленные против режима, толкнувшего на смерть лучшего поэта России. Комсомольский поэт Иосиф Уткин, и тот написал: «И кроме права жизни, есть право умереть». В нашей школе было объявлено, что ближайшее заседание литературного кружка посвящается памяти Есенина, и на него приглашаются все желающие.
Гриша тут же собрал комсомольцев, сказал, что заседание литкружка, посвященное Есенину, будет носить антисоветский характер и мы обязаны дать этому отпор, должны пойти на это заседание, выступить и защитить партийную точку зрения на творчество Есенина и на факт его самоубийства.
– Первым выступишь ты, Толя, – сказал он мне.
– Почему именно я?
– Ты вроде бы знаток Есенина. Даже был на его похоронах.
– На похоронах я был, но это не значит, что знаток.
– Пошел просто поглазеть?
– Нет, пошел потому, что считаю его крупным поэтом.
– Считаешь крупным? Значит, знаешь его. Вот и выступи, только с наших, партийных позиций выступи.
– Против Есенина выступать не буду.
– Это комсомольское поручение.
– Не комсомольское, а лично твое.
– Проверим! – Он обратился к собранию: – Как? Будем выступать? Дадим отпор антисоветчикам?
Вскочил Левка Бычков, Гришин подлипала. По школе ходило ироническое стихотворение про Гришу («Наш предучком и господин»), в нем были строчки: «И, ожидая приказаний, Бычков трепещет перед ним».
– Конечно, мы все обязаны выступить, – объявил Левка Бычков.
И хотя все молчали, Гриша сказал мне:
– Видишь, что думают другие комсомольцы?
– Я выступать не буду.
– Отказываешься? Хорошо! Обсудим и сделаем организационные выводы.
Однако давать отпор и делать «организационные» выводы не пришлось. Накануне заседания кружка Гриша опять собрал нас.
– Мы не пойдем на их заседание, не будем помогать им раздувать истерику в школе. Поболтают и разойдутся.
Неплохой тактик, Гриша сообразил, что ничего хорошего дискуссия не даст. Комсомольцы начнут цитировать казенные фразы из газет, а поклонники Есенина будут читать его стихи, победа окажется на их стороне. И не надо ввязываться. Умел маневрировать, не допускал поражений.
Школьный драмкружок вела Елена Павловна – сестра бывшей заведующей школой, в прошлом актриса. Ставили русскую драматическую классику. Играли ребята хорошо.
Гриша пригласил Елену Павловну на учком, любезно пододвинул ей стул и, улыбаясь, сказал:
– Елена Павловна, нам кажется, следует ввести в репертуар современные пьесы.
– Какие?
– Хотелось бы видеть на сцене жизнь рабочих и крестьян, а не только дворян и купцов.
Она пожала плечами. Пожилая представительная женщина с хорошей актерской осанкой.
– Мы ставим Островского, Гоголя, Грибоедова, Фонвизина, ничего другого они не писали.
– Есть и наши, советские авторы.
Она снова пожала плечами:
– Мы репетируем «Ревизора»… Не знаю… Может быть, в будущем году.
– Нет, Елена Павловна, мы хотим, чтобы к Первому мая вы поставили какой-нибудь революционный спектакль.
– Но до мая осталось два месяца, это невозможно! Пьесу надо выбирать, спектакль надо готовить. Я не могу делать кое-как, я ученица Станиславского.
– Значит, вы отказываетесь?
– В мае мы даем «Ревизора», ничего уже изменить нельзя.
– Что же, спасибо, Елена Павловна.
Она вышла.
– Поставим вопрос перед дирекцией, – сказал Гриша.
Я спросил:
– Думаешь, ее заставят?
– Пьесы советских авторов ей чужды, – ответил Гриша. – Ничего, найдут другого руководителя драмкружка.
Для меня Елена Павловна была неотделима от школы. И она права: за два месяца подготовить спектакль, да и неизвестно по какой пьесе, – невозможно.
– Как же можно ее заменить? – возразил я. – Она в школе много лет.
– Романовы правили Россией триста лет, и то прогнали. – Гриша помолчал, посмотрел на меня, сузив глаза: – Пора избавляться от интеллигентщины, Толя!
Замены руководителя драмкружка он добился.
Гриша пришел к нам в последний, девятый класс, окончив его, ушел на комсомольскую работу и вскоре стал секретарем самого престижного в Москве – Краснопресненского райкома комсомола. Мы этому не удивились – прирожденный политический лидер.
В начале тридцатых годов я, отовсюду исключенный, явился на разбор своего дела в Московский комитет комсомола. На диване, окруженный парнями и девушками, сидел Гриша в своей длинной шинели и кубанке. Пристально и сурово посмотрел на меня, отстранив этим взглядом, и отвернулся. Не хотел узнавать.
Гриша сделал большую партийную карьеру, стал секретарем Центрального комитета компартии Белоруссии, после войны его перевели в Москву, на ответственную работу в Совет Министров.
Мы встретились с ним почти через 35 лет. В декабре 1965 года он неожиданно позвонил мне, сказал, что читает мои книги, и предложил зайти, поболтать. Я работал тогда над «Детьми Арбата», успел опросить многих людей, знавших Сталина, подумал, что и Гриша наверняка встречался с ним, расскажет что-либо, и поехал в новый «цековский» дом на Ленинградском проспекте. Грише было уже под шестьдесят, появилось сановное брюшко, лицо стало одутловатым, отчего еще очевидней проступала его асимметрия. Он провел меня в большой полутемный кабинет, уставленный дорогими книжными шкафами, книги лежали и на столе рядом с газетами и журналами – кабинет крупного партийного деятеля, к тому же интеллектуала, участливо расспросил о матери, сестре, знал их когда-то. Зашел разговор и о Хрущеве.
– Тысячи вредителей за десятки лет не могли бы нанести столько вреда стране, сколько нанес Никита, – сказал Гриша. – Он оплевал самый героический отрезок нашей истории. Я знаю, Толя, ты пострадал, многие пострадали, и все же это было великое время. Классовая борьба была, есть и будет. Все разговоры о мирном сосуществовании с буржуазией – ерунда. Если мы им будем уступать, они будут наступать.