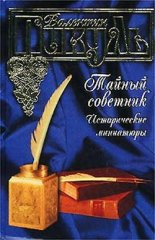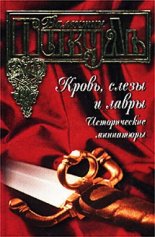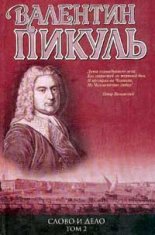Баллада об индюке и фазане Трускиновская Далия
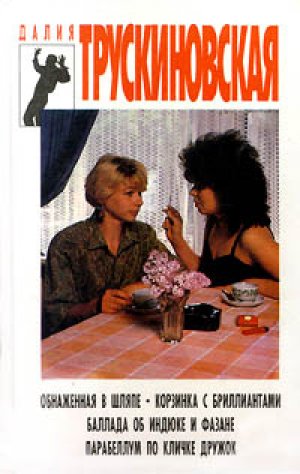
В результате Кузине пришлось как-то давать показания по делу о попытке самоубийства. Один из растяп, особенно нервный, долго угрожал ей этим деянием, наконец решился, проглотил упаковку таблеток и сам же помчался вызывать «скорую помощь»…
Вот какая у меня имелась Кузина. Я привыкла к ней с детства, я любила ее, я была уверена в ее любви ко мне, но немножко ее побаивалась. Дело в том, что мы с ней были очень похожи – обе блондинки, одного роста, только у меня лицо поострее и телосложением я тоньше. И это бы еще ладно – самая скверность заключалась в сходстве характеров. Я была разве что потише Кузины, больше обращена в себя, меньше – к публике. А за исключением этого… Иногда, глядя на ее эскапады, я с ужасом думала, что в глубине души способна на точно такие же. Кузина невольно провоцировала меня. И, может быть, изгнание Бориса было навеяно какой-то из ее авантюр, о которой она сама благополучно позабыла.
Итак, я понемногу убеждалась, что Кузина занята своими делами и не сует нос в мои.
А мне без Бориса жилось, если подумать, даже неплохо. Я много читала, бывала в компаниях, готовилась в аспирантуру и даже вязала себе свитер. Словом, жизнь продолжалась.
Со свитера-то все и началось.
Я затеяла слишком мудреный узор на груди и постоянно бегала консультироваться к бабке Межабеле.
Семейство бабки, с чадами и домочадцами, занимало в квартире три комнаты. Причем комнаты здоровенные, каждая не меньше двадцати метров. Бабка могла выбрать себе для проживания любую комнату, обосноваться в ней, и все были бы только довольны. Так нет же – видимо, вспомнив свою довоенную молодость, проведенную в прислугах, бабка поселилась в девичьей.
Днем-то она, как правило, хозяйничала в трех комнатах, наводила там порядок и стряпала на все семейство. Ночевать же уходила в конуру площадью в четыре квадратных метра. Такие конурки в приличных квартирах примыкают к кухне и предназначены для несуществующих домработниц. Из-за бабкиной блажи всей квартире негде было держать лыжи и велосипеды.
Но с бабкой Межабеле не спорили. Бывают такие обаятельные старушки, при одном взгляде на которых становится стыдно за то, что ты вообще хранишь в памяти какие-то нехорошие слова. Смотрят эти старушки ясным взглядом, их седые волосы разобраны на прямой пробор и завернуты в такие аккуратненькис узелки. И говорят они негромкими, ласковыми голосами, послушаешь – и хочется стать маленькой внучкой, чтобы тебя такая старушка любила, обихаживала и уму-разуму учила.
Вот такой старушкой и была наша бабка Межабеле. Она могла тихим своим голосочком попросить дворовое пацанье не ломать веточек, потому что куст тоже живой и ему больно, и мальчишки ее слушались, хотя вряд ли верили в древесные способности к переживаниям. Наблюдавшая эту сценку дворничиха, ошалев, назвала бабку колдовкой.
Кроме прочих талантов бабка Межабеле отлично вязала, и я беззастенчиво пользовалась этим.
В девичьей не было видно стен под пучками трав. Бабка была главным квартирным лекарем – сама, правда, ходила в поликлинику, но, наверно, больше ради общения с другими восьмидесятилетними бабками. Кое-какие травы я знала и умела ими пользоваться, но без бабки сюда не лазила.
Бабка усадила меня на низенькую свою кроватку, мы разложили вязание на коленях, и она принялась растолковывать мне мою ошибку. Слово за слово – бабка деликатно заметила, что я хожу скучная и не заварить ли мне какой травки, дабы я повеселела?
И я призналась бабке, что мне действительно тоскливо, что сидит во мне нечто муторное и никуда от него не деться, и что должно произойти что-то этакое, из ряда вон выходящее, дабы я очухалась.
Бабка удивилась.
– Живешь хорошо, родители деньгами помогают, молодая, красивая, ученая – чего же еще не хватает? Жениха? Выйди из дому – вот и встретишь. А ты сидишь, как сова в дупле.
– Я выхожу, бабусь. Как выхожу, так и прихожу. Никто мне не нужен. А мне кажется, что так теперь будет всю жизнь – буду уходить и приходить, и все одна.
– Уж ты одна не останешься, – заверила бабка, – только перебирать меньше надо.
– А любовь? Так и брать без разбора, что подвернется?
– Любовь – она тоже всякая бывает. Вот читала в «приложении» – семидесятилетние объявления дают, мужа или жену хотят встретить? Значит, знают, что могут полюбить человека. Только не так, как любит девочка в четырнадцать, и не так, как любит девушка в восемнадцать, и не так, как в двадцать пять, и не так, как в тридцать. Главное – не засидеться…
– В девках? – усмехнулась я, удивившись тому, что мудрая бабка свернула вдруг на такую банальность.
– Нет, девочка, не засидеться в четырнадцати, не засидеться в восемнадцати, не засидеться в двадцати пяти…
– А я вот засиделась, – пожаловалась я. – Не сумела выдернуть себя – вот и сижу. Только не в восемнадцати или тридцати, а вообще вне времени. Как будто его для меня не существует.
– И чего же ты хочешь?
– Ну, чтобы что-то вдруг случилось… – я поискала понятные бабке слова. – Чтобы какие-то события начались, может, даже опасные, Чтобы я была вынуждена действовать, принимать решения, чтобы мне жить стало интересно.
– Учишься, работаешь, в театры ходишь – разве это тебе неинтересно? Я в молодости ученым завидовала, когда женщина читает книжку и все в ней понимает, или беллетристику…
Я не удивилась иностранному слову в бабкиных устах – она иногда принималась пересказывать сентиментальные романы тридцатых годов, которые почему-то называла «беллетристикой».
– Мне этого мало.
– А если начнутся какие-то чудеса в решете – много не покажется? – усмехнулась бабка.
– Нет! – твердо ответила я.
Бабка встала, вышла на кухню, потрещала над газовой плитой электрической зажигалкой и вернулась.
– Воду поставила, – сообщила она, встала на кроватку и стала перебирать травы на стене, от некоторых пучков отламывая по веточке, разглядывая эти веточки на свет и собирая их в букетик. Тем временем вода закипела. Бабка принесла эмалированную джезву с кипятком и большую глиняную кружку.
– Полдень или полночь, – загадочно сказала она. – Сейчас – полдень. Годится.
Она сунула букетик в кружку и залила его кипятком из джсзвы.
– Прикрой ладонью, – велела мне бабка. Я положила на кружку ладонь и ощутила горячее и влажное.
Бабка тем временем что-то вспоминала.
– Бабусь, жжет! – пожаловалась я, не понимая, к чему все эти манипуляции.
– Так и должно быть.
– Я больше не могу!
– Терпи!
Я потерпела еще несколько минут и отдернула руку:
– Довольно!
– Ага, довольно… Твое слово… Больно… Бабка склонилась над кружкой и забормотала. Поскольку она, приготовляя свои отвары, всегда бормотала, мы к этому привыкли, и я не обратила бы внимания на бабку, если бы не странная процедура с моей рукой. Да и то – я слишком поздно вслушалась и уловила лишь несколько слов.
– …Страшно или больно… …вольно… скажешь – довольно, скажешь – довольно… А затем пошла какая-то неразбериха. Я терпеливо ждала, чем все это кончится. Когда бабка перестала бормотать, вода в кружке почти остыла. Я успела провязать два ряда.
– Выпей, – сказала бабка.
– Зачем?
– Увидишь.
Бабкины травы не раз вылечивали меня. Кто ее, бабку, знает – может, она увидела у меня на лице признаки какой-то зарождающейся хвори? Я, долго не рассуждая, вынула из кружки распаренный букетик и выпила все без остатка.
И в эту минуту задребезжал дверной звонок. Увидев Кузину, я сразу поняла, что она не с пустыми руками. И дело тут вовсе не в ее набитой сумке.
Кузина принесла в клювике идею.
– У меня есть к тебе несколько основополагающих вопросов, – начала она чуть ли не с порога. – И первый из них: когда ты в последний раз видела Бориса?
– Вот именно тогда! – отрубила я. Мы несколько месяцев ни словом о нем не обмолвились. И мне очень не хотелось, чтобы Кузина затеяла о нем разговор. Все-таки во мне еще не было желанного равнодушия, которое бы позволило говорить о нем как о постороннем человеке.
– Больше – ни разу? На улице не встречала? Точно?
– Нет. Точно – не встречала.
– Тогда – слушай, – торжественно начала Кузина. – Только не говори сразу «нет». Я спланировала очень злую шутку. Ты меня знаешь – с хорошими людьми я таких шуток не устраиваю. Он сделал все возможное, чтобы напороться именно на эту шутку. Мы стукнем его по самому больному месту. Чего он, по-твоему, больше всего боится? Ну?
– Вылететь с работы.
– Фиг. Вылететь из семьи! Работу-то ему тесть устроит какую душе угодно… И если над ним нависнет угроза вылететь из семьи, это будет только справедливо. Втерся в доверие, а сам на стороне повадился свинячить!
– Ну и зачем тебе понадобилась его семья?
– Я хочу насмерть перепугать его. Чтобы он несколько месяцев прожил в диком страхе. Понимаешь? В страхе, что все его благополучие вот-вот рухнет.
От этих угроз страшно почему-то стало мне.
– Послушай, а нельзя ли притормозить? В конце концов, формально он ни в чем не виноват. Он ничего мне не обещал. Я сама порвала наши отношения. Пусть уж себе существует! Я на него зла не держу. Он меня решительно ничем не обидел.
– Нет, – объявила Кузина, – если его теперь не щелкнуть по носу, он Бог знает что натворит. Их слишком много развелось, этих обаятельных сволочей, которые выбирают себе новую семью, как дойную корову на базаре. Надо хоть одного проучить. Уж больно ловко он приспособился пользоваться всем, что подворачивается под руку. Тобой вот попользовался. Для разрядки. Еще какой-нибудь юной вороной попользуется. Женой пользуется – для положения в обществе. Видела я позавчера его жену. Показали. Если одним словом – декоративная женщина. Для выездов в высший свет современной науки.
– А хоть дезоксирибонуклеиновая! Хоть фос-форесцирующая! Мне-то что до нее?
– Ты бы теперь помирилась с ним, если бы он позвонил? – в лоб спросила Кузина.
Я задумалась.
Кузина сказала правду о наших с Борисом отношениях. Она говорила эту правду еще тогда, когда я обалдела от его появления на моем горизонте. Но правда мне и тогда и теперь была ни к чему. Мне нужен был Борис, мне тогда нужно было мое чувство к нему. Его жизнь за пределами моей комнаты была какой-то несуществующей. И если бы я теперь, после всего, услышала его голос…
– Ни за что, – уставившись в пол, доложила я.
– Ловлю на слове. А теперь слушай внимательно. Позавчера мне пришел в голову замечательный план. Мы ездили купаться на остров Долес…
– Поближе акватории не нашли?
– Не так уж и далеко. Это на речном трамвайчике от центра целый час трюхать. А от Кенгарагского причала – шесть секунд.
– Плюс сорок минут до Кенгарагса.
– Зануда. Сорок плюс шесть секунд на моторке.
– И откуда же у тебя моторка?
В моем голосе не было удивления. Вот если бы Кузина проехалась по Риге на верблюде – я бы, может, и удивилась…
Выяснилось – очередной Кузен, подцепленный неделю назад, проникся серьезными намерениями и возил Кузину к своим родственникам, обитающим на острове Долес. Двоюродный братец кузена подогнал к Кенгарагскому причалу моторку и переправил их на остров. Там ее ждали все прелести хуторского житья – парное молоко, купание в реке, удивительно чистой по нашим химическим временам, свежевыловленная и немедленно зажаренная рыбка, а также прорва земляники, потому что усадьба родственников стоит в лесу.
Так вот, прогуливаясь по берегу в обществе Кузена и его двоюродного брата. Кузина опознала в человеке с удочкой, сидящем на мостках, Бориса.
Вид у него был совершенно домашний.
У Кузины хватило терпения не будоражить вопросами мужчин, а вернуться домой и осторожно все выпытать у тети Милды – хозяйки усадьбы.
И оказалось, что бабка жены Бориса, маменька его всемогущего тестя, – островитянка.
Кузина предприняла все возможное, чтобы посмотреть на жену Бориса, хотя это практического значения для созревшего плана не имело. На это она убила весь вечер и все утро.
Теперь мне стало понятно, почему я напрасно искала Бориса прошлым летом по выходным в Юрмале и на Видземском взморье. Он хорошо спрятался – тем более, что на острове почти не было телефонов.
Прежде чем приступать непосредственно к плану, Кузина притащила из коридора свою набитую сумку.
– Правда, прелесть? – сказала она, вытаскивая широченное и здорово помятое платье из марлевки. – Тебе пойдет, ты можешь себе позволить складки на бедрах. Берешь?
– Сколько?
– Значит, берешь. Половина дела сделана. Но платье я отдам только в комплекте с купальником.
Странно – вытаскивать купальник она не торопилась.
– Я с ним всю ночь возилась, – сообщила он. – Чего только не перепробовала! Наконец сообразила – поролон! Распорола подушку от кресла, пока эти проклятые концентрические круги вырезала, пока сшила, пока сферу скроила… Жуть! Но получилось!
– Какую еще сферу?..– я знала природную ненависть Кузины к точным наукам. Сфера, да еще концентрические круги – это было почище путешествия на верблюде…
– Вот. Эту!
Я взглянула на купальник и ужаснулась.
– Ни за что и никогда!
– Ты только посмотри, как замечательно!
Кузина вскочила, скинула платье и поверх своего купальника натянула тот, от которого я шарахнулась. Потом подошла к зеркалу и с глубочайшим удовлетворением себя оглядела.
– Все рассчитано по «Справочнику фельдшера»! Более того, не перекошено! Движении не стесняет! А вид – будто на восьмом месяце.
Поролоновое пузо, вшитое изнутри в купальник, действительно торчало, как натуральное.
Я прикинула сроки… Если учесть, что мужчины слабоваты в этой арифметике… Да, вполне бы мог быть и восьмой месяц.
– Можешь извлекать свою сферу обратно, – как можно строже сказала я. – Я на это не подписываюсь.
– А почему, позвольте спросить?
– Это неэтично.
– Ты хочешь сказать, что Борис – образец этичности?
– Зачем же опускаться до его уровня? – Никто и не заставляет. Мы просто проучим его. Это будет довольно злой урок, не более того. Ну?
Покопавшись в глубинах своего подсознания, я обнаружила, что проучить Бориса мне не хочется.
– Тем более, что это могло случиться и на самом деле, – продолжала Кузина. – Насколько я знаю тебя, ты бы не стала избавляться от ребенка.
Я задумалась. С одной стороны, ребенок мне теперь был совершенно ни к чему. С другой – однажды, подозревая это, я удивилась собственной покорности судьбе. Возможно, Кузина была права.
– И ты бы вряд ли обрадовала этой новостью Бориса, – не унималась Кузина. – Скорее всего, ты бы поскорее порвала с ним. Хотя бы от сознания того, что он тебе в этой передряге не помощник. У тебя бы не выдержали нервы – и в одну прекрасную ночь ты бы повыбрасывала все его манатки в окошко без объяснений. Разве не так?
Я обалдела. Все было так…
– Значит, предварительную работу ты уже провела. И если он увидит тебя с пузом, он просто решит, что понял, почему ты его тогда выставила. И придет в ужас.
Он, может, и поймет, да я-то до сих пор не могу понять, почему это получилось. Сама для себя я сформулировала расплывчато: вожжа под хвост попала. Но что это было на самом деле, я не знаю.
– Почему это в ужас?
– Потому что женщина в таком положении непредсказуема. Ты можешь устроить ему в общественном месте скандал. Или заявиться к его жене. Или позвонить на работу.
– Ты в своем уме?
– Но он же не знает, что ты ничего этого не сделаешь? Ты просто прогуляешься перед воротами бабкиной усадьбы на острове. Только это! Ты дашь ему возможность увидеть себя, а остальное он сочинит сам. И чем больше он будет соображать и вычислять, тем ему будет страшнее. Каждую ночь он будет видеть в кошмарном сне твое пузо. Которое, кстати, вполне могло бы состояться, если бы не я.
Что верно, то верно – она снабжала меня соответствующими импортными снадобьями.
– Ну, если только прогуляться… В конце концов, разве я в ответе за чью-то разыгравшуюся фантазию? У порядочного человека возникла бы одна мысль – немедленно зарегистрировать брак. А предвидеть все, что закипит и забулькает в голове у непорядочного человека, я никак не смогу.
– Значит, в эту же пятницу, после работы…
– Погоди, погоди…
– А чего ждать? Плохой погоды? Так ведь через неделю можем и дождаться! В пятницу едем, в воскресенье возвращаемся. Где живет Борис, я знаю. Давай, мерь купальник!
– А если в нем проснется совесть и он позвонит?
– Пошлешь к чертовой бабушке! Уж к дверям роддома-то он с розами не явится!
У затеи с поролоновым пузом немедленно обнаружился крупный недостаток. Погода стояла прекрасная, а я на два дня оказывалась выключена из активной жизни. Купаться, загорать и играть в мяч на восьмом месяце беременности вроде не полагается. Да и как купаться, если проклятое пузо немедленно набрякнет и потянет меня ко дну?
Кузина пообещала, что мы вдвоем сбегаем искупаться ночью, когда все заснут. Тем более, что дом тети Милды стоит на самом берегу протоки между островом и курземским берегом Даугавы.
Не успела я опомниться, как Кузина ловко набросила на меня платье из марлевки, одернула и восхитилась результатом.
– Пузо могло быть и больше, – самокритично заявила она. – Для мужчин полутона не годятся. Им если беременность – так подавай в три обхвата, а то не догадаются.
– Можно нажать на детали, – увлекшись, предложила я, и совершенно напрасно. Кузина изучающе на меня уставилась.
– С волосами что будем делать?
– Ни-че-го! – угрожающе ответила я.
– Ну-ну, зачем же так свирепо? Уж если входить в образ… Все беременные носят плоский хвост сзади. У тебя есть резинка?
С моими волосами плоский хвост не получится. Чтобы они плоско лежали, мне нужно полгода головы не мыть.
– Ничего, мы их смажем репейным маслом, – нашлась Кузина. – Это даже полезно. И у тебя будет совершенно беременный вид.
– А светлые волосы репейным маслом не мажут, – выпалила я в великом перепуге, что вот сейчас Кузина достанет из сумки пузырек и начнет меня поливать – Они от него темнеют. И вообще им только ресницы мажут, чтобы лучше росли.
– Хм… Погоди, есть еще такое средство – бриллиантин. После него голова блестит и гладкая, как полированная.
– По-твоему, я для того делала химию, чтобы ходить, как полированная? – и я решительно принялась стаскивать платье.
Произошла небольшая стычка. Победу одержала я, хотя Кузина и возмущалась, что беременным не до ухода за золотыми кудрями, да еще химического происхождения.
Кудри у меня совсем не золотые. Просто я их мою ромашкой. Более того – они не кудри. Просто я сделала легкую химию, только на концах волос, отчего концы посветлели, и вместе с ромашкой получается неплохой эффект. После мытья накрутить на крупные бигуди – и всю неделю прекрасно держатся. Я с таким трудом нашла нужное сочетание всех этих средств – химии, импортного шампуня, ромашки и бальзама для волос – и не могла позволить Кузине загубить ради ее режиссерских затей мою прическу.
Насчет обуви я с ней согласилась немедленно – только низкие каблуки! Тем более, что они вошли в моду. Но по этому случаю даже из «Детского мира» исчезли годами там пылившиеся трехрублевые сандалеты тридцать шестого размера. Так что если Кузина принесет босоножки без каблука, желательно кремового или цвета слоновой кости, я беру их сразу. Кузина горько вздохнула.
Покончив с деталями, мы стали считать варианты. Уж если затевать такую авантюру, так нужно быть готовыми к любому повороту событий.
Кузина заставила меня вспомнить все подробности мартовской ночи и все те слова, какие мы с Борисом сказали друг другу. И мы действительно обнаружили в моих воплях кое-какие двусмысленные закавыки.
– Хватит, – подвела я итог. – А то примусь сочинять, чего не было. Ты же пойми, что я тогда была немножко сумасшедшая. Да и утром тоже… Черт бы побрал этого индюка Званцева! Чуть при нем не разревелась!
– Ничего, и до индюка доберемся! – лихо пообещала Кузина. – Будет знать, как доводить свидетелей до истерики!
В пятницу, в половине восьмого, мы встретились на причале.
Я была в полной боевой готовности – никакого грима, волосы стянуты в хвост на затылке, осанка отрепетирована. Если учесть, что я, не желая травмировать соседей, переодевалась впопыхах в общественном туалете, результат получился неплохой. Одно выдавало меня – босоножки на шпильках. Но кто станет смотреть на ноги беременной женщины?
Во всяком случае, со стороны Кузена такого взгляда не было.
– Айвар – Лита, – представила нас друг другу Кузина.
Айвар был вполне в ее вкусе – большой и красивый.
– Я буду звать вас Кузеном, – предупредила я. – Я так привыкла.
Айвар согласно заулыбался, купил билеты, и мы взошли на борт кораблика.
Главное было – не забыть откликаться на «Литу».
Кузина издевается над моим именем, как хочет. В латышских компаниях делает из меня Литу, в русских – Лильку, потому что родители в свое время догадались – назвали меня импортным именем «Лолита». При той пестроте, которая творится сейчас в латышской ономастике, имя еще ничего, скромное. Могли ведь и Винифредой назвать, если не Индирой.
Кузен встретил кого-то вз знакомых островитян и оставил нас вдвоем. Кузина немедленно потащила меня на нос, чтобы посмотреть на строящуюся телебашню. Если она эту телебашню вблизи не увидит, то ей, видите ли, и жизнь не в жизнь…
– Ты как знаешь, – сказала я, – а я в салон пойду. Здесь же кошмарно дует.
– Перетерпишь, – ответила Кузина. – Беременные женщины по стоячим трапам не лазят.
– Беременные женщины на ветру тоже не сидят.
– Беременные – не сидят, – согласилась хитрая Кузина, но, заметив приближение Кузена, добавила, что свалиться с лестницы для беременной страшнее, чем полчаса посидеть на свежем воздухе.
И она усадила меня на самом носу, лицемерно мотивируя это тем, что на носу якобы качка не так заметка. Мореходные познания Кузины, называвшей лестницу трапом и пассажирский салон каютой, привели Кузена в такой восторг, что он и не задумался, какая может быть качка в абсолютно безветренную погоду.
Зато задумалась я – почему это мужчины так любят, когда женщины говорят заведомые глупости? Хотят хоть по контрасту выглядеть умнее, что ли?