Кровь, слезы и лавры. Исторические миниатюры Пикуль Валентин
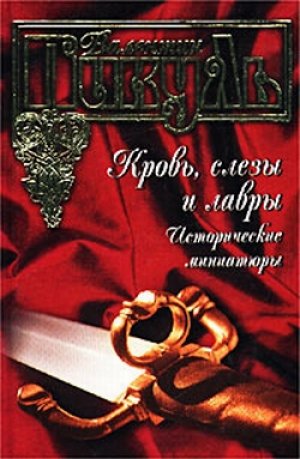
– Когда на войне недостает фуража, войско добывает его через реквизиции у противника…
Султан переправил в Бендеры суровый “хаттишериф”: Карла отправить силой в греческие Салоники, откуда французы морем доставят его в Марсель; “…если же король погибнет, смерть его не должна ставиться в вину мусульманам”. Была обнародована духовная “хетва” к правоверным, разрешающая нарушить законы Корана, а убийство “гостей” никому в вину не ставить. Короля навестил евангелический пастор и, пав на колени, умолял Карла XII не губить в Бендерах жалкие остатки той великой армии, что смогла уцелеть после Полтавы. Король топнул ботфортом:
– Для проповедей избери себе иное место, а здесь сейчас разгорится новая кровавая битва… Уходи!
Турки имели 12 пушек, а всего сераскер собрал 14 000 войска (по иным сведениям, его численность превышала 30 000 человек). Пушки уже громили баррикады, когда янычары стали горланить, что “хаттишериф” подложный и на приступ шведского лагеря они не пойдут. Сераскер схватил зачинщиков бунта, утопил их в Днестре, затем показал янычарам личные печати султана:
– Если вам так уж по сердцу шведский король, можете сами уговорить его исполнить повеление нашего падишаха…
Взяв в руки белые палочки (знак миролюбия), янычары без оружия явились в шведский лагерь, истошно крича, что не дадут в обиду Карла XII, но пусть он только доверится им, янычарам, и они доставят его хоть на край света. Карл XII высунулся из окна второго этажа, крикнув своим друзьям:
– Пошли все вон! Иначе я спалю ваши бороды.
Янычары, огорченно покачивая головами, говорили:
– Ну какая железная башка! Где еще найдешь такую?
В ставке короля вооружились все до последнего поваренка с кухни. Голштинский посол Фабриций писал, что король нарочно обострил обстановку “лишь для того, чтобы представить миру образец боя, который бы казался потомству попросту невероятным”. Атака янычар началась в воскресенье – как раз во время духовной проповеди. Оборона шведов была сломлена, турки взяли баррикады и рассыпали их, как мусор. Напрасно Карл XII взывал к мужеству своих верных сподвижников – офицеры не пожелали участвовать в его авантюре, а старый генерал Дальдорф разорвал на себе мундир, обнажая незажившие раны:
– Король! Неужели одной Полтавы тебе еще мало?..
Вокруг Карла XII остались лишь драбанты и слуги человек тридцать, не больше. С трудом он пробился к своему дому. Одноглазый янычар схватил его за краги перчаток. Но король вы–рвался с такой силой, что упал на землю, а другой турок выстрелил: пуля прошла насквозь, задев нос и бровь короля. Карл хотел ринуться врукопашную, но драбанты удержали его за поясной ремень сзади. Король, освобождаясь, расстегнул пряжку спереди, бросаясь в свалку, но его силой затворили в доме. Шведы забились в одну из комнат, а дом уже принадлежал туркам, грабившим все подряд. Карл XII ударом ноги распахнул двери в соседнюю комнату, уколами шпаги заставил турок отступить – кого выбил в двери, а кто сам повыпрыгивал через окна.
– Драбанты, честь дороже всего! – призывал король…
Столовая зала была переполнена янычарами, разбиравшими посуду. Трое из них кинулись на Карла XII, желая пленить его. Король двоих заколол, а третий начал рубить короля саблей. За–крываясь левой рукой, Карл XII чуть не лишился пальцев. Началась невообразимая драка – в лязге клинков, в криках и воплях, в звоне битой посуды Карл XII был схвачен за глотку и прижат спиною к горячей кухонной плите.
– Драбанты! – позвал он на помощь.
Повар выстрелом в голову поверг турка, душившего короля. С боем Карл XII повел шведов на штурм спальни. Там все уже было разграблено и вынесено. Но два янычара еще стояли в углу, один спиною прикрыл грудь второго, и оба они держали перед собой пистолеты, готовые выпалить разом.
– Получайте сразу оба! – воскликнул Карл XII.
Рубака опытный, он пронзил обоих, нанизав турок на свой длинный клинок, будто букашек.
– Горим! – раздались крики с лестницы. Крыша гудела от попаданий ядер. В стены здания впивались татарские стрелы с комками горящей пакли, янычары подбегали к дому короля, бросая в окна охапки горящего сена. Карл XII велел обыскать всех убитых в поисках патронташей и оружия.
– Драбанты, – сказал Карл XII, – отныне вы все полковники.
– Крыша уже в пламени, – отвечали ему.
На чердаке пытались избавиться от горящих балок. Воды не было, пожар тушили болгарской водкой небывалой крепости, отчего пламя разгорелось еще сильнее. Карл XII и его свита спустились с чердака, когда лестница уже пылала. Потолки рушились.
– Пора уходить из дома, – доказывали Карлу XII.
– До тех пор, – возражал король, – пока на нас еще не загорелись одежды, я не вижу никакой опасности…
Наконец люди стали забивать пламя на своих одеждах.
– Король, – сказали они, – не лучше ли нам пробиться с боем до канцелярии, которая еще не горит?
– Отличный повод показать храбрость, – согласился Карл XII.
С пистолетом в левой руке, держа шпагу в правой, он выскочил на крыльцо перед изумленными турками. Но не сделал и пяти шагов, как его гигантские шпоры зацепились за кусты и король рухнул в обгоревшую траву. Тут его и схватили. Европа никак не ожидала такого финала: шведский король сделался пленником турок! Его отвезли в замок Демюрташ, где король выразил протест тем, что сразу же улегся в постель.
– Я не болен, но больше не встану, – сказал он.
Будучи в полном здравии, Карл XII умудрился целый год провести в постели. В самом деле, надо иметь “железную башку”, чтобы обречь молодой организм на годичное существование в лежачем положении. Но весною 1714 года Карл XII испытал нервное возбуждение. Швеция еще держала крепость Штральзунд – последний оплот своего владычества в Померании, до короля дошли из Стокгольма слухи, что сестра собирается вступить на трон. Осенью он тронулся в путь. Всегда остригавший голову ножницами “под солдата”, на этот раз Карл XII накрылся пышным париком, чтобы его не узнали. Сопровождал короля в пути через всю Европу лакей. В одну из ночей в воротах Штральзунда возникла тревога: кто-то ломился в крепость, требуя, чтобы его впустили.
– А кто он таков? – спросили его с фасов.
– Открывайте! Это я – ваш король…
Карл XII проскакал через Европу за шестнадцать суток…
Он сам возглавил оборону крепости, осажденной датчанами, и два месяца спал на земле перед воротами, особо опасными на случай штурма. Настала зима, лед сковал каналы, ведущие к морю. Не стало дров и хлеба. Претерпевая голод и стужу, Карл XII из Штральзунда диктовал приказы. Бомба взорвалась в соседней комнате, секретарь выронил перо.
– Отчего не пишешь далее? – спросил король.
– Но, ваше величество, бомба… бомба!
– Не понимаю, какое отношение к письму имеет бомба…
Наконец даже он осознал, что Штральзунд не удержать, и велел пробить во льду фарватер. Ночью, закутавшись в плащ солдата, он прыгнул в шлюпку, матросы навалились на весла, датчане открыли стрельбу, раня людей свиты. Под парусом пересекли море. Карл XII высадился на берегу Швеции, проведя ночь под скалой, защищавшей его от ветра, а когда рассвело, он узнал то самое место, которое покинул пятнадцать лет назад, чтобы вступить в единоборство с молодою Россией… А что было со Швецией, когда-то цветущей? Что застал он на родине после долгого отсутствия? Неурожаи, эпидемия чумы, войны и набеги выкосили население, а лучшие здоровые силы нации, оторванные от хлебных полей и железных рудников, погибали на полях битв, в снегах Сибири или на венецианских галерах…
– Зато я принес вам славу, – объявил он в Стокгольме.
Но шведы насытились славой по горло. В окружении короля вызрела оппозиция его правлению, возник заговор. Невзирая на все тяготы народа, Карл XII осенью 1718 года открыл новую кампанию – он вторгся в Норвегию, принадлежавшую тогда датчанам. Норвежская крепость Фредриксхальда напоминала орлиное гнездо в горах. В ночь на 30 ноября Карл XII осматривал саперные работы в траншеях. Он взобрался на вал и лег, подпирая голову левой рукою, желая лучше рассмотреть крепость в потемках. Его адъютант Яган Каульбарс, оставшись в траншее со свитою, постучал кулаком в подошвы ботфортов:
– Король, не пора ли подумать о голове?
– Оставь меня в покое, Яган, я должен все видеть сам…
Вслед за этим раздался странный плещущий звук (“будто в болото упал камень”). Каульбарс за ноги стащил короля обратно в траншею. Карл XII был мертв. Протокола о смерти не составили. Придворный врач Мельхиор Нейман объявил, что пуля, убившая короля, прилетела из крепости – в левый висок. Но саперы, уносившие короля, утверждали, что рана в правом виске – выстрел сделан из траншеи. Настораживала очень большая сила удара пули, разрушившей череп, что возможно при вы–стреле с ближайшей дистанции. Хоронили Карла XII с подозрительной поспешностью. Швеция наполнялась мрачными слухами… Дабы пресечь их, в 1746 году Карла XII вынули из гроба. Выяснилось, что Мельхиор Нейман исказил истину: пуля пробила череп с правой стороны. Значит, стреляли в короля из траншеи. (А ведь Карл XII считал врача своим личным другом.) В 1859 году профессор истории Фриксель устроил повторную аутопсию Карла XII в присутствии членов королевской династии, но сомнения не разрешились. Пробовали стрелять из старинных ружей с фасов норвежской крепости по мишеням, которые втыкали в землю на том же месте, где лежал Карл XII, и – к удивлению криминалистов – пули с большою силой пробивали мишень насквозь. Шведский историк Ингвар Андерсон заключает главу о Карле XII словами: “Вопрос о том, погиб ли Карл XII от шальной пули из окопов или от пули тайного убийцы, не решен и сейчас”.
Карл XII, эта неисправимая “железная башка”, прожил всего лишь 35 лет, большую часть жизни проведя в походах вдали от родины. Сейчас наши историки пришли к выводу, что подлинный Карл XII “весьма далек от вольтеровско-пушкинского Карла. Величие петровской победы (при Полтаве) становится от этого еще ощутимее”. Е. В. Тарле прав: тяжкое историческое возмездие постигло Швецию за ее попытку поработить русский народ.
После Карла XII правители Стокгольма трижды в истории жаждали реванша, но все их попытки кончались крахом, и лишь в 1809 году, когда русская кавалерия загарцевала в предместьях Стокгольма, шведы твердо решили: “Пусть эта война с Россией будет для нас войною последней!”
…На поле Полтавской битвы поставлен памятник “Шведам от россиян”, и на нем можно прочесть благородные слова: “Вечная память храбрым шведским воинам…”
Книга о скудости и богатстве
Наконец историки обнаружили и такую запись:
“1726 году февраля в 1 день содержащейся в Тайной розыскных дел канцелярии под караулом колодник… Иван Тихонов сын Посошков против помянутого числа пополудни в девятом часу умре. И мертвое ево тело погребсти у церкви Самсона Странноприимца”.
Умершему было 73 года – вельми ветх годами…
Саманиевская церковь в Ленинграде уцелела и поныне; строенная в честь виктории под Полтавой, она оберегается государством как памятник старины; могилу Посошкова давно затоптало время, а внутри собора – доска с надписью: “На кладбище этой церкви погребено тело поборника русского просвещения…”
Мимо исчезнувших могил проносится сейчас новая жизнь. Совсем новая. И настолько не похожая на прежнюю, что их даже никак нельзя сравнивать. И мало кто догадывается, что здесь, в этой церкви, покоится прах первого политэкономиста России!
Согласен, что политэкономия – наука не из веселых.
- Теория, мой друг, суха,
- Но зеленеет древо жизни…
“Древо жизни” Посошкова зазеленело в 1652 году. Там, где сейчас гудят станции московского метро “Бауманская” и “Электрозаводская”, там вытекала из дремучего леса звонкоструйная Яуза, которую издревле облюбовали деловитые бобры (а бобров облюбовали себе на шапки московские бояре). Москва неторопливо изгадила чистую Яузу, окраинными фабриками раздавила село Покровское, жители которого подчинялись Оружейной палате.
Посошков вышел из семьи работящих крестьян-ювелиров, а соседями его были “бобровники”, ловившие бобров на шапки боярам. Покровское утопало в садах, и пахло там яблоками, малиной да берсенем – чистым, как виноград. Гудели мохнатые пчелы, запутываясь в волосах крестьянок, а зимой выходили на околицы села волки и, поджав под себя тощие промерзлые хвосты, тоскливо обвывали окошки изб…
Иван Тихонович смолоду изведал Русь в поездках дальних, кистенями дрался с разбойниками в лесах муромских; был он грамотей и знаток механики; жарился возле горнов заводских, где ядра пушечные отливали; друзей имел разночинных – купцов и мытарей, монахов и подьячих, дворян и нищих, сыщиков и жуликов, стрельцов и банщиков. У кого что болит – тот о том и вопит! А вопили на Руси всяко, и никому ладно не было. Начиналась эпоха Петра I, которого оценило потомство, но современники его мало жаловали.
“Зверь лютый! Саморучно огнем пожигает, – говорили тогда. – Время проводит средь склянниц винных, а друзей набрал себе из Немецкой слободы – вот и куролесят, на беду нашу…”
Нелегко давались народу русскому новшества да войны, что прошлись по мужицким сусекам, словно помелом, повыбили скотинку, отняли лошадок ради дел ратных. Русь быстро, как никогда, скудела. Деревни стояли впусте, заброшены, жители разбегались от тягостей податных, налогов грабительских. А в городах вырастал зверь тихий, но ядовитый – бюрократиус! Чиновников расплодилось, будто клопов в паршивой перине, и всюду, куда ни придешь, везде они пишут, а за все писаное взятки хватают… Игумен Авраамий приятельски сказал Посошкову за трапезой нескоромной:
– Аз грешный тоже пишу! Пишу осударю, что тако Русью править нельзя. Где ране един боярин сиживал, ныне царь усадил велик огород из семя крапивного. А молоденьки подьячи, коим стульев не хватило, даже стоя пишут – сам видел! И каждый прыщ мзды алчет. Не наберись царь порядков чужих, мы бы такого прискорбия не ведали… Ой-ой, беда – писаря власть над народом взяли! Авраамия за слова такие огнем пытали и впредь велели чернил с бумагою не иметь. Посошков тоже едва не угодил под плети. Но изобрел он некий “бой огненный на колесах” (первобытный прообраз будущего танка), и Петр I за этот “бой” Посошкова миловал. Иван Тихонович и сам понимал, что мало где правды сыщется, но мыслил обо всем шире Авраамия — не кляузно, а экономически:
– Опять же что деется? Была ране деньга мерою в половину копейки. Богатому неудобна, ибо три рубли в мешок сложишь – ажно нести тяжко. А бедному деньга-то как раз! Теперь же озабочены чеканкою мер новых: копеек, гривен, полтин да рублевиков… Где ж теперь бедняку на базаре с такими мерами оборачиваться?
Софья Родионовна, жена его, бывало, рукою машет:
– Да восхвали ты Бога, что сам не скуден. Всех нищих на Руси не умаслишь, а всех бояр не обскачешь. Что за язык у тя такой: где бы радоваться, что не стоишь на паперти с рукою протянутой, так – нет: все, знай себе, о бедных поминаешь, Иванушко!
– Не о бедных, – отвечал Посошков жене. – О богатых сужу, коль страна богата. А вот откуда в ней рвань умножается – того взять в толк не могу. Хочу думать…
Финансисты XVIII века приметили, что самые крупные расходы казны происходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на создание флота или постройку города – и останешься богат, а разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного государства сравнивали с кошельком франтихи: на шпильки, булавки, мушки, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо больше, нежели на самое нарядное платье. Посошков был такого же мнения. Состоя при Дворе монетном, он в каждой денежке видел силу великую, силу народную, кою следует тратить с разумностью. Расходовать деньги – это дело, а кидать их попусту – мотовство… Пришел как-то в Оружейную палату иноземный мастер, принес ложе ружейное – без выдумки выструганное: нет резьбы, нет инкрустаций. Волынился с ним четыре месяца, а получил он, супостат, за свое барахло шестьдесят рублей. Посошков показал это ложе мастерам русским:
– Сколь долго трудиться надобно ради ложа такого?
– Ну, день. Больше – стыдно.
– А сколь платят вам за изделие таково?
– Эге! На кружку кваса хватит…
– Вот то-то! – сказал Посошков. – И тужусь я: на што осударь бездельников на Русь тащит, казну на них просыпая даром?..
В канун Северной войны Петр I для чеканки медных денег назвал в Москву мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, а дела от них не было. Посошков обозлился и сам изобрел чеканные станы, наладил их. Заухали с высоты цехов “бабы” плющильные, посыпалась деньга, еще раскаленная, в ящики – только считать поспевай! “И я им, иноземцам, – писал Иван Тихонович, – в том ащче и учинил пакость, обаче мне шкоды ни какой не было, а ныне нельзя их не опасатца, понеже их множество, и за поносное на них слово не учинил бы мне какой пакости!” Страшное признание: русский мастер в своей же стране боялся мести иноземцев только потому, что выполнил работу, какой они исполнить не могли.
– Слишком нижайше стали мы Европам кланяться, – говорил он. – Люди русские до сего жили и дурнями себя не считали. А теперь дожили, ажио срамно стало… Дабы жизнь на Руси улучшить, дабы неправды всякие уничтожить, надобно не иноземцев созывать отовсюду, а своих человеков разбудить!
К мысли о необходимости реформ Посошков пришел раньше Петра I и теперь даже с некоторой завистью наблюдал, как царь свершает “великое устройство великого неустройства”. Сомнений в правомочности власти монаршей у него еще не возникало: он жил надеждой, что придет царь-гений, царь-труженик, царь-правовед, мудрый и справедливый, и он устранит все неправды. Когда под Нарвою шведы разбили наши полки, Иван Тихонович всей душою хотел царю помочь. Послал он ему “Доношение о ратном поведении”, где толково и разумно вскрыл все изъяны русской армии, а подписался так: “Писавый Ивашко Посошков главу свою под ноги твоя подносит”.
Вряд ли нашли бы мы счастливых людей в том времени… Тогдашняя служба в армии была особенно тяжела – даже офицеру. Послужные списки читаешь, как “страсти Господни”. На первобытных телегах, а где и пешком русские воители покрывали гигантские просторы. Если прочертить на карте все пути-дороги наших воинов, то получится сложная сетка современных авиалиний, какие мы видим в кассах аэропортов. Из гарнизона Азова – под Нарву, из Нарвы – в Дорогобуж, из Москвы – в Ямбург, опять в Нарву, оттуда в Ригу, потом на Дон, с Дона – в пекло Полтавы, затем в Архангельск, и вот он – капитан! Капитана вызвали в Петербург на смотр, там посмотрели на него и сказали, что пусть будет капитан… прапорщиком! Начинай все сначала, а прапорщику уже пятьдесят четыре годочка. Тут бы не начинать, а кончать уже надо. Плачь не плачь – никто не пожалеет. Отношение к людям было хуже, чем к скотине, – самое безжалостное, и правды нигде не было.
Во главе всех правд и неправд стоял император!
Это он вкоренил в сознание россиян понятие безоговорочного самодержавия, которое, подобно молоту, расплющит любого, несогласного с ним: “Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен!” Именно так и было им заявлено… Живописцы, изображавшие Петра I в рыцарских латах, украшенных хвостиками горностаев, придавали ему позы благородного величия. Алексей Толстой несколько снизил этот стародавний пафос: он писал о круглом лице кота с непотребными усишками, глаза навыкате, а рот царя собран в куриную гузку. Герцен ненавидел Петра I как палача народного. Пушкин сначала пропел ему панегирик, а после смерти поэта в его архивах обнаружили ворох записей, обличавших Петра I в неслыханном деспотизме… Из художников лучше всех понял царя великий Валентин Серов, создавший целую серию картин из Петpoвской эпохи. Академик Игорь Грабарь записал для нас слова Серова:
“Он был страшный: длинный, на слабых тоненьких ножках и с такой малюсенькой головкой, что больше должен бы походить на какое-то чучело. В лице у него – постоянный тик, и он вечно “кроил рожи”: мигал, дергал ртом, водил носом. При этом шагал огромными шагами. Воображаю, каким чудовищем казался этот человек… Идет такое страшилище с беспрестанно дергающейся головой. Увидит его рабочий – хлоп в ноги! Петр тут же его дубиной по голове ошарашит: “Будешь знать, как кланяться, вместо того чтобы работать!” У того и дух вон. Идет дальше. А другой рабочий, не будь дурак, смекнул, что и виду не надо подавать, будто царя видишь, и не отрывается от дела. Петр дубиной укладывает и этого на месте: “Будешь знать, как царя не признавать”. Страшный человек…”
Руками этого страшного человека воссоздавалась новая Россия, ставшая империей, и нам, оценившим заслуги Петра I как преобразователя, никогда не следует забывать о том, что он был сатрапом своего народа, беспощадным угнетателем, ничего и никогда не щадившим ради исполнения своих грандиозных замыслов. Только совместив воедино образ преобразователя и образ деспота, мы получим истинного Петра I, каким он был. За многое ему благодарны в истории нашего прошлого, любить его мы никак не можем!
Посошков вошел в царствование Петра I человеком зрелым, уже многое осознавшим. Россия двигалась вперед, сотрясаясь деревнями и городами, кораблями и заводами; активное время требовало активности от людей. Иван Тихонович не сидел сложа руки: искал нефть под Казанью, варил краски, завел серные прииски, хотел основать фабрику игральных карт. Когда что требовалось, завозили из-за границы, а у себя не искали. “Мне сие вельми дивно, – писал он, – земля наша российская, чаю, что будет пространством не меньше немецких, и места всякие в ней есть… годом всего не изъехать, а никакие вещи у нас потребные не сыскано”. Смешно сказать – гоняли корабли из Архангельска в Европу даже за пуговицами, даже за посудой стеклянной, даже за чулками. Посошков считал, что все это барахло можно и дома производить.
– Ладно, – отвечали ему. – А вот шелку где взять?
– Про лен забыли… разве шелка хужее? – спрашивал он.
Полтава укрепила Россию на берегах Невы, центр русской жизни передвинулся к северу – и Посошков тоже променял Москву на Новгород (куда, кажется, бежал… от долгов)! Здесь он обзавелся домом и садом, малость разбогател, содержа остерию с пивным залом. Здесь же его, старого человека, тиранили воеводы, а полковник Порецкий “бранил меня всякою скверною бранью и… похвалялся посадить меня на шпагу”! Правды в суде мастер не сыскал и пошел домой, к деткам своим, огорченный:
– А ще не последний человек, а как же правды сыскать тому жителю, который меня мизернее будет?..
Из Новгорода до Петербурга – рукой подать, и не хочешь, да побываешь, паче того, любопытно знать: что натворил там великий осударь? В Петровом “парадизе” (по-русски это “рай” означает) Посошков узрел нищету народную, спесь временщиков, рвань и грязь работников, созидавших столицу; полно было могил, скрипели по ночам виселицы. На Мытной площади, где базар шевелился, Иван Тихонович солдата встретил, ветерана полтавского, с лицом, синим от пороха. Сей солдат разулся, из сапога денежку вынул и на денежку сторговал для себя кусочек говяжьей дохлятины – кошка и та сыта не будет! Завернул мясо в тряпицу и заплакал:
– Хоша бы для заговенья мяском оскоромиться! Почитай, с месяц пошел, как, кроме хлебца, не ел ничего… Сольцы бы еще!
“А егда голоден и холоден и ходит скорчася, то он какой воин, что служба воет!” – записал Посошков, тужа о несчастиях народных. Близился кризис жизни: не стало веры в царя-гения, в царя-правдолюбца, а в душе уже согревалась книга, которую он напишет, – “Книга о скудости и богатстве”. Весь опыт жизни, красочной и трудной, хотел Иван Тихонович закрепить на бумаге. С фасов крепости стреляла полуденная пушка, от храма Самсония звонили колокола, работный люд пошабашил к часу обеденному, гулящие да чиновные, промеж офицерами флотскими, шагали в остерии да фартины; за зданием Двенадцати коллегий крутились крылья ветряных мельниц, на лужайках блеяли тощие козы; босые драгуны вели к Неве своих коней – на водопой…
Посошков придвинул к себе чернила, выбрал перо.
– Стану и правды всенародной желателем. Жизнь пройдена, дети выросли… Жалеть ли мне себя, ежели за правду умучают?
На склоне лет он пришел к мысли, что царская власть не способна сделать народ счастливым, а страну сильной и зажиточной. Наверное, старику нелегко дался вывод: “весь народ” должен стоять у кормила власти, “народосоветие” “самым вольным голосом” должно решать нужды своего государства. Основная мысль экономиста проста: богатство неизбежно связано с понятием правды в устройстве государства; народ будет иметь достаток только в том случае, если общественный строй станет на службу народа; богатство оценить можно не по числу “царских сокровищ”, а лишь по благополучию самого народа, которому безразличны бриллианты в короне и скипетре, ибо народу важно, что сегодня на обед, что носить в будни и что надеть в праздник…
Два человека, два современника, прошли по земле русской – император и крестьянин. Оба они стремились к величию России, но путями разными. Петр I думал о стране, в которой он, самодержец, главный, а народ пусть трепещет пред ним. Посошков думал о народе, почитая народ главною силой в стране, и пусть сама власть трепещет перед народом. Там, где Петр I действовал дубиной, Посошков хотел видеть закон, обязательный для всех, будь то сенатор или землепашец. Каждый из них по-своему прав: Посошков – по-народному, а царь – по-царски!
24 февраля 1724 года Посошков закончил “Книгу о скудости и богатстве”, желая подбросить ее на стол императора, а там – будь что будет. 28 января 1725 года Петр I скончался в ужасных мучениях, крича на весь дворец от нестерпимых болей:
– Зрите и ведайте, сколь слаб человек…
Историки так и не выяснили, успел ли царь прочесть сочинение Посошкова; кажется, нет! На престоле воссела Екатерина I.
А на базаре люди не молчали – они разговаривали:
– Нам от бабы и выеденного яйца не видать.
– Откуда взялась эта царица – бес ее знает…
Когда она склонилась над гробом царя, целуя его, архимандрит Феодосии Яновский, писатель и вития, покрыл императрицу нещадной бранью. Феофан Прокопович (тоже писатель и тоже вития) уцепился за эту брань как за повод для погубления соперника в делах синодальных и послал на Яновского донос… 26 августа 1725 года к Посошкову пришли солдаты и отвезли его в крепость!
Историки еще многого не знают, но о многом догадываются.
В библиотеке Феодосия Яновского нашли экземпляр “Книги о скудости и богатстве”, пытками у людей вырывали признания – читали ли они эту книгу? Один из читателей Посошкова был отведен на эшафот, где ему отрубили голову… Советский ученый Б. Б. Кафенгауз, много лет положивший на изучение Посошкова, отыскал в делах царского кабинета бумагу, а в ней сказано: “Купецкой человек Иван Посошков содержится по важному секретному государственному делу”. Да он и сам предвидел конец свой: “Не попустят мне на свете ни малого времени жить, но прекратят живот мой!”
Его запытали…
А конец миниатюры мог бы стать и ее началом. Санкт-Петербург, 1840 год – николаевская эпоха… Аукцион в разгаре – шла бойкая распродажа собрания библиофила Лаптева. На столе появилась рукопись в переплете из свиной кожи, и аукционер с трудом прочитал ее название – тяжкое и громоздкое, будто автор свалял его из громадных замшелых валунов:
– “Книга о скудости и богатстве, си есть изъявление от чего приключается напрасная скудость и от чего гобзовитое богатство умножается”… Продается! Кто желает приобрести?
Не успели выкликнуть цену, как некто Большаков, матерый спекулянт-перекупщик, уже протиснулся вперед и алчно тронул переплет из свиной кожи – кусачей, как наждак.
– Беру… Сколь надо – столь и дадим!
Сам-то он в этой книге ни бельмеса не смыслил, но зато ценил ее как старинную реликвию. Привез он книгу в Москву, где с лихвой перепродал профессору истории Погодину, а тот сразу понял, какая уникальная находка попала ему в руки. Ученый провел над “Книгою о скудости и богатстве” всю ночь и над нею же встретил он розовый рассвет. Автор – из тьмы веков – настаивал перед царями на раскрепощении крестьян, и напротив этого места Погодин (сам бывший крепостной) с чувством отметил: “Целую руку твою!” Вот и последняя страница книги, подпись: “Правды всеусердный желатель ИВАН ПОСОШКОВ”. Погодин записал в дневнике: “Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого человека в святилище русской истории”. Но оказалось, что ввести Посошкова в пантеон российской историографии не так-то легко… Министр просвещения граф Уваров заявил Погодину:
– Михаила Петрович, хотя его императорскому величеству и благоугодно было на вашем прошении об издании труда Посошкова начертать слово “согласен”, я, со своей стороны, советую вам, голубчик, воздержаться от публикования сей книги…
Погодин чуть не зарыдал – в отчаянии:
– Не губите меня, ваше сиятельство! Я ведь сплю и вижу сочинение Ивана Тихоныча на прилавках книготорговцев россий–ских.
– В любом случае, – продолжал граф Уваров, – вам при издании не следует утверждать, что автор происходил из подлого состояния. Трудно поверить, чтобы мужик, подобно Адаму Смиту, мог бы разбираться в тонкостях экономики. Скорее всего, книгу сочинил кто-либо из вельмож Петра, но, боясь расплаты за дерзкие мысли, он тишайше спрятался за крестьянским псевдонимом.
– Значит, нельзя печатать? – понурился Погодин.
– Советую воздержаться…
Но историческая наука “воздержания” не терпит, и Посошков буквально протаранил стены царской цензуры. Россия в 1842 году узнала, что в дебрях ее былой жизни существовал писатель Иван Тихонович Посошков – страдающий, ликующий, негодующий, правды ищущий, неправду отрицающий…
После окончания романа “Война и мир” Лев Толстой вознамерился писать о Петровской эпохе, желая сделать Посошкова главным своим героем. Лев Толстой был, кажется, немало удивлен, когда узнал, что его главного героя замучил начальник Тайной канцелярии граф П. А. Толстой, который приходился великому романисту родным прапрадедом…
Ястреб гнезда Петрова
Петр Андреевич Толстой… Его праправнук Лев Толстой сказал о нем: “Широкий, умный, как Тютчев блестящ. По-итальян–ски отлично”. А современник писал, что сей человек “зело острый и великого пронырства и мрачного зла втайне исполненный”.
Но история ценит не столько мнения, сколько факты!
Москва, 15 мая 1682 года. На лошадях, по брюхо заляпанных грязью, неслись вдоль стрелецких полков два горячих всадника – Толстой да Милославский.
– Нарышкины извели царя Федора! – кричал Толстой.
– Травят и царя Иоанна! – вторил ему Милославский.
Был день первого стрелецкого бунта. Стрельцы сбросили кафтаны – облачились в кумачовые рубахи. Рукава засучили. Кремль они замкнули в осаде. Первым метнули с крыльца Долгорукого, и старик с криком упал на частокол пик, воздетых под ним. В лохмотья растерзали и боярина Матвеева. “Хотим еще!” – кричали, а Толстой с Милославским подбадривали: “Любо нам… любо!” Три дня подряд шла резня. В таких случаях не спрашивают: кто виноват? Важно знать: кому выгодно? А выгодно было царевне Софье, она забрала власть над страной, в Голландии заказали тогда курьезный двойной трон для царей-мальчиков – Петра и Иоанна… Толстой был вассалом Софьи, но, когда подросший Петр обрел силу, он безжалостно покинул царевну, переметнувшись в лагерь Петра; царь его принял, однако услал от себя подальше – воеводствовать на Устюге.
Вот и новые времена! Учреждались “кумпанства”, над Воронежем ветер развевал флаги, а названия у кораблей такие, что вовек не забудешь: “Скорпион”, “Растворенные ворота”, “Стул”, “На столе три рюмки”, “Перинная тягота”, “Заячий бег”, “После слез приходит радость” и прочие. Был канун второго стрелецкого бунта! Шестьдесят стольников собирались в “Европския христианския государства для науки” – приучаться к флотской жизни. Ехать не хотели – им и дома жилось неплохо! Тут и отличился Петр Толстой: по своему хотению сам просился в службу на галеры венецианские. А ведь было ему 52 года.
– У меня уже детки с бородами, – говорил он…
Поехали! Сразу же за Смоленском – рубеж России, от речки Ивати начинались вотчины панства. Покружив по землям шляхетским, переплыли Днепр на пароме, ночевали в Могилеве, дивясь, что улицы выстланы камнем; от Минска ехали Литвою, в землях пана Браницкого повстречался Толстому обтрепанный Дон-Кихот на тощем Росинанте; на шею себе, словно бусы, надел он немало колец краковской колбасы, которой и кормился в дороге. Толстой спрашивал путника, кто таков и куда путь держит.
– Я благородный рыцарь из земель Ангальтских, пробираюсь на Русь искать счастья и славы. Говорят, ныне молодой царь принимает всех из Европы, кто желает служить его короне.
– Ну-ну! Езжай, – ухмыльнулся Петр Андреевич…
На перевозах через Вислу рубились на саблях пьяные ляхи с потными чубами. Будучи в “мыльне” с фонтанами, убранной морскими раковинами и зеркалами, русские стольники с опаскою пили кофе (невкусно!). Толстой похвалил удобства варшавской жизни, а в дневнике разругал полячек за то, что при виде мужчин за углы не прячутся, глядят на всех без страха и “в зазор себе того не ставят”. Польша кончилась – кони ступили в болото, за коим начиналась “Шленская Земля” (Силезия), владения австрийского императора – кесаря! Замелькали острокрышие города, пестрые одежды народов, харчевни и постоялые дворы – стольники въехали в Вену, где их поразили шестиэтажные дома и обилие фонарей (“от тех фонарей в Вене по вся ночи бывает по улицам великая светлость”). Далее путь лежал через Альпы, лошади боялись пропастей – в повозки впрягли флегматичных быков. Толстой кратко записывал: “Шел пеш, имея страх смертный пред очима”. С гор спустились в цветущие долины Италии: “отсюда пошли многая винограды, лимоны, померанцы и иные”. Молодежь дурачилась, пила вино в дорожных тратториях, а Толстой (самый старый!) все примечал зорко и ненасытно – как народ живет, что сеют, что едят, каковы цены… Республика Венеция радушно отворила ворота перед русскими школярами. Здесь малость онемели от диковинки: вместо улиц текли каналы, всяк плавает куда хочет; печей нет – камины. Образованный дож Валжер и красавица догаресса Квирини любезно приняли русских стольников во дворце.
Начиналась учеба флотская! А чужая жизнь увлекала безмерно. Толстой отметил, что республиканцы живут трезво, пьют больше “лимонатисы, симады, чекулаты (то есть какао), с которых пьяну никак быть не мочно; очень любят сидеть в лавках (то есть в кафе), где забавляются питьем и конфектами”. Бывали русские в опере учились играть в мяч, воздухом надутый, бросая его через сетку, над площадью растянутую. Но средь приятных забав виделось Толстому и другое: “Всегда в Венеции увеселяются и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страху никто не имеет, всяк делает по своей воле, кто что хочет… и живут Венецияне в покое, без страху и без обиды, без тягостных податей”. Не писал ли он эти слова с оглядкою на отчизну, где мало веселья, но зато множество податей, где никто не спешил в оперу, зато многих тащили на плаху. Был как раз год, когда в Москве на Красной площади Петр I рубил головы стрельцам…
Страшные бури носили галеры от берегов Далмации до Бари, гремели пушки у берегов Сицилии; побывал Толстой и на Мальте, где его чествовали угрюмые мальтийские рыцари в белых плащах с крестами. Он освоил итальянский язык, познал и славянские наречия. Капитан галеры Иван Лазаревич выдал Толстому диплом, в коем восхвалил его знания навигации, скромность и мужество. Это правда: Толстой учился прилежно, и хотя ему, старику, было особенно тяжело, но трудов флотских он не чуждался.
1700 год он встретил уже дома – в кругу семьи. Петр I сразу оценил в Толстом трезвость, красноречие, бритое лицо, пышный парик и поразительную трудоспособность. Царь в это время неустанно нахваливал чистенькую Голландию, а Толстой – Италию, за что и был однажды свирепо наказан царем, повелевшим:
– Эй, влейте в мощи ему три бокала флинту!
Флинт подавался горячим. Это была смесь пива с коньяком, в которую выжимали лимон. После русских медов и квасов флинт воспринимался с трудом. Петра Андреевича замертво вынесли из покоев царских… Ну что ж! Пора начинать карьеру.
XVIII век открывался великой Северной войной: Россия выходила на большую дорогу истории, но эта дорога длиною в 21 год обошлась россиянам в одну пятую часть населения – убитых, казненных, сожженных, утопленных и просто разбежавшихся по белу свету. Россия не имела своей воды… Правда, на севере был Архангельск, а на юге отвоеван Азов, но в Черное море турки русские корабли не пропустили; они говорили так:
– Черное море – дом наш внутренний, куда никого, как в гарем, не допустим. Станете плавать – войну начнем. Или пролив у Керчи весь камнями закидаем: даже щепка не проплывет!
Итальянский язык в ту пору был официальным языком турецкой дипломатии, и это решило судьбу Толстого: он стал первым постоянным послом России у порога Блистательной Порты… Годы шли вдали от родины, от семьи. Петр I денег не давал, а платил соболями, которые в Турции не раскупались. Громы пушек на севере Европы отдавались борьбою в передних султана; визирь Али-паша сказал однажды Толстому с кривою усмешкою:
– Когда враг по пояс в воде, можно подать ему руку; если он залез в воду по грудь, лучше не замечать его; а когда враг стоит по горло – лучше топить его без жалости!
– К чему сии грозные слова, великий визирь?
– Скоро поймете сами, – отвечал хитрый Али-паша…
В 1709 году грянула Полтава. Карл XII бежал во владения султана, Петр I требовал его выдачи, но русских курьеров турки перехитрили, – война объявлена! Петра Андреевича янычары повели в Семибашенный замок через пресловутые Красные ворота, которые (ради устрашения) накануне покрасили свежей человеческой кровью. Всю ночь послу России показывали орудия пыток.
– Меня-то этим не устрашишь, – ответил старик…
Али-паша скоро навестил его в темнице.
– Мне вас жаль, – сказал визирь. – Ваш император зачем-то взял с собою ливонскую девку Катерину и пошел с этой девкой воевать против нас. Сейчас мы окружили вашу армию на Пруте.
Визирь развязал платок и показал женские украшения:
– Вот и серьги из ушей Екатерины…
– Что значит нелепость сия? – в ужасе закричал Толстой.
– Это значит, что царь сдал нам не только пушки, не только Азов и Таганрог, но даже серьги из ушей своей куртизанки…
Так и было! Прутский поход закончился катастрофой. Россия потеряла Азов и Таганрог, сожгли Азовскую флотилию. В 1712 году турки пихнули в темницу еще двух дипломатов – Шафирова и Шереметева… Толстой, тряся бородою, спрашивал их:
– Робята, а вас-то какой бес сюда наслал?
– А мы… мир приехали заключать. Вот и попались.
Войны не было. Но мира тоже не стало.
Только в 1714 году Толстой вырвался из этого ада…
Вернулся домой и не узнал России: столица в Петербурге, русская армия гуляла по берегам Балтики, вместо воеводств учреждены губернии, заседал Сенат, при дворе крутилась масса иностранцев, а близ Петра I стояли люди, Толстому неведомые, – Алексашка Меншиков (дука Ижорский) да “ливонская девка” Катерина… Тьфу ты! Опять всю карьеру надо начинать заново.
Сына своего, рожденного от Авдотьи Лопухиной, Петр I насильно привенчал к худосочной Шарлотте Вольффенбюттель–ской, родная сестра которой была супругою австрийского кесаря Карла VI, – царь нуждался в альянсе венского и петербургского дворов: политика определила этот никудышный брак. Царевич сплетничал с монахами, врагами отца, и не столько сам пил, сколько его дальновидно спаивали. Слабый здоровьем, измученный церковными постами и непосильным пьянством, Алексей со слезами умолял денщиков царя-батюшки:
– Умру ведь я. Господи! Сжальтесь надо мною.
– Пей давай… чего уж там! – отвечал Меншиков и, разжав зубы царевичу, вливал в него громадную чару с перцовкой, которая была такой крепости, что свечу поднеси – вспыхивала!
Сбитый с толку монахами, задерганный отцом, страдающий за свою мать, живущую в тюрьме, царевич еще в молодости перенес то, что сейчас принято называть инсультом. Шарлотта родила ему сына (будущего императора Петра II), но Алексей, по примеру отца, завел себе “чухонскую девку” Евфросинью, а жена вскорости умерла. Но тут родила и “ливонская девка” Екатерина – тоже сына и тоже Петра по имени. Царь встал перед роковым выбором: кому оставлять престол? Или бездельнику Алексею – нелюбимому сыну от нелюбимой жены, или Петру – любимому сыночку от любимой женщины. Возник сложный династический вопрос…
Был поздний осенний вечер, по крышам венского дворца стучал сильный дождь, вице-канцлер Шенборн собирался ложиться спать, когда в двери стали ломиться, требуя с ним свидания. Это был царевич Алексей, бежавший из России!
– Мне нужен император – мой свояк, – потребовал он.
Шенборн кликнул секретаря с перьями, и потому бессвязная речь Алексея в венском дворце дошла до нас. Крича, царевич бегал по комнате, задевая стулья, наконец захотел пива.
– Я должен похмелиться. Дайте пива!
– Пива нет. Но я могу налить вам мозельвейну…
Алексей выпил мозельского и зарыдал.
– Я слабый человек, – записывал его слова секретарь, – меня споили нарочно, чтобы расстроить мое здоровье. Я не хотел искать спасения ни во Франции, ни в Швеции, ибо там враги отца моего. Я передаю себя в защиту кесаря, умоляю не выдавать меня отцу. Он ни во что не ценит человеческую кровь, всегда и гневен, и мстителен, ничего не щадит – ни денег, ни крови, потому что он тиран и враг народа русского. Я изнемог…
До кесаря его не допустили. Беглеца с Евфросиньей отправили по Дунаю в Тироль, где заключили в замок Эренберг, стоящий на вершине неприступной скалы. А по Европе уже скакали русские сыщики: бегство царевича грозило России смутами. Венский посол Плейер сообщал кесарю из Петербурга: “Слухи о бегстве царевича возбудили в народе всеобщую радость. Здесь все готово к бунту…” Местопребывание Алексея открыл Румянцев, после чего “Толстой навестил царя, склонившись перед ним столь низко, что букли парика коснулись паркетов:
– Ваше величество, доверьте дело мне, рабу своему.
– Что тебе надо для этого, Андреевич? – спросил царь.
– Червонцев… как можно больше червонцев!
По решению кесаря, Алексея с Евфросиньей отвезли в Неаполь, а там их укрыли в замке Сент-Альмо, возвышавшемся над городом. А за коляскою с беглецами скакал неутомимый Румянцев… Толстой, прибыв в Вену, просил Карла VI выдать царевича. Кесарь отвечал, что пусть он сам разбирается с царевичем и его пажом (Евфросинья носила мужскую одежду). 24 сентября 1717 года Петр Андреевич встретился с Румянцевым в Неаполе.
– Ах, Синька, Синька! – вздохнул старик. – Молод ты, быстро по Европам скачешь. Ну-к, ладно. Идем до царевича!
Он вручил Алексею письмо царя, который упрекал сына за бегство, просил во всем слушаться Толстого и заключал: “Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе…”
– Не верю! – разрыдался Алексей. – Я стану писать кесарю, чтобы не отдавал меня отцу… Боюсь лютости его!
Толстой выждал паузу. Веско заговорил:
– Кесарь – протектор плохой. Ежели отец двинет армию к рубежам его, кесарь выдаст тебя с головой. Но тогда будешь судим яко изменник отечеству. Нет, кесарь ссориться с Россией не пожелает! А мне велено не удаляться отселе, прежде чем не возьму тебя. Помни: куда б тебя ни везли, где бы ни спрятали – я буду, аки сатана или ангел, всегда рядом с тобою…
Толстой повидал и Евфросинью; он понял сразу, что эта девка в штанах сговорчива. Речи повел он ласковые:
– Евфросиньюшка, ах краса-то какова… будто писана! Послушь-ка, золотко, что я тебе на ушко поведаю…
И поклялся (!) “девке чухонской”, что пусть уговорит царевича вернуться домой, а тогда он выдаст ее замуж за своего сына, да в придачу даст им тысячу крестьянских дворов.
– Заживешь как барыня! Именья-то мои каковы: там и лес, и телята, и малина, и сметаны полно…
От Евфросиньи он вернулся к царевичу – с угрозой:
– Если не вернешься, разлучим тебя с Евфросиньей…
Алексей сдался! Но поставил условие:
– Жить мне частным лицом в Москве на Воздвиженке и чтоб не дергали меня боле, а с Евфросиньюшкой не разлучали…
Царевича везли на Русь через Вену; Евфросинья (беременная) ехала на Русь через Берлин; в Москве сына поджидал царь:
– Сразу откажись от всяких прав на престолонаследие и назови всех, кто шептался с тобой…
Третьего февраля 1718 года Алексея доставили в Успенский собор; положив руку на Евангелие, он всенародно поклялся, что никогда не станет искать престола российского, а будет признавать наследником престола сводного брата Петра Петровича (“Шишечку”). В тот же день царь манифестом оповестил страну, что царевич от службы отлынивал, жену Шарлотту замучил, а время проводил праздно с Евфросиньей (которая поминалась в манифесте как “бездельная и работная девка”). Алексей выдал единомышленников. Началась полоса пыток и казней. Дело царевича Алексея – вроде бы семейное! – стало делом общегосударственным.
Весною двор перебрался в Петербург. Евфросинью заперли в Петропавловской крепости: там она родила ребенка, судьба которого неизвестна. На картине художника Николая Ге “Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе” запечатлен как раз тот важный момент, когда царь – именно со слов Евфросиньи! – предъявил сыну жестокие обвинения… Палец царя на листе допроса:
– Ехиднин сын! Гляди сам, что писано… Когда говорили тебе, что в столице тихо, отвечал ты словами вражьими: “Тишина недаром: либо отец умрет, либо в народе бунт объявится…”
В эти дни на мызе близ Петербурга отрубили головы крестьянам – Рубцову, Поропилову, Леонтьеву. Вина их была только в том, что они видели, как царевича затащили в сарай, откуда скоро раздались истошные вопли. И хотя Алексей ежедневно обедал за одним столом с отцом, его уже подвергали пыткам. Суд в составе 127 персон вынес ему смертный приговор. Не подписался под ним только один человек – не потому, что был слишком смелый, а потому, что был слишком безграмотный.
В манифесте о смерти царевича Петр I объявил народу, что Алексей скончался от апоплексии. В честь этого была отчеканена медаль, на которой – корона царская в лучах солнца и надпись: ГОРИЗОНТ ПРОЯСНЕНИЯ. На самом же деле царевич принял смерть жестокую. Румянцев, Бутурлин, Ушаков и Толстой (наш герой) вошли в камеру, где сидел Алексей, и сообща задавили его подушками! Эта сцена убийства не испортила Петру I хорошего настроения, тем более что был праздник – годовщина Полтавской баталии. Царь со вкусом обедал в Летнем саду подле Екатерины, вечером был пышный фейерверк над Невою, веселый пир длился до глубокой ночи. Толстой, как главный виновник торжества, сиживал возле царя. Токарь Андрей Нартов записал как очевидец, что в разгар пира царь, “снявши с Толстого парик и колотя его по плешине, говаривал: “Эх, голова ты, голова! Кабы не была так умна, так давно бы отрубил ее…” Память подсказала царю горячий день стрелецкого возмущения, когда Толстой был “маткою бунта”. Нет, царь все помнил и ничего не прощал! А погубив царевича Алексея, Толстой, естественно, сделался сторонником Екатерины…
Это было ему нужно, ибо Петр I уже был не жилец на свете. Петр Андреевич заранее (вкупе с Меншиковым) сколачивал будущее царствование, как корабль, чтобы плыть на нем далее. В мае 1724 года он получил титул графа. В конце Петрова царствования Толстой был главным инквизитором в Тайной канцелярии, созданной в помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали рубить людям головы. Толстой лично руководил пытками и казнями, но свидетельств о его жестокости не сохранилось: очевидно, граф не был столь кровожаден, как другие инквизиторы той мрачной эпохи… Петр I перед смертью предупреждал близких, что Толстой “человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, нужно держать камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, если он захочет кусаться!”
После смерти Петра I ближайшие его соратники оказались и главными критиками былого царствования; император еще лежал в гробу, когда они стали разворачивать Россию назад – к старым порядкам. Мало того, птенцы гнезда Петрова стали ястребами, клевавшими один другого так, что пух и перья кружились над великим наследством великого императора. Судьи царевича Алексея хотели, чтобы императрицей стала Екатерина! Но ведь существовал и законный наследник престола – Петр Алексеевич, сын умерщвленного царевича. Толстой и Меншиков больше всего боялись, что этот мальчик, возмужав, спросит: а кто моего отца сгубил? – и потому они теперь кричали громче других:
– Хотим только матушку Катерину… пресветлую!
И вечно пьяную, кстати сказать. При избрании этой женщины в императрицы несколько человек зарезали возле престола, а несколько человек пришлось выкинуть со второго этажа.
Но ни Толстому, ни Меншикову не довелось умереть на сундуках с награбленным добром. Меншиков возжелал женить на своей дочери Петра, сына казненного царевича, – тогда и волки сыты и овцы целы останутся… Но Толстой пришел в ужас.
– Конешно, – сказал он сыну, – ежели Алексашка Меншиков станет тестем императора Руси, он свою шкуру погладит, а вот наши шкуры, толстовские, все будут в дырках великих…
С воплями кинулся старец к умирающей Екатерине I.
– Что мне теперь счастье и что мне несчастье? – сказал он. – Но вы, ваше величество, должны понять, какой удар ожидает ваших наследников… Вижу топор, занесенный над головой детей наших и над моей головой – тоже!
– Не кричи, Андреич, – отвечала императрица. – Я уже слово дала Алексашке: пущай дочку свою за Петра выдает… Мне все едино помирать вскорости, вы сами и решайте…
За шесть дней до ее кончины Меншиков объявил, что в покои Екатерины I больше никого не впустит, даже если в него будут стрелять. Екатерина I, целиком ему подчинившись, подписала указ об аресте Толстого и его конфидентов. Сколько людей отправил Толстой на тот свет, а теперь и сам попался.
– Для меня, – заявил он судьям, – все в этом мире давно постыло, и считаю свою участь более счастливою, нежели участь тех, кто будет после меня проживать…
Вместе с сыном его отправили на Соловки, где заточили в подземную темницу – без света. Там они куску хлеба радовались. В возрасте 84 лет Толстой умер в день 30 января 1729 года. Но перед смертью ему выпала горькая доля – выкопать могилу для своего сына, который скончался раньше отца.
Так закончилась эта яркая, грубая, сочная и удивительно сложная жизнь. Надгробная плита над прахом сохранила от давних времен лишь два слова: “Граф Петр…” – и все!
Лев Толстой задумал роман о жизни Петра I, в котором главным героем стал бы его пращур. “Если Бог даст, – писал он тетке, – я нынешнее лето хочу съездить в Соловки”. На Соловецкие острова он не поехал, а роман забросил.






