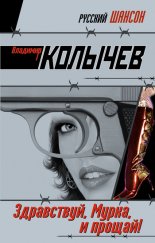Соавтор Прашкевич Геннадий
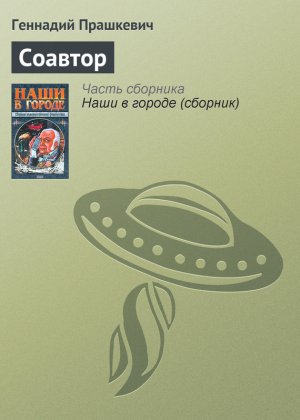
Наконец, жухлая полоска, прокаленную землю с которой он собрал в газетный пакет…
Серова бы сюда.
Серов – человек решений.
Он немедленно вызвал бы на базу своих многочисленных приятелей-физиков, а химики всегда под боком.
Все-таки Веснин встал. Но у себя в палатке устроился головой к входу, чтобы слышать голоса ребят, чтобы слышать хвастливые, но чудовищно убедительные при этом байки Кубыкина. «Вот сержант мне и говорит…»
Одно мешало Веснину – раздражение.
Увязал в чепухе, пытаясь что-то осмыслить. Терял логику рассуждений. Какая-то душная пакость клубилась в душе, будто ее, как колбу, переболтали. Видел бесконечную вереницу не доведенных до конца дел, среди них (сейчас понимал) были настоящие…
Опыт…
Что толку даже в собственном в опыте, если нет возможности его реализовать? Какой опыт поможет увидеть будущее, убедительно нарисовать будущего человека? Разве самый умный и опытный дьяк Петра Первого сумел бы дать убедительное описание российского человека, скажем, двадцатого века? Какого же черта я берусь в своих книгах описывать людей, которым жить на Земле через двадцать, через тридцать веков?
– Ты не поймешь ответа.
Нежный газовый шлейф, слабо светящийся, как тусклая радуга, вновь клубился вокруг ствола обожженной сосны. Какой смысл в таком однобоком общении? – разозлился Веснин. «Ты не поймешь ответа». А что ты сделал, я смог понять?
Расслабься, сказал он себе. Ты же разговариваешь сам с собой. На кого тебе обижаться? На собственное эхо?
Он усмехнулся.
А лещ?
А поведение Анфеда? А визг Нади?
А чистая территория? А авторитетная убедительность начальника базы?
А семь ступеней, наконец? Если я говорю с самим собой, то, может, этот второй я– из будущего? Может, он явился оттуда, где человек уже давно вечен?
Он покачал головой.
Почему человек будущего должен походить на газовый шлейф и говорить голосом Кубыкина? Почему человек будущего должен настойчиво напоминать о детстве, в котором нет ничего, кроме боли?
Разве? – подумал он.
А летний сеновал, дыра в крыше, несколько волшебных звезд в дыре? А душное сено, долгий рев коровы, пускающей с губ стеклянные струйки прозрачной долгой слюны? А молочный туман над рекой, кусочек желтого сахара к чаю, сладкая болтовня у костра и печеная в золе картошка?…
Вспомнив все это, Веснин не почувствовал облегчения. И газовый шлейф под сосной начал на глазах истончаться, таять, расползаться на туманные слабенькие волокна.
– Ты уходишь?
Иной не ответил.
– Я не успел спросить…
Иной не ответил и отчаяние вдруг охватило Веснина.
Он действительно не успел. Он же слышал голос лже-Кубыкина, пять минут назад. Что могло измениться за какие-то несколько минут?
Но он чувствовал, что-то изменилось.
Но тогда зачем все? – подумал он с еще большим отчаянием Зачем лещ? Зачем солнечная рябь в темной воде? Зачем растения, люди, микробы, звезды, галактики? Зачем молнии, духота, равнодушие Ванечки? Зачем Надин испуг? Зачем все?
– Выбери ответ сам.
– Но ведь для этого нужно пройти все семь ступеней.
Иной не ответил.
Он гас. Он рассеивался.
Реже вспыхивали зарницы, тускнело ночное небо, звезды терялись в лохмотьях наползающих с моря туч. Молния, непохожая на прежние, злобная. крючковатая, хищно скользнула над берегом, разрушив тьму. И не было больше тишины. И не было больше Иного. Только стонала обожженная сосна, только надувались, трепетали на ветру полотнища палаток. И скользнули в душном воздухе первые капли.
Хоть Анфеду повезло – не сломал ногу.
Веснин прислушивался к дождю. О каком соавтор говорил Серов? Разве есть работы, выполненные кем-то без соавтора? Разве не был соавтором Колумба тот матрос, что первым крикнул с мачты: «Земля»? И разве не был соавтором Эрстеда тот студент, который обратил внимание великого физика на странное поведение стрелки компаса, случайно оказавшегося рядом с проводами, по которым пускали ток? И разве…
К черту!
Он нащупал газетный кулек, лежавший рядом с надувным матрасом.
Горстка земли для химанализа… А можно подвергнуть химанализу душу?…
Еще не понимая, что он делает, он запустил кульком в сосну. «Ты не поймешь ответа». Может быть. Но я и не хочу его понимать, я хочу добраться до него сам! Ударившись о сосну, кулек лопнул, сухая земля глухо осыпалась на обнаженные, расползшиеся вдоль тропинки корни.
Вот и все.
Дождь замоет.
Веснину сразу стало легче.
Он слышал, как стучат капли, как душное напряжение медленно отпускает пересохшую землю. Он слышал, как закипают соки в тугих стволах, как успокаивается во сне тяжелое дыхание Кубыкина. Он даже Ванечку увидел – его птичьи аккуратные усики. И вот странно, впервые все это не вызвало в нем протеста.
То, что дождь, наконец, начался, было хорошо.
То, что неудачник Анфед уберег ногу, было замечательно.
То, что природа начинает приходить в себя, было еще лучше.
Веснин сел и медленно развел руки в стороны. Как никогда он чувствовал прекрасную силу здорового тела, как никогда чувствовал – впереди у него еще не одна ступень.
И вздрогнул.
Откуда-то из дождя, из неясного шума, производимого ветром, бесцеремонно ворвавшимся с моря в сразу качнувшийся лес, донесся невероятный, то хрипящий, как труба, то срывающийся на фальцет голос Кубыкина. Веснин даже испугался: может, Иной вернулся?
Но нет.
Сквозь кусты ломился Кубыкин.
Он материл весь мир, он лез прямо сквозь шиповник, он хрипел, как бык. А прорвавшись сквозь колючий куст, упал на колени перед палаткой.
– Эй, писатель, идем! Там Анфед сломал ногу.