Последний Рюрикович Елманов Валерий
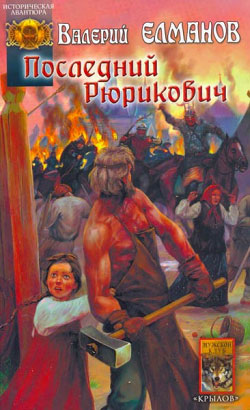
Читать бесплатно другие книги:
Каждый боец криминальной пехоты мечтает выбиться в крупные авторитеты. Эльдар не только мечтает: он ...
Они чем-то похожи. Оба крутые, жесткие, настоящие мужики. Но один исповедует принципы справедливости...
Волк ручным не бывает. Да руководству ФСБ он таким и не нужен. Бандит Демьян Красновский – известный...
Марина была путаной и знает грубую изнанку жизни. Да ей и не дают забыть о ней: кто-то методично уни...
«Город принял!». Эти слова предваряют одно из первых дел Стаса Тихонова. Дело, начавшееся с банально...
«Место встречи изменить нельзя», «Лекарство против страха», «Визит к Минотавру»… и вот теперь – «Гон...






