Развитие личности. Психология и психотерапия Курпатов Андрей
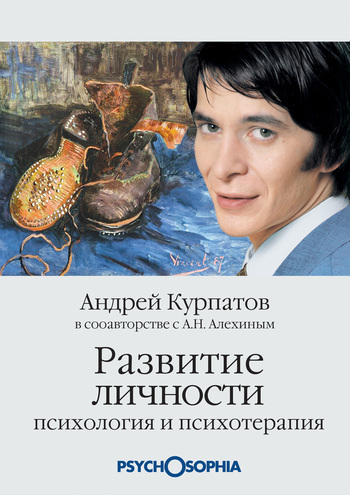
Предисловие
Эта работа занимала меня примерно десять лет назад. Тогда я работал под началом О.Н. Кузнецова – доктора медицинских наук, профессора, выдающегося отечественного ученого. Психиатр, невропатолог, психолог, психотерапевт – Олег Николаевич был потрясающим ученым с огромной широтой научных интересов. Последние годы своей жизни он почти полностью посвятил себя проблеме творчества Ф.М. Достоевского, одного из лучших – если не лучшего – психолога мировой литературы. Именно в этот период, в начале 90-х прошлого теперь уже века, мне и довелось познакомиться с Олегом Николаевичем.
Как научный руководитель, дело было буквально в коридоре Клиники психиатрии Военно-медицинской академии, он с ходу дал мне задание – посчитать количество слов «истерика» в романе «Братья Карамазовы». Занятие, как нетрудно догадаться, весьма незатейливое, но эффект, надо признать, был особенным и незабываемым. Уже скоро я видел на страницах романа одни «истерические припадки», «нервные смешки», «идиотические» выражения лиц и так далее. Все произведение предстало передо мной особенным образом – отчаянное внутреннее напряжение, оголенный нерв, дрожание чувства.
И, разумеется, ограничиться одним пересчетом психиатрических терминов я уже не мог. Передо мной предстала сложнейшая картина личностных переживаний, трагедий, кризисов и трансформаций. И первое место, конечно, занял Алеша Карамазов, превращающийся на глазах читателя из невзрачного юноши с наивным взглядом на объекты веры в удивительную, сильную, полную настоящей внутренней жизни личность. Но здесь же были и замкнутый циник Иван Карамазов, и находящаяся в вечном надрыве чувства Грушенька, и, конечно, истерзанная внутренними противоречиями Лиза Хохлокова, широкодушный Митя, святой старец Зосима… А главное – предельно насыщенные чувствами интеракции героев романа.
Так появились мои первые научные работы по психологии и психотерапии (до этого я занимался историей медицины) – «Художественно-психологическое и неврологическое понимание истерии» и «Истерические механизмы развития личности»[1], состоялись доклады, как на медицинских форумах, так и в рамках Международной конференции «Достоевский и мировая культура». Интуитивно понятые тогда механизмы развития личности, внутреннее ощущение сущности этого феномена, разумеется, не могли остаться в рамках художественного и культурологического анализа. В то время я занимался проективными тестами, исследуя психологию личности курсантов академии, а также пациентов отделения неврозов Клиники психиатрии, где начал свою психотерапевтическую практику.
Тогда же я познакомился и с А.Н. Алехиным – доктором медицинских наук, профессором, настоящим ученым и потрясающим, необыкновенно глубоким мыслителем, который стал моим лучшим научным руководителем. Это была по-настоящему счастливая встреча. Анатолий Николаевич занимался в те годы проблемой психической адаптации человека, в частности в рамках долгосрочных экспериментов по герметизации. Мы проводили большую совместную научную работу, энтузиазм, охват и серьезность которой до сих пор вызывают у меня щемящее чувство ностальгии. Мы имели потрясающую возможность наблюдать психологические кризисы в экспериментальных условиях, что, разумеется, серьезно продвинуло работу.
В какой-то момент стало понятно, что принципы, лежащие в основе процесса развития личности, в определенном смысле универсальны. Теоретические и расчетные модели, которые выстраивались на основе этих несодержательных принципов, давали потрясающие результаты. В экспериментах все эти принципы и модели работали с завораживающей точностью. И, разумеется, после этого методология увлекала нас куда сильнее, чем частный по сути аспект ее приложения – теория личности, а также процессы ее формирования и развития.
И так на свет появилась «психософия» – неологизм, призванный обозначить новый подход к научному знанию. Суть этого подхода, если попытаться сформулировать его предельно кратко, состоит в следующем. Во-первых, все, с чем имеет дело исследователь, есть его психологический опыт, поскольку все, чем он оперирует, предстает перед ним в психической форме – в ощущениях, образах, языке. Поэтому без понимания того, что есть этот психологический опыт и психический аппарат человека, говорить о достоверности знания невозможно. И второе – исследователь имеет дело с содержанием, закономерности, которые он выявляет, относятся к этому содержанию, но, как ученый, он должен видеть не только то, что облечено в форму, но и то, что облекается в форму, то есть то, что стоит за содержательной стороной проблемы. Несодержательные принципы, выявленные психософией, отражают систему отношений между миром и человеком, дают, так сказать, их внутреннюю структуру и тем самым страхуют нас от неоправданных обобщений, основанных на закономерностях, выявленных просто из содержательного наполнения тех или иных процессов.
Таким образом, психология и психотерапия временно отошли на второй план, а наш научный интерес оказался сосредоточен на методологии, где методология понимается как способ взаимодействия человека со знанием. В результате получилась странная ситуация: психософия родилась из теории развития личности, а потом уже была ею несколько трансформирована. При этом, излагая полученный материал, мы, разумеется, отталкивались от методологии, которая заняла первое место, а лишь затем обратились к психологии личности, феноменам ее формирования и развития. В общем, получилось, что мы запрягли телегу впереди лошади, что, вероятно, было не совсем правильно. В таком виде наша первая совместная с Анатолием Николаевичем книга и увидела свет. Это было первое издание «Философии психологии», которое вышло с подзаголовком «Психософия. Наука о душе человека» скромным тиражом в двести экземпляров.
Работа с выходом этой книги, конечно, не остановилась. И мы принялись за новую книгу, которая развивала идеи первой, но по ряду причин так и не была закончена. Возможность переиздания этой монографии появилась только в 2001 году, а книга вышла в 2002-м. Издать мы могли только одну монографию, а поэтому была сделана некая компиляция из двух первых – одной полной и второй – недописанной. При этом вся та часть, которая была посвящена личности, процессам ее формирования и развития, была существенно переработана – дополнена и исправлена. Эта книга вышла под названием «Психософия: методология, развитие личности и психотерапия». Лошадь так и продолжала стоять позади повозки.
Сейчас, когда у нас появилась возможность опубликовать все имеющиеся у нас тексты по этой проблематике, встала задача еще раз структурировать написанный когда-то материал. Это оказалось не так просто, как хотелось бы. За те десять лет, которые прошли с момента написания книги, изменились и сами авторы, и их представления о том, что они делали тогда, эти десять лет назад. В результате нас смущает как качество изложения, так и логика изложения материала.
Но беда в том, что переписать эти книги невозможно. С каждой новой попыткой изменить их структуру и манеру подачи материала теряется что-то очень важное – нечто, что можно назвать логикой размышления. Эти книги писались в тот момент, когда новая методология только отстраивалась, читатель, таким образом, приглашался к рассуждению о том, что есть знание и как мы с ним – ученые и просто люди – взаимодействуем. Эта манера изложения имеет свои очевидные плюсы, поскольку в ней есть некая антидактичность, но, с другой стороны, структурность слаба и во множестве мест объективно проседает.
Сейчас, спустя столько лет, мы могли бы написать другую книгу о том же самом. К этому моменту на базе новой методологии проведено большое количество исследований, она применена в разных областях науки и практики, с ее помощью, например, создана системная поведенческая психотерапия. Мы сохранили прежний способ думать – тот, что дала нам тогда психософия, но изменили форму, которую принимает движение мысли в процессе научного исследования. Очевидно, что новая книга получилась бы лучше, но она однозначно была бы совсем другой, а потому многое, что кажется важным, осталось бы за кадром.
В результате было принято решение разбить исходный материал на три книги – по большому счету, грубо тематически. Одна книга посвящена новой методологии («Философия психологии»); вторая, которую вы сейчас держите в руках, – вопросам психологии личности и психотерапевтического сопровождения процесса развития личности; третья – индивидуальным отношениям («Индивидуальные отношения (теория и практика эмпатии)»).
У такого разделения материала есть свои очевидные плюсы и свои же очевидные минусы. Минусы состоят в бесконечных отсылках от одной книги к другой («об этом читайте там-то, об этом там-то») и, возможно, в некотором отсутствии последовательности изложения. Но есть и плюсы, потому что теперь лошадь и телега, а также дополнительная повозка стоят отдельно, и читатель имеет возможность сопрягать эти элементы в той последовательности, которая покажется ему наиболее удачной и отвечающей его интересам.
Со своей стороны мы меняем последовательность издания книг. Первой выйдет вторая – «Развитие личности», хотя формально она вообще последняя, поскольку переделывалась, в отличие от двух других, в 2001–2002 годах. Второй – первая («Философия психологии (новая методология)»), третья – третьей («Индивидуальные отношения»). Впрочем, это, наверное, и не так существенно.
Данная монография, полностью посвященная теории личности, процессам ее формирования и развития, а также психотерапевтическому сопровождению процесса развития личности, предваряется «Методологическим введением», которое призвано хоть как-то компенсировать недостаток методологических обоснований тех выводов, которые сделаны в основной части книги. Сама же методология публикуется в монографии «Философия психологии». Отчасти это вызвано тем, что развитие личности является лишь частным случаем использования этой методологии, тогда как читательский интерес к новой методологии не может быть ограничен лишь теми, кто занимается теорией личности. Более того, читатели, которые интересуются теорией развития личности, вполне возможно, не слишком заинтересованы в том, чтобы изучать логику методологического исследования.
Со своей стороны мы попытались, насколько это возможно, сгладить недоразумения, вызванные «хирургическим» разделением этого неполного, но необычайно разросшегося двухтомника на трехтомник. Однако избежать всех проблем, к сожалению, не удалось, за что авторы приносят своим читателям искренние извинения. Возможно, если данные работы вызовут читательский интерес, это сподвигнет нас на создание другой книги, более соответствующей нашим нынешним представлениям. Новая методология развивается, ее использование в области психологии и психотерапии дает новые и новые результаты. Мы, как нам кажется, нашли возможность описывать открытые системы, получая в результате этой работы знания, которые могут использоваться как технологии, что представляется нам важным и интересным.
С искренним уважением,
Андрей Курпатов
Общий раздел. Методология и поле психотерапии
Каждый предмет существует как бы в пространстве возможных событий. Представить себе это пространство пустым можно, вообразить же предмет вне этого пространства нельзя.
Людвиг Витгенштейн
Глава первая. Методологическое введение
Человек и предмет познания
Истории познания известен не один десяток мировоззренческих систем: религиозных, философских, научных. Каждую новую систему, пытающуюся разрешить противоречия, накопленные предыдущей, постигала участь предшествующей. Она сама рано или поздно оказывалась несостоятельной в отношении практики и становилась «памятником» научной, философской или религиозной мысли, уступая место следующей картине мироздания.
Вместе с тем, несмотря на очевидную временность определенности, которую дарует новая система (философская, научная или религиозная), основные усилия научного сообщества сосредоточены на проблеме обоснования знания, на критериях его достоверности. Ситуация более чем пикантная: с одной стороны, уже вполне понятно, что истина остается нетронутой, сколь бы убедительной ни выглядела та или иная теория; с другой стороны, попытки узаконить эту истину с помощью тех или иных критериев и оговорок не прекращаются. Проблема, на наш взгляд, кроется в том, что поиск ведется в ошибочном направлении: содержание может переосмысливаться, но суть явления от этого и не меняется, и не проясняется.
Новая методология (психософия)[2] поставила это противоречие во главу угла. Ее цель – не просто познать факт, но обеспечить достоверность этого познания этого факта. Единственным надежным основанием в этом случае является знание о феномене познания как таковом, понимание его внешней и внутренней структуры, то есть гносеология. Наука в конечном счете – это и есть сама гносеология, просто реализованная в отношении к чему-то конкретному. Но поскольку это конкретное само по себе есть результат акта познания и «окрашено» спецификой этого акта, подлинно научным может считаться лишь тот процесс познания, который содержит в себе и акт познания конкретной вещи, и знание механизмов этого познавательного акта. Иными словами, нас в равной степени должен интересовать как исследуемый объект, так и инструмент этого исследования, со всеми его диагностическими возможностями, особенностями применения, ограничениями и так далее.
При изучении реальности исследователь предусматривает многоуровневые проверки, контролируя показания приборов. Но остается еще один уровень познания – собственно человеческий, то есть психический (и в этом смысле – субъективный), акт оценки этих показаний. Данный процесс неизбежной и принципиально важной субъективации знания, надо сказать, и является объектом психософии. Да, человек тоже может быть исследован как своего рода аппарат, реализующий процесс познания. Причем у нас нет оснований, которые бы позволили ничуть не сомневаться в безупречности этого аппарата. Наоборот, путь к достоверности пролегает именно через познание этого гносеологического механизма – его устройства и внутренней логики. Таков единственный способ предвидеть возможность ошибки.
Представим себе некое явление, эту «вещь в себе». Мы используем доступные нам инструменты познания (системы восприятия, механизмы мышления и т. п.) для того, чтобы раскрыть это явление, эту «вещь в себе».
Разве нет оснований усомниться в том, что у нас есть все необходимое, чтобы добиться желаемого результата? Зная, что наше познание и познаваемое явление имеют разное происхождение, разную природу, исходно разные системы координат, разумно ли приписывать результат познания самой этой вещи? Наши выводы – это выводы из акта познания, акта, чуждого явлению, внешнего по отношению к нему. Природа существует в вещах и процессах, которые имеют собственную структуру, организацию, свой собственный смысл и сущность. Где-то мы действительно преуспеваем, а где-то упираемся в стену. Мы знаем, к примеру, из чего состоит молекула ДНК, но это не приближает нас к пониманию того, как из чередования нескольких нуклеотидов раскрывается все многообразие жизни.
Мир дан нам в пространственно-временном оформлении, с цветами, запахами, вкусами. Но таков он только для нас, потому что мы так устроены. Для кварка, камня, растения, животного – мир другой. Но он ведь один… Даже если допустить, что человек – венец природы, наиболее завершенная ветвь развития гносеологического аппарата во всей Вселенной, то и это не дает нам оснований считать его идеальным Зеркалом Природы, способным ухватить сущность любого явления. Скорее было бы правильно предположить, что нашим системам восприятия доступны лишь отдельные грани сущего. Разве не об этом свидетельствуют факты, не имеющие научного объяснения? Какие силы, например, движут расхождением хромосом при делении клетки? Что такое электричество? Формально ответ нам известен, но мы не понимаем его природу – «почему это происходит» или «благодаря чему это происходит». И подобных загадок великое множество. Мы видим лишь нечто видимое нам, но сколько всего скрыто от нашего видения, вооруженного и невооруженного?
Познание, как и другие человеческие способности, неизбежно ограничено. Мы можем видеть мир лишь таким, каким он оформлен в наших системах восприятия: для нас он всегда протяжен в пространстве и времени, дифференцирован в модальностях и интенсивностях. Мы и сознаем мир в согласии с устройством нашего мышления и языка. А язык настолько размывает границу между познанием и явлением, что мы не всегда можем отделить одно от другого, и хотя совершенно очевидно, например, что живой человек и его имя – вещи разные, но мы редко об этом задумываемся и для нас это – одно. И вот уже нам приходится говорить об «искривлении» пространства под действием сил гравитации, о «движении» времени. Нильс Бор даже выдумал принцип дополнительности, чтобы хоть как-то увязать факт квантово-волнового дуализма, не укладывающийся в нашем сознании с нашими системами восприятия. Мы существуем в том мире, который нам доступен, то есть в одной из его версий, по-видимому, одной из многих.
Переживать мир в пространстве, времени, модальности и интенсивности – наш способ существовать. Другие субъекты познания могут пользоваться другими способами, чтобы включить себя в мир и обрести через это свое существование. Нашим способом существования оформляется окружающий нас, познаваемый нами мир. И таким образом научность познания – в достоверности, а истинность – тайна за семью печатями, нечто, всегда остающееся за пределом. Наши знания о мире объективны в рамках субъективности (человечности) нашего познания. С этим стоит согласиться и отказаться от амбиций на истинное знание. Психософия исходит из первичности человеческого в реальности, с тем чтобы определиться с центром этой открытой системы – отношения человека и мира. В мире все взаимосвязано, и он по существу – открытая система, хотя и не дан нам таковым. Открытые системы слишком разнородны для нашего мышления и языка. «Все во всем» и «все со всем» – хотя и ощутимо, но не познаваемо и для человека означает – ничто.
Мышление не предназначено объять все неисчислимые взаимосвязи, составляющие мир. Оно выделяет из целого подсистемы, взаимосвязи и контуры которых ему очевидны. С точки зрения достоверности (как критерия научности) это выделение искусственно и неправомерно. Очевидна система «человек», и мы выделяем ее для анализа, но сразу наталкиваемся на погруженность этой системы во множество других, и формальное игнорирование всех его взаимосвязей со средой, с социумом, с культурой имеет результатом мертвую абстракцию – «человек».
Мышление оперирует закономерностями одного качества. Мы не можем описать логично взаимосвязь воздействий на человека со стороны расположения звезд и семейных обстоятельств. Это ненаучно. Не составляют системы и биохимические процессы в мозге плюс мыслительный акт. Для сознания это не система, а тарабарщина. При этом очевидно, что любая система состоит из взаимосвязей разного качества – и положение звезд, и семейный скандал как-то влияют на человека. Есть, видимо, и «биохимия мышления», даже если мы не можем представить себе – как это? Правила интеллекта, логика сознания, механизмы мышления не предназначены для систематизации этих взаимосвязей, в лучшем случае мы наблюдаем лишь «вход» и «выход» изучаемой системы. Такие системы как будто выделены из реальности нашим интеллектом, они отрезаны от мира, замкнуты в себе – «закрыты». Но то, что отделено от целого, лишенное взаимосвязей в этом целом, умирает, однако же иначе, по-другому наше мышление мыслить не способно. Ему необходимо выделить и определить объект. А то, что это уже не тот объект, каким он был, будучи включенным в целостность мира, наше сознание не замечает и не принимает в расчет.
Естественные системы «открыты». В слове «открыты» заключен смысл взаимосвязи всего в мире. Пытаясь выделить «самостоятельные» системы: организм, человек, общество, природа и т. п., мы совершаем действие, пренебрегая критерием достоверности, и, значит, заведомо получаем ошибочный результат. Не может быть достоверно то, что не является естественным, то, что изменено под познающего, оформлено его способом существования.
Механизмы мышления: анализ, синтез, абстракция, обобщение, аналогия – отнюдь не инвариантны естественным процессам. Они неплохо работают в области закрытых систем – искусственных, созданных нашим же мышлением, а не «навязанных» нам действительностью. Например, математика – это виртуозная игра знаками. Тут законы мышления царствуют и правят. Но математики нет в природе, она выдумана нами от начала до конца. В природе нет даже нуля, не говоря уже о такой абстрактной абстракции, как бесконечность. Любой мыслительный акт реализуется как минимум при двух условиях: разделение и установление отношений. То есть прежние уничтожаются «выделением» объекта из целостности, новые устанавливаются введением этого объекта в пространство мышления, где действуют свои системы отношений. И разумеется, все это уже есть некое добавление к реальности, привнесение в нее искусственного, предопределяющего череду напряжений и искажений.
Мы мыслим, исходя из диад: «свет – тьма», «добро – зло», «покой – движение» и т. д. Так создаются качества – модальность и интенсивность. Относительно себя самого познающий выстраивает систему дихотомичных шкал – качеств, полюса которых – крайности. Между ними он выделяет точку, где качеств нет, – это его собственная «точка обзора». Мир качеств выстраивается в этой системе координат, она как некое лекало накладывается на мир. Но таких точек обзора и систем координат столько же, сколько познающих. И потому результат познания одного познающего заведомо не конгруэнтен результату познания другого, а аналогичность выводов (которую часто ошибочно считают «объективной» оценкой) – своего рода компромисс, предполагающий, что познающие условились скорректировать собственные системы координат, о которых они по большому счету и понятия не имеют – пользуются ими, но не исследуют на достоверность.
Человек сам создает то, что назовет «истиной» или «ложью». Дихотомичность мира – искусственная система координат, делающая возможными операции над объектами. Фиксация причинно-следственных отношений – одна из таких операций. Реальность благодаря этой операции над объектом разворачивается так: если есть явление, значит, что-то является его причиной – «если… то…». В основе такого сопряжения могут быть любые признаки: последовательность (в собственном времени наблюдателя), сходство (ассоциация), чистое умозрение и так далее. Подобные закономерности всегда иллюзорны и не принадлежат реальности как таковой. В открытой системе, где все связано со всем и все является причиной всего, нет и не может быть жестких, стопроцентных причин и их следствий. Но мышление их создает, делая понятным непонятное, укладывая сущее в свой способ существования. Объяснение – иллюзия, но она снимает напряжение, возникающее от встречи с непонятным. Миф, а затем религия и естествознание, оформляя объяснения в законы, обеспечивали столь необходимую «всеобщую» систему координат, существование в которой придавало человеку силы, давало точку опоры при любых столкновениях с непонятным.
Так в процессе познания между познающим (человеком) и познаваемым (реальностью) выстраивается некая промежуточная зона. Она состоит из сигналов реальности, но «развернутых» по механизмам и из материалов, внесенных познающим. Именно с ней – с этой «промежуточной зоной» – мы и взаимодействуем, расширяя и обустраивая ее для себя, под себя, но не с реальностью как таковой. Так что основным препятствием к достоверному знанию является, как это ни парадоксально, наш способ существования. Нечто (реальность), неизвестное нам в своей сущности, оформляется нами (нашим познавательным устройством) в пространственно-временной континуум, насыщенный модальностями и интенсивностями.
Реальность предстает перед нами не в своем бытии, а в одеждах «содержательности». И здесь уже не избежать противоречий. Ошибки и недоразумения в подобной искусственной реальности неизбежны и закономерны. Привнесение – уже есть разделение, а мы привносим не только формы, но и смыслы, видимые (нами) закономерности, правила и порядок, все, что может произвести мышление из «следов» реальности по своей технологии анализа, синтеза, обобщения, абстракции и т. п. Но реальность от этих наших с ней операций не перестает быть реальностью и существовать по собственным законам. Если человек и чувствует себя «венцом» природы, где все открыто ему и понятно, это не делает его таковым. Если он был песчинкой в мироздании, то он ею и остается.
Что же нужно сделать, чтобы приблизиться к реальности настолько, насколько это вообще возможно? По-видимому, двигаться назад (а в каком-то смысле вперед), избавляя ее – реальность – от узоров содержательности. Мы знаем, что она – содержательность – результат нашего способа существования, а значит, нам следует искать способ мыслить элементами, «интеллектуальными конструктами», заведомо лишенными пространственности, временной протяженности (длительности), модальности (качества) и интенсивности. Разумеется, мы не можем в прямом смысле этого слова мыслить такими образами, потому что это противоречит самой логике нашего мышления, выстроенного на фундаменте нашего способа существования; иначе говоря, такие «элементы» не подходят для нашего мышления, которое определено нашим способом существования. Но мы можем «подразумевать» такую организацию реальности.
Что же мы получим при подобном запланированном нами «растворении» содержательности?
Целостность – как систему отношений между теми «единичными» ничто (в дальнейшем мы назовем эти «ничто» – «центрами»). Она лишена содержательности, а следовательно, не описывается понятиями (поскольку за ними, за понятиями, всегда стоят некие содержательные «образы»). И в качестве слова, определяющего эту целостность, мы используем слово «принцип».
Если мыслить целостность как открытую систему, как совокупность связей всего со всем, как неограниченное множество отношений всего в сущем, мы мыслим бессодержательный континуум, выполненный отношениями. Отношения – это то, что нарождается между сущностями вещей – их центрами.
Центр – это ничто. При этом, являясь ничем, он – то, что скрывает в себе сущность вещи, то, что делает эту вещь возможной. Мы оперируем принципами в сфере, очищенной от содержаний, поэтому «ничтойность» не есть «ничто», это – «ничто для познающего». «Ничто» не значит, что «этого» нет. Просто «это» не известно познающему, он ничего не может об «этом» знать, кроме факта его существования. Центр, являясь ничем, пребывает в отношениях с другими центрами. Однако при этом и сами эти отношения характеризуются «ничтойностью».
Может сложиться впечатление, что речь идет о неких абстракциях (принципы целостности, отношения и центра). Но вспомним, что мы привыкли иметь дело не с реальностью, а с «промежуточной зоной» между нами (познающими) и реальностью (познаваемым). Она выстроена нами, наполнена содержанием, привнесенным нами же, и развернута нашим же способом существования. А сама реальность всегда вне содержательности, всегда «по ту сторону», поскольку не зависит от нашего способа познания мира. Таким образом принципы новой методологии оказываются в каком-то смысле более реальными, нежели даже самые «объективные» факты и понятия.
Мышление сформировано в процессе работы с содержательными (для познающего) объектами, и в каком-то смысле оно не приемлет принципы. Ведь по сути принцип един: «центр», «отношение» и «целостность» являются друг другом. Центр целостен, отношения между центрами сами являются центрами (эта особенность отношения обозначается в новой методологии как принцип третьего). Целостность – это по сути и есть отношения. Соответственно, говоря о центре, мы имеем в виду и целостность, и центры. А в понятии «отношения» звучат и центры, и целостность. Так что мы вводим эти аспекты лишь с технологической целью, идем на необходимый компромисс с нашим мышлением, в противном случае нам не удастся развернуть реальность в несодержательных терминах. Но только в них и возможно иметь дело с подлинной реальностью, а не с «реальностью для нас».
Операции, которыми владеет наше мышление, неизбежно тяготеющее к дихотомичности, установлению причинно-следственных связей, неадекватны для описания «чистой», реальной реальности. Там, где нет ни времени, ни пространства, ни содержаний, нельзя рассчитывать ни на часы, ни на компас, ни на весы или другие «меры». В подобной ситуации нет никакой возможности противопоставить одно «ничто» другому. Но, оперируя принципами новой методологии, мы можем продвинуться по пути достоверного знания. И принципы – лишь инструменты такого познания, то есть искомой нами методологии науки, новой методологии.
Мир непрост. Мы все понимаем это или, по крайней мере, смутно догадываемся, а потому, сами того не замечая, стремимся думать сложно. Но чтобы научиться думать сложно, необходимо освоить «думание» простыми, понятными формами. Изучение языка начинается с букв и операций с ними, математика начинается с изучения цифр и операций с ними. Принципы – те же цифры. Что такое единица? Кто видел единицу? Мы знаем один предмет, один случай, одного человека, но единицу? То же и с принципами – их нет так же, как нет единицы, но в каком-то смысле они так же реальны, как и она.
Человек как предмет познания
Не секрет, что психиатры, психологи и психотерапевты работают (так или иначе) на одном «поле», о чем говорит хотя бы первый корень этих лингвистических образований (psyche (греч.) – душа). Причем психиатры занимаются далеко не только лечением (iatreia (греч.) – лечение), но и, например, теорией психических процессов (применительно к психопатологии), что единит их с психологами. Последние же все больше и больше стремятся оказывать психотерапевтическую помощь, то есть в каком-то смысле выполнять лечебную функцию. Но те, кто хотя бы понаслышке знаком с каждой из этих дисциплин, подтвердит, что найти более отличные друг от друга вещи вряд ли вообще представляется возможным. Вспомнить хотя бы то, как психиатры негодуют на иные «психофракции» за «психологизацию психопатологической картины», психотерапевты сетуют на психологов за «академизм», последние словно бы не замечают ни тех ни других. А нужна ли нам целостность в представлении о человеческой душе?.. Вероятно.
Что бы там ни говорили, то, что приходится называть «душой» (более удачного названия пока не предложено), – одна на всех: и в случае психического здоровья, и при наличии психологических проблем, и в неврозе, и при шизофрении. Другое дело, что всякий раз, в каждом из звеньев приведенной цепочки, мы имеем дело с качественно различными ее процессуальными состояниями, именно – качественно отличными, поскольку их невозможно выстроить в ряд количественного психодефекта (нарушения). Недаром же так активно сейчас пропагандируются и вводятся в практику многоосевые системы оценки психического состояния, которые, впрочем, лишь «симптоматически» нивелируют классификационный кризис.
Более того, мало кто будет оспаривать ту последовательность, в которой мы перечислили эти «состояния души», но никто не сможет сказать, каков единый критерий такой последовательности. Вопросу уровневой оценки психического здоровья уделяется в наши дни как никогда много внимания (Б.С. Фролов, 1982; С.Б. Семичов, 1986; С.В. Запускалов, Б.С. Положий, 1991), но вопрос «качественности» различий психического бытия так и не укладывается в существующие системы. Причем проблема разрозненности знаний о человеке настолько глубока, что даже единого подхода будет для ее разрешения недостаточно – яркий пример тому вся долгая история психоанализа. Нужна новая методология – первооснова научного знания. А необходимость совершенно по-новому, непредвзято взглянуть на это общее «поле» – более чем очевидна.
Психософия схожа с перечисленными дисциплинами, поскольку объемлет указанное «поле» и считает «душу человека» предметом своего изучения и сферой своей практической деятельности (что, впрочем, не исчерпывает ни ее возможностей, ни практической сферы, где она может быть применена). Но она – психософия – не дополнительна по своей сути к перечисленным дисциплинам, она качественно иная. Так, например два ребенка в одной семье несут одинаковый генетический материал – от одних родителей, однако они совершенно отличны друг от друга – они разные люди, так вот и то, что мы называем психософией, – это нечто весьма и весьма отличное от всего существующего, связанного с «душой».
Но и это еще не все, поскольку сама «душа», в представлении психософии, будет разительно отличаться от уже существующих трактовок этого термина – и должна отличаться, так как любое определение «души», существующее сейчас, обречено на указание частной ее стороны. Психософия же обращается к цельной психической сфере, иначе – целостной системе души. Система, согласно Платону, это нечто большее, нежели простая сумма ее частей, так что вряд ли стоит как-то уж очень сильно удивляться, если мы сможем наконец преодолеть то размежевание, которое сейчас случилось в семантике «души». А если сможем, то, надо признать, мы получим принципиально новый предмет для исследования.
Впрочем, поскольку нет, наверное, более многозначного и противоречивого в своем значении слова, нежели слово «душа», мы будем стараться в дальнейшем избегать его употребления. Зачем же в таком случае мы используем его сейчас? А используем мы его, по большей части, всего лишь с целью лингвистической поддержки понимания излагаемого материала. С другой же стороны, оговорка, что психософия является «наукой о душе человека», которую мы уже делали неоднократно[3], хотя и не отвечает в точности сути психософии, демонстрирует ту важную мысль, что психософия с одинаковым вниманием относится ко всему, что несет в себе это синтетическое в своей основе понятие. Если дать себе труд соединить все, что говорили и говорят о душе, то мы хоть и не получим желаемой целостности, но отчетливо увидим, что труда в эти исследования вложено много, а значит, есть и «база данных». Кто же от такого богатства в здравом рассудке откажется?
Так уж исторически сложилось – «душа» на равных паях разделена между наукой о психике, философией (в самом широком ее понимании, то есть включая творчество с эстетикой и философскую часть этики) и религией (с религиозной этикой). Если бы мы решились говорить лишь о первой составляющей этого триптиха, то неминуемо впали бы в невежество и кощунственную по отношению к целостности душевной сферы человека частность. Поэтому мы сейчас, перед тем как конкретизировать позицию психософии по этому вопросу, коснемся взглядов указанных «хозяев» этого понятия.
Проследить дорелигиозные корни «души» представляется делом более чем сложным, поэтому мы начнем с религии – как с самого древнего известного нам обладателя «души», как элемента системы. Впервые она появилась в греческой мифологии и ассоциировалась как с дыханием (ветром, вихрем призраков умерших, бабочкой, летящей птицей), так и с кровью, причем то и другое – самые что ни на есть яркие витальные символы. Напомним, что асфиксия вызывает самый выраженный, панический страх смерти, а истечение крови также, как известно, весьма впечатляет человека. Не случайно поэтому постепенно «душа» стала приобретать все большее и большее религиозное звучание. Конкретизировал этот аспект еврейский прагматизм под руку с христианским рационализмом: «Сотворив первого человека Адама из земли, Бог вдунул в него дыхание жизни, то есть душу, существо духовное и бессмертное (Быт. I, 26, 27). По смерти человека душа возвращается к Богу, Который дал ее (Еккл. XII, 7)».
Тогда-то и произошли те два раскола «души» («души» как понятия), которые и определи ее нынешнее незавидное состояние. Первое уже прозвучало – в отличие от греческой мифологии, где душа отождествлялась с живым существом, с отдельными функциями организма и его частями[4], произошло отделение физического тела от души – «земля» и «дыхание жизни», «Душа еще жива. Тело умерло»[5]. Второй раскол оказался еще более теологизирован – «душа» как понятие была разделена теперь на «человеческую душу» и просто «Дух» (который употребляется в Священном Писании в самых различных значениях) или, что более важно, – на «Святой Дух». И если первый раскол предупредил разделение медицины на соматическую и психическую, печальные плоды которого мы сейчас активно пожинаем, то второй предупредил разделение религиозного знания и философии, отчего потеряли и те и другие. Последнее в меньшей степени коснулось отечественной философии, которая не случайно носит название «религиозной»; учитывая это, посмотрим на «странствие души» в ее системах.
Понятие «души» крайне имплицитно, а значит – не определено, значение его невыразимо, но зато подразумеваемо, и именно поэтому Иван Ильин, например, полагает возможным определять душу через нее саму и говорит, что «духовная личность» – это утверждение своего духовного достоинства и свободы.[6] Есть и более конкретные высказывания о душе, так, например, Вячеслав Иванов обмолвился, что душа должна пониматься как плотный, непроницаемый, нерасчленяемый сгусток жизненной энергии, который назвал себя «я» и «цельною личностью». Однако у «современной души», по его мнению, он, этот сгусток, расчленен, что, впрочем, по мнению автора, служит почвой для новых ростков религиозного мировосприятия и творчества.[7] Да, второе после религии место в разговоре о душе всегда занимает творчество, третье – экзистенциальные категории. Причем если религия контекстуально чаще всего сочетается с творчеством, то последнее с указанными категориями: «Душа есть страсть. И отсюда отдаленно и высоко: „Аз есьм огонь поедающий“ (Бог о Себе в Библии). Отсюда же: талант нарастает, когда нарастает страсть. Талант есть страсть».[8]
Интересное звучание понятие «душа» приобретает в философской системе Льва Карсавина. И этот интерес продиктован не только самой оригинальной философией автора, но еще и тем, что в творчестве Льва Карсавина соединились все три ветви «души» – психическая, философская и религиозная, заручившись общим стволом. Но сделать это в отсутствие единой и технологичной методологии, а также специального языка оказалось крайне сложно, что вызвало в адрес философа обильную критику, а самого Л.П. Карсавина ввергло в тяжелую депрессию. Но все же он блистательно и эмоционально воссоединяет семантику «души», преодолевая те два раскола, которые мы представили выше.
Вот таким образом преодолевается первый: «В целом совокупность восприятий мною моей телесности как „изнутри“, так и „извне“, есть „мое“, „я сам“, „моя душа“, хотя и в соотнесенности и слиянности с инобытным. Попытайтесь выкинуть из вашей „души“ все связанное с вашей телесностью и посмотрите, что у вас останется. – Ничего не останется, если только вы будете выполнять предложенную вам задачу добросовестно и внимательно. Вы, может быть, скажете, что останется „чистое мышление“. – Как бы не так! Разве возможно мышление без самосознания, а самосознание без телесных качествований? При самом резком различении „души“ и „тела“ никак нельзя отрицать, что они – два момента одного и того же человека; и невозможно мыслить „душу“ как нечто в себе замкнутое, определенное и отделенное. Вместе с этим падает гипотеза психофизического параллелизма, хотя совсем еще не торжествует не менее безосновательная гипотеза причинного взаимодействия души и тела».[9]
А вот таким образом – второй: «Совершенное мое „я“ (моя „душа“) – конкретное всеединство всех его качествований, прошлых, настоящих и будущих: доведенное до конца (то есть не сущее) их множество, упорядоченное их множество в их становлении-погибании и их единство. Оно упирается во всеединое „я“ космоса (в „я“ Адама), будучи одною из его индивидуализациий, а через него и в нем обосновано в Я Божественном, существуя и существуя, как „я“, только через причастие к Нему».[10]
Вместе с тем Лев Карсавин борется внутри себя с двумя не вполне возможно осознанными тенденциями: с одной стороны, синтезировать имеющееся, а с другой – создать новое. И это существенно, поскольку действительно возможны два пути. Можно попытаться реанимировать части, сложить их в целое в расчете на то, что разбитый хрусталь вновь обретет прежнее звучание. Но ведь этого не бывает, по этому поводу вспоминается замечательное высказывание Мераба Мамардашвили, который не без основания полагал, что синтез после проведенного анализа не восстанавливает былой целостности, поскольку последний уничтожает многие прежние связи. Но можно ли построить целостность, создать новое понятие «души», если затруднительна интеграция? Представление об открытых и закрытых системах с очевидностью свидетельствует о малой перспективности этого мероприятия. Открытую систему, а значит, и естественную целостность, можно только увидеть, «ухватить», и в этом как раз таки и заключается второй путь: найти новое понимание «души», а это значит – найти новые стропила понимания для сущности «души» (реальности души) в нашем сознании, так как старые прохудились донельзя да вдобавок растянуты «соседями» по «дачным участкам».
Итак, каков же предмет психософии?
Наше сознание всегда стремится к тому, чтобы ему «все было понятно», мы не любим неопределенности. Хотя само по себе это не так уж и плохо, но вся история человечества доказывает, что не бывает окончательных решений – ни в космологии, ни в науке о микромире, ни в том, что находится между ними. Когда-то ученые серьезно полагали, что характер человека и его темперамент зависят от пропорционального соотношения в нем крови, желчи и слизи, даже не догадываясь о том, что субстратом психических процессов является мозг. Так и сегодня мы в чем-то совершенно убеждены, а через какой-то период времени с большой долей вероятности это окажется иллюзией. Так уж срабатывают механизмы нашего сознания, которое, не дожидаясь окончательного, истинного ответа, закрывает систему с помощью каких-то «выявленных» закономерностей и определений, отсекая тем самым себя от изучения настоящей, подлинной реальности. А механизмам, по которым это происходит, нет дела до достоверности, подобно тому как машине в подсобном цехе продуктового магазина абсолютно все равно, какой продукт она упаковывает – свежий или подгнивший. Тем более что и критериев для определения достоверности «плодов» познания у нас немного.
И предмет науки, таким образом, мы не имеем права определять как вещь, некое состояние, факт, локализованный во времени и пространстве, иначе система этой науки закроется, словно мидия, и будет производить на свет не открытия, а лишь спекулятивный материал. Получается, что «душу», какой ее принято представлять, мы просто не можем избрать в качестве «предмета изучения» для психософии. Более того, ее и нет таковой, какой она обычно представляется, по причинам, о которых мы уже говорили, – частность и раздробленность представления о ней. Обычно полагают, что «душа» отлична от «душевных явлений», а то, с чем мы сталкиваемся, – это только «душевные явления», «душа» же отсюда непознаваема. Но насколько вообще правомерно разделять в этом вопросе «душу» и «душевные явления»? Понятно, что имманентно присущее человеку стремление к определению причинно-следственности происходящего требует такой дефиниции. Однако что тогда, хотя бы и косвенно, доказывает то, что такое разделение возможно? Утверждение, что раз мы видим явление, значит, где-то есть и его причина (подчеркиваем – в данной дефиниции), равносильно положению о том, что раз человек видит, значит, его кто-то этому научил.
Нет, гипотетическое предположение души как а-ля-вещественного факта – состояния (пусть даже «идеального» по своей природе) – непозволительная и губительная для науки роскошь. Но чем, в таком случае, все эти люди – с корнем «психо-» в наименовании своей профессии – занимаются? Расхожими стали теперь слова «душевная сфера», «душевная жизнь». Что ж, хорошо, но давайте все-таки попробуем определиться.
Еще Семен Франк затеял замечательную свою науку о «душевной жизни», назвав это учение «философской психологией». Вне всякого сомнения, ход его мысли совершенно верен, поскольку изучается то, что есть (он назвал это «природой души»), а не то, что подсказывает формальная логика, – выхолощенные от «непознаваемой» «души» «познаваемые» «душевные явления». И метод его исследования также достаточно удачен, поскольку естественен, а не надуман: «самонаблюдение в подлинном смысле, как живое знание».[11] Однако же есть одно «но»: не выделив «душу» в качестве предмета познания, он дает ей определение (не лучшее, но не в этом дело); этим он разделил мир и, что самое главное, само знание на «знание о душе» и на «знание не о душе», на чем методологически честное исследование следовало бы завершить.
Что мы можем знать, кроме психических фактов или фактов, данных нам через психическое? Вопрос, разумеется, из разряда как банальных, так и риторических, но не будем спешить ставить на него эдакий штамп – мол, «субъективизм», «критический идеализм» и т. п. Ответив на вопрос отрицательно: «Ничего не можем знать», – мы не отрицаем тем самым существования внешнего, с одной стороны, и не гиперболизируем значения психического, с другой. Ведь если мы считаем, что «ходим ногами», это вовсе не ущемляет «достоинства» нервной системы, ответственной за этот процесс. Но при подобной постановке вопроса мы получаем возможность правильно понять то, что находится вне нас, и то, что есть мы. А мы – это «душевная сфера», таким образом, это все, с чем мы входим во взаимодействие. Но разве это не так? Разумеется, сразу становится понятно, что и «душой» все это не является и что даже злополучным (в смысле гибельности умопостроений) «душевным явлением» это назвать нельзя. Это опыт, но не «естественный», как опять же принято думать, а психический. А это, вместе с тем и в свою очередь, избавляет нас от достаточно сомнительного метода исследования – «самопознания».
Итак, предмет психософии – это психологический опыт, которым является все, что дано нам непосредственно. Психософия предлагает простой, емкий, а главное – естественный путь построения научного знания, основа которого заключается в использовании лишь первозданного психологического опыта, который не успел еще видоизмениться в интеллектуализированных системах уже наличествующего в сознании опыта и знаний, ее кредо: «психологический опыт – такой, какой он есть». Поскольку все, чем мы обладаем, – это только наш психологический опыт хотя бы потому, что о чем бы мы ни говорили, что бы ни изучали, что бы ни представляли – это будет развернуто в координатах времени, пространства, модальности и интенсивности, что обеспечено мозгом и чуждо всей неживой и большей части живой природы.
Психологический опыт неограничен и поэтому не ограничивает и систему науки; он, кроме того, процессуален, так как существует только в момент непосредственного взаимодействия поставщика информации и воспринимающего – что, как уже отмечалось, крайне важно, поскольку не допускает ни языковых, ни интеллектуальных спекуляций.
Способ существования человека
В завершение этой главы следует обратиться к феномену способа существования. Если представить его максимально просто, то можно выразить его следующим образом: все, что существует, существует как-то, это «как-то» и есть способ существования данной вещи. Иными словами, всякая вещь имеет какой-то свой собственный способ существования, то, что делает возможным ее существование, то, без чего она невозможна. Как может существовать вещь, которая не имеет механизма или, можно еще сказать, координат своего существования? Важность тех систем, которые являются способом существования для данной вещи, невозможно переоценить.
Рассматривая человека в данном аспекте, мы сразу замечаем, что он немыслим вне времени и пространства. И действительно, организация нервной системы человека такова, что, с одной стороны, через огромный рецепторный аппарат (в том числе вестибулярный анализатор, отолитовый аппарат и т. д.), сложную проводящую систему, множество нервных центров, развитые чувства «локализации», «стереогнозии», «мышечно-суставного чувства» и проч. и проч. человек разворачивает «мир для себя» в пространстве. С другой стороны, память разворачивает для него мир во времени.
И время, и пространство – это те вещи, в существовании которых мы бы никогда не усомнились, не разочаруй нас микромир (своим принципом дополнительности, двунаправленными во времени процессами рассеивания), поскольку они – условие, способ нашего существования, мы не мыслим вне времени и пространства. И именно поэтому мы позволяем себе безапелляционно утверждать, что «время течет из прошлого через настоящее в будущее», «пространство трехмерно» и другие подобные вещи. Все это способ нашего с вами существования, а в мире как таковом нет ни времени, ни пространства. Но можем ли мы сомневаться в том, что мы ощущаем, видим, знаем? А разве отсутствие сомнения – критерий достоверности? На все эти вопросы отвечает принцип способа существования.
Координатами времени и пространства способ существования человека, конечно же, не исчерпывается, есть еще модальность, которая раскрашивает мир, позволяет нам его видеть, слышать, ощущать физически. Рядом с ней всегда следует интенсивность, которая заставляет нас то испытывать боль, то нежное прикосновение, то грохот, то мелодию. Фактически время, пространство, модальность и интенсивность – базовая шкала координат, необходимая в качестве способа существования психики (физиологии нервной деятельности). Но одной «нервной деятельностью» психическое, разумеется, не исчерпывается, в открытой системе человека есть еще гносеологический и личностный вектора.
Способ существования есть у всякой вещи. Гносеологическая структура человека, как мы показали в «Философии психологии»,[12] иерархична.
Во-первых, это субъектность, во-вторых, субсубъектность, в-третьих, трисубъектность. Для субъектности, то есть для самого элементарного факта познания, кроме самого субъекта (познающего), необходима информация. Для субсубъектности необходимо самоощущение себя субсубъектом (так называемое «самополагание») даже без выраженной рефлексии этого ощущения, для него достаточно всего двух элементов: отфиксировать факт отношения с самим собой (я и пища) и фиксировать также некоторые связи вне себя (например, для собаки хозяин – это не просто человек, это человек, связанный с пищей). Фиксируя внешние связи, субсубъект тем самым полагается на самого себя, ручается перед самим собой за достоверность своего суждения, но заметим: положившись на это суждение, сам он фактически выпадает из этой системы – от него уже ничто не зависит, это создает возможность допущений и ошибок.
Для существования трисубъектности нужно еще кое-что, чем и заручился человек: он создал мир идей. То, что было для субсубъекта лишь связью между двумя реально существующими вещами, для три-субъекта стало самостоятельной вещью. А самостоятельная вещь, пусть даже не существующая в действительности, психологически наделяется активностью и таким образом фактически становится психологически активной, то есть активной в сфере психической жизни.
Количество вещей, «окружающих» трисубъект, увеличилось таким образом во множество раз, что и потенцировало его потрясающее гносеологическое движение. С другой стороны, они, эти пустые сами по себе вещи, существенно усложняют мышление, то есть делают его фактически автономным, свободным относительно данности, мышлением «самим по себе». Итак, способ существования нашей с вами гносеологии – это информация, самоощущение и мир идей.
Но и это еще не все. Если мы сгруппируем информацию, самоощущение и идеи, то получим недееспособный хаотический синтез. Четвертое необходимое звено – избирательность. Познавая, мы выхватываем только часть (заметим: меньшую часть имеющихся и возможных связей), а у субсубъекта и, конечно же, у трисубъекта их неограниченное множество, поэтому механизм гештальтирования оказывается жизненно необходим для осуществляемого нами познания. Именно целенаправленная работа с этим механизмом позволяет человеку развивать сложные формы познания, познавать, кроме значения, смысл и суть рассматриваемых вещей. А это приводит к возможности расширения спектра «модальностей», которые могут проявляться уже только и именно личностью, которая создает необходимый «ареал», или среду, для таковых.
Для человека модальностными характеристиками обладают теперь не только звуковые колебания среды, электромагнитные волны и т. п., он идет значительно дальше, он ощущает (воспринимает) широкие смысловые подтексты и приближается, причем также – через ощущение, к сущности рассматриваемых явлений (процессов и отношений). Но как это возможно, ведь мы не имеем никаких специфических рецепторов такого «ощущения»? Проблема имеет убедительное решение: само по себе понятие «ощущения» личностно, ощущает всегда кто-то, именно в этом секрет нашей способности ощущать сущности. Поскольку то, чем мы сами обладаем, дает нам знать о себе, для этого не нужны «рецепторы». Последние нужны для того, чтобы уловить то, что находится вне нас, а не внутри (относительно нашего гносеологического устройства), следовательно, если мы можем ощущать собственную сущность, значит, это ощущение и не заказано для иной сущности.
Интересно по этому поводу высказывается С. Л. Франк: «То, что называется „вчувствованием“, – особое сознание внешней мне по бытию, но сходной со мной по содержанию реальности; сознание, осуществляемое в чувствах, которые я при этом испытываю как „не мои“, а навязанные мне „извне“, может выходить за пределы моего „я“ не как иллюзия, не как состояние моего собственного „я“, хотя и чужеродное мне, а как способность познавать другую, внешнюю мне реальность, только при условии, что соответствующая реальность мне как-либо уже дана вне и до всякого „вчувствования“ в нее. Я могу, конечно, „вчувствоваться“ в чужие душевные состояния, но лишь при условии, что я уже знаю, что таковые, а тем самым „чужие души“ или „сознания“ вообще существуют».[13]
Другими словами, через сродство сущностей ощущение сущности другого становится возможным. Но с одним условием: наша сущность должна войти в непосредственный контакт с сущностью познаваемого. Только тогда последняя станет нам доступна (и именно этому служат индивидуальные отношения, но об этом позже). И Франк рассуждает дальше: «Дело идет, напротив, о реальности, которая становится мне явной, открывается мне как таковая именно в силу того, что она направляется на меня и затрагивает меня как луч живой динамической силы, более того, о реальности, которую я не могу иметь иначе чем вступив с ней, как с чем-то по существу родственным мне, в некое несказанное общение… Мы здесь снова наталкиваемся на тот основоположный факт (опрокидывающий все рационалистические теории знания), что мы с полной достоверностью и непосредственной очевидностью знаем о существовании того, содержание чего от нас – по крайней мере непосредственно – скрыто».[14]
Здесь, правда, рождается чрезвычайная методическая сложность, порожденная трисубъективностью. Мы можем «ощущать» и то, что есть (например, самоощущение), и то, чего нет (например, чью-то благорасположенность, через механизм проекции), хотя об ощущении мы имеем право говорить только в первом случае, во втором – это мнимо-ощущение. Но как отличить? Технология такого познания, с критериями распознания ощущения и мнимо-ощущения, отражена в двух основных методах познания, описанных психософией: психософическом методе и методе принципа,[15] причем только если их использовать со знанием, полученным при изучении теории эйдесизма.[16] Оба указанных познавательных метода так или иначе используются всяким познающим человеком, но отсутствие осознания и непонимание механизма этих на самом деле совершенно естественных для трисубъекта познавательных стратегий приводит к тому, что мы чаще и больше ошибаемся, нежели находим…
Познание в системе личности, которая рассматривается открытой системой психологии как третья, в определенном смысле результирующая подсистема, невозможно без использования этих новых модальностных элементов. Другими словами, изучая личность человека, равно как и занимаясь самопознанием, мы должны вычленять системы (с определением строго специфичных критериев), которые бы лежали на осях ново-модальностных характеристик, то есть в тех координатах, которые создает человек непосредственно в процессе своей познавательной и социальной активности – в процесс ощущения им эйдосов. То есть мы должны выявить и определить то, что делает человека человеком, Человеком – с большой буквы. Именно поэтому мы так высоко ценим эйдос.
Если условный «материалист» опирается в своем познании лишь на цвет, геометрическую форму, время в произвольно выбранной им системе счета и т. п., то чего стоят его заключения, если учесть, что он не оперирует в своем мышлении (где он и проводит все манипуляции) ни цветом, ни формой, ни временем рассматриваемой данности? «Ум, – пишет Джидду Кришнамурти, – имеет дело только со своими собственными проекциями, лишь с тем, что исходит от него самого, он не имеет никакого отношения к тому, что вне его».[17] Условный «идеалист», оседлавший гносеологические уловки, в этом смысле оказывает нашему «материалисту» хорошую услугу. По этому поводу Л. Витгенштейн как-то заметил: «Математик – изобретатель, а не открыватель».[18] Впрочем, за «материалистом» дело не стало, и он, в свою очередь, поддерживает хрупкое здание «идеалиста». По этому поводу, но уже в другом месте Л. Витгенштейн говорит: «Именно употребление вне области математики, то есть значение знаков (их отнесенность к объектам), делает знаковую игру математикой».[19] Действительно, «идеалист» оперирует идеями в сфере чистых идей и с помощью же идей, но вот каковы отношения их к объективной данности? Чего стоит идея, не имеющая субстрата с теми полномочиями, на которые она претендует?
Чем же, в таком случае, для нас является эйдос? Эйдос – это то, что рождается непосредственно в отношении с реально существующей данностью, с тем, что, существуя, дает нам знать о себе, при использовании нами всего спектра возможностей, предоставляемых способом существования целостной открытой системы человека, опосредованно именно через подсистему личности. Именно сложная структура личности позволяет таким образом воспринимать вещь, что в результате мы имеем максимально полную многоосевую систему изучаемого нами предмета. Более того, получившаяся таким образом «вещь в восприятии» одинаково родственна как нам, так и ей самой, поскольку только в таком случае мы предоставляем возможность для живого соучастия нашей процессуальности в процессуальности рассматриваемой вещи.
Иными словами, все возможности нашего непосредственного участия в существе дела используются нами в мире эйдетической реальности, где данность – не просто утопленный в себе предмет и не бестелесная идея, произвольно и бестактно пользующаяся своей пластичностью и податливостью, а родственное нашему существу представительство существующего благодаря сущностности этих отношений.
Но принадлежность к эйдетической реальности – это уже отдельный вопрос, и личность, служащая трамплином, более прозаична для ее достижения. Процесс развития личности ведет к эйдесизму, но способ ее существования скорее является препятствием к достижению этой реальности. Каков же он? Личность, трудолюбиво сформированная социумом, – это хороший, но конвейерный продукт, а «ручная работа» только предстоит, и ее проделывает сама личность. Если эта работа будет успешной, то, в первую очередь, это скажется на способе существования, заложенном социумом, а это роли, отождествление, двойственность, социальное одиночество…
Все наше поведение – это роли. Конечно, мы не артисты и по большей части мы не наигрываем, но мы разные в зависимости от ситуации, группы людей, в которой находимся. Даже мимолетное настроение и то сказывается на целом спектре наших отношений и, конечно же, меняет поведение. А если мы такие разные, будучи одними и теми же, разве не логично воспользоваться понятием «роли»? Тем более что, каково бы ни было наше настроение, личность, добротно взращенная социумом, не позволит себе хулиганить в общественном месте, будет чопорно вести себя в театре и суде, с долей услужливости и повышенным уважением – при начальнике и т. п. То есть, другими словами, мы выполняем множество социальных обрядов, даже не замечая этого. Это касается и работы, и семьи, и досуга, и секса, и всего остального. А если личность где-то позволит себе лишку, то засмущается, застыдится, а может быть, и почувствует вину.
«Надо поступать так-то и так-то» – для нас это естественно и ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения. Более того, многие из этих «интроектов», как назвал бы их Ф. Пёрлз, не осознаются нами как внешне усвоенные, приобретенные, мы свято уверены, что они действительно наши. В этом, впрочем, нет ничего странного, ведь изначально мы несем в себе массу тенденций. Например, дарвиновское «чувство общности», или, иначе, адлеровский «социальный интерес». Но это не какие-то содержательно оформленные константы. Изначально это свободные интенции, просто чувство общности, просто социальный интерес. А вот воспитание позволяет их оформить содержательно, причем так, как это нужно воспитателям.
Можем ли мы после всего этого сказать, что наше поведение не исходит от нас самих? Вряд ли, ведь оно исходит, но мы приписываем теперь себе и содержание наших поступков («я иначе не мог поступить»), которое вероломно поселилось на добродушных, доверчивых и ничего не подозревающих тенденциях. Вместе с тем это содержание лишает нас адекватности, а в результате и дееспособной адаптивности. И виной всему – наша способность отождествляться с тем, чем мы не являемся, хотя личность без этого была бы невозможна.
Отождествление – один из самых непростых вопросов. Он более чем личностен, в нем заложен «инстинкт воссоединения». Большинство психологических проблем содержат в своем основании сложное отождествление с тем, что не является действительной ценностью, но считается таковой по причине отождествления себя (или чего-то иного, но действительно ценного) с нею. Вопросом отождествления много и успешно занималась психосинтетическая теория, хотя, к сожалению, не столь многопланово, как бы того хотелось. Желание цельности – знакомо каждому из нас. «Вот это цельный человек», – говорим мы, и в этом высказывании заключен весь идеал человека. Но трагичность отождествления заключается как раз в том, что с его помощью невозможно достичь искомой цельности. Действительная цельность – это системность, причем открыто-системность, она всегда рождается изнутри наружу, но не способом простого суммирования внешнего. Последнее может быть или целенаправленным, или бесцельным. В первом случае мы построим закрытую, недееспособную систему, во втором – просто хаотическую сумму.
Феномен ролей, речь да и некоторые другие социальные приобретения сказываются на том, что мы теряем свое единство, мы двойственны. То, что мы всегда разные, при том что мы – это всегда мы, уже достаточное для того основание. Но этим причина нашей двойственности не исчерпывается. Роли часто противоречат друг другу: где-то мы – такие, а где-то – совершенно другие. Борьба чувств и мотивов для нас совершенно естественна, подчас мы сами с собой спорим, сами пред собой оправдываемся, сами себя в чем-то убеждаем. Но это не мы, а роли говорят в нас, точнее, их полномочные представители в какой-то другой, третьей роли, в которой мы в данный момент находимся.
А что же речь?.. Речь – темная лошадка. Наше мышление диалогично, и это заставляет нас считать: то, что мы думаем, может быть легко понято другими, если мы сами сформулируем это в словах. Это, мягко говоря, немного не так. Но наша убежденность в этом основательна! Ведь мы-то сами понимаем себя, но еще до того, как облекаем свою идею в слова. В этом-то и загвоздка! Мы сначала способны лишь ощутить то, что родилось в нас, «схватить» таким образом суть мысли (мы не мыслим знаками), а сразу же вслед за этим мы непременно формулируем свою мысль и, уже сформулированной, прекрасно понимаем ее. Но на самом деле в нас говорит наше дословесное понимание, та пойманная за хвост суть мысли! Вот поэтому-то мы и не можем, не в силах проверить, проконтролировать понятность своей собственной мысли для другого. Но сомневаться в том, что его мысль изложена понятно, для говорящего по крайней мере странно, ведь сам-то он ее понимает. Итак, двойственность – есть непременный элемент способа существования личности.
Как мы видим, один человек чисто технически не способен полностью понять другого. Не говоря уже о том, что, даже если очень захотеть, всего не расскажешь, а за другого не переживешь и не почувствуешь, ведь у каждого человека свои установки, свой опыт, свои пристрастия. Короче говоря, личности не бывает без одиночества («социального одиночества»). Социальное одиночество – достаточно широкое понятие. Мы ощущаем одиночество, если нас не понимают так, как бы нам того хотелось, а ведь это встречается чуть не на каждом шагу и связано с неконгруэнтностью, отличностью индивидуальной реальности всякой личности. Другими словами, гносеологическое устройство человека (а именно оно формирует роли, составляющие личность) является виной тому, что личность переживает одиночество в качестве не просто свойства, а настоящего способа существования.
Нас «отлучили в одиночество» еще в раннем детстве, когда мама впервые сказала нам «нет» – тогда, когда она сказала нам «надо» или «нельзя», а мы так хотели… Это настолько сильное и глубокое противоречие, что его трудно не только принять, но и попросту осознать. Так было в детстве, но и теперь так же, поскольку мы и не помним другого, осталось лишь одиночество. То, что было единым и сверкающим, как кувшин из горного хрусталя, разбилось в тот миг на сотню осколков. С тех пор мы ищем тот «рай», из которого нас «изгнали».
В современном шумном и беснующемся мире только сумасшедший не почувствует себя одиноким. Формальность и множественность наших отношений толкают человека к пропасти одиночества, отторгая от мира. Человек урбанизированного мира – зол. «Всему есть мера», – говорит он, поскольку мир давит на него, а он скрывается от этого мира. Отшельничество не делает его счастливым, напротив, он жаждет тепла и поддержки еще больше, нежели человек, живущий в общине тысячу лет назад. Но на какую поддержку и помощь мы можем рассчитывать, находясь за бетонными стенами нами же восстановленного одиночества?..
Одиночество – это своего рода perpetuum mobile, оно себя само воспроизводит, провоцирует и продвигает…
Человеку чуждо одиночество, и он злится на мир, который вынуждает его к одиночеству, обрек на эти страдания. Но ведь именно в этом мире (и только в нем) есть то, что может спасти нас от нашего одиночества. Если же мы дадим слабину и позволим себе разозлиться на мир за наше страдание, одиночество никогда уже не покинет нас, поскольку злое одиночество, как и злая собака, охраняющая хозяйский двор, никогда никого не подпустит к «запретной зоне». Одиночество, напротив, должно стимулировать нас к открытости, только тогда от него будет толк, поскольку не будет более его самого. И именно оно, являясь противоречием, укорененным в самом способе существования личности, ведет к изменениям, которые и позволяют личности переродиться из общественного продукта в индивидуальность.
Таким образом, совокупный способ существования человека (здесь мы представили только часть наиболее значимых позиций) есть и препятствие на пути развития личности, но и, в каком-то смысле, средство достижения результатов в этом непростом деле.
Глава вторая. Психотерапия и развитие личности
Поле психотерапии
Психотерапия давно, если не сразу перестала быть только терапевтическим методом. Она избрала предметом своего исследования, в первую очередь, сам феномен человека, а не его болезнь; точнее даже было бы сказать, что она рассматривала болезнь как частное проявление человеческого. Но данные явления – суть разного порядка и, что самое существенное, развиваются по отличным друг от друга механизмам. Такое смешение не могло не привести к существенным противоречиям. Болезненные явления и вопросы мировоззренческого порядка могут рассматриваться во взаимосвязи, но полагать их структурное единство неправомерно.
Вместе с тем, не разработав должным образом терапевтическую практику, основатели психотерапии быстро перешли к мировоззрению и стали рассуждать о феномене человека. Впрочем, это было бы не так печально, если бы не возникла весьма двусмысленная ситуация. Получается, что теперь, взяв пациента на лечение, психотерапевт под этим предлогом выступает в роли своего рода «гуру», а пациент, заинтересованный в избавлении от того или иного симптома, получает вместо необходимого ему лечения (но под этой маркой) – новые идеологические конструкты, оказываясь заложником той или иной теории, а иногда даже и секты. С другой стороны, лица, которые не страдают серьезными психическими расстройствами, но действительно нуждаются в помощи, необходимой для преодоления кризисов своего личностного развития, оказываются в общей массе невротиков и вместо развития «лечатся».
Зигмунд Фрейд, например, отождествил всю психическую сферу человека с понятием личности, что, конечно, далеко не так. Языковая игра, порожденная отсутствием ясного понимания понятия «личности» как результата частного процесса социализации, привела к тому, что бессознательное было определено им через противопоставление «социального» и «асоциального»,[20] что неправомерно сузило понятие бессознательного. Вопрос о бессознательном куда сложнее психоаналитической трактовки. Если бессознательное гомогенно, а это так, поскольку оно не гештальтированно, то мы имеем дело с тем, что не является собственно продолжением (или началом) сознательного, но непосредственно «прилежит» к нему и, видимо, несет определенные его качества, что, впрочем, тоже далеко не очевидно.
Следующую экспансию в этом направлении проделал Карл Юнг, который насытил бессознательное некими содержательными «архетипическими» структурами и декларировал осознание этих комплексов как процесс развития личности, что не может не вызывать определенного удивления. Конечно, бессознательное имманентно целостно, гомогенно и неотграниченно. Все, что мы видим как некое «нарушение» функционирования бессознательного, – это нарушение данной целостности. Теория принципов наглядно демонстрирует, что целостность нарушается двумя механизмами – попытками разделить ее (например, мы усваиваем, что «это» можно делать, а «это» нельзя, поскольку «оно» аморально) и отграничить (например, когда в представлении, в идее мы уже достигли результата, отождествились с ним, а на деле этого не происходит, мы «отграничиваемся» от реальности). Таким образом, становится понятно, что вопрос – в восстановлении этой целостности, ее сохранении, удержании, а не о новых интеллектуальных построениях «около предмета», чем так основательно занимается психоанализ.
Все сказанное позволяет нам усомниться и в основном психотерапевтическом методе психоанализа, а именно в феномене терапевтической «интерпретации». Обычно, рассуждая теоретически, говорят об «анализе», проводимом в процессе психоаналитической терапии. Однако на самом деле происходит не столько «анализ» полученного на кушетке материала, сколько его «интерпретация»,[21] а это разные вещи. Да и как иначе можно назвать процесс увязывания чрезвычайно разрозненного индивидуального психологического материала под эгидой одной теоретической концепции? Вопрос же о достоверности интерпретации – один из самых сложных в методологическом смысле.
Интерпретация проистекает из содержания мировоззренческого багажа, а не от некой эфемерной «объективности» наших суждений. Вот мы читаем: «Результаты исследований Вюрцбургской школы противоречат теории отражения и были подвергнуты глубокой критике советских ученых…» – чисто абстрактный конструкт (теория отражения) позволяет отбросить не только выводы, но и данные реальных исследований! Другой важный инструмент интерпретативной дифференцировки – это наш собственный опыт (знание о пережитом). Вряд ли когда-то сойдутся в своих выводах психиатр, переживший экспериментальный психоз, и психиатр, не имевший такого опыта. В науке не существует просто данных, точно так же как и в психике нет «просто информации». Что в таком случае «интерпретация»? А что останется от психоанализа, если он откажется от «интерпретации»?






