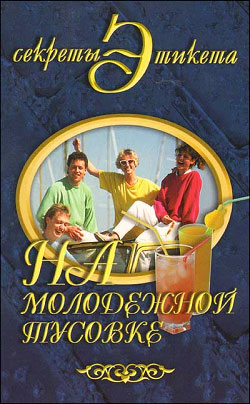Мои враги (сборник) Токарева Виктория

– А сколько ему лет? – спросила я.
– Семнадцать. По человеческому исчислению больше ста.
– Откуда вы знаете?
– Это все знают. Один к семи.
Я быстро сосчитала в уме возраст своего Фомы. Ему пять лет. Значит, по человеческим меркам, пятью семь – тридцать пять. Мужчина в самом расцвете.
Фома осторожно стал обходить собаку в надежде познакомиться и пообщаться, поиграть, например. Но от собаки исходил холод, запах смерти, запах исхода. Она даже не обернулась на Фому. Жизнь была ей неинтересна. Собака устала окончательно и бесповоротно.
Фома это понял и деликатно отошел. Потом отбежал подальше. Ему хотелось вырваться из этого пространства скорби.
– Вы снимаете дачу? – спросила я. – Или вы здесь живете?
– Мы снимаем дачу для Гермеса. И живем с ним, – сказал человек. – У моей жены тоже артроз, колени болят. У них с Гермесом одни болезни.
Я сочувственно покивала. Мне хотелось глубоко вздохнуть.
Я отошла и только после этого глубоко вздохнула.
Я шла и думала: неужели когда-нибудь... Потом решила не додумывать эту мысль до конца. Зачем думать раньше времени?
У Маршака есть строчки: «Смерть пришла, как дело...» и жизнью завладела.
Приходит срок. Программа переключается на свою заключительную фазу. Человек, равно как и собака, живет по новой программе. И это не страшно. Смерть приходит, как дело.
Если бы можно было заглянуть за черту. Может быть, ТАМ хорошо, и жалеть надо тех, кто остается...
* * *
Кого я еще люблю?
Свою внучку Сашу. Моя внучка – это я, начатая сначала. Не сегодняшняя, измызганная жизнью. А та, которой меня задумал Бог.
Саша учится в частной школе. Я иногда хожу на их школьные торжества, посвященные то ли дню рождения школы, то ли Новому году.
После торжественной части состоится вручение грамот. Потом – концерт, как в прошлые времена.
На сцене танцует армянка Ануш, двенадцатилетняя девочка. Она в купальнике и в газовом платке, повязанном на талии. Глядя на нее, у меня рождаются мысли о Шехерезаде и садах Семирамиды. Ануш – сама красота. Гений чистой красоты. Ничего лишнего. Черные как ночь глаза. Черные, как плотный шелк, волосы. Струящиеся руки, высокая шея.
Ануш – движется, струится, как живая музыка. Она, конечно, знает, что она – красавица. И зал это тоже понимает. Все смотрят завороженно. Красота завораживает.
Моя внучка неотрывно смотрит исподлобья. Потом мрачно спрашивает:
– Тебе нравится Ануш?
– Нет! – тут же отзываюсь я.
Если я скажу «нравится», Саша воспримет это как предательство с моей стороны. Точная схема «Николай – Джек». В присутствии Саши я не должна восхищаться посторонними.
– Не нравится, – подтверждаю я.
– Почему? – недоверчиво спрашивает Саша.
– Понимаешь... Белый цвет самый сложный. Он разлагается на семь цветов радуги. А черный не разлагается ни на что. Это отсутствие цвета. Пустота.
– И чего? – не понимает Саша.
– У Ануш все черное: глаза, волосы, брови, ресницы. Скучно. А ты вся переливаешься, как драгоценный камешек. У тебя волоски золотистые, глазки серо-зеленые, бровки коричневые...
Моя внучка слушает, но не верит. Смотрит недоверчиво.
– Да, да... – Я делаю преувеличенно честные глаза и киваю, подтверждая сказанное.
Концерт кончается. Все встают.
К нам подходит Лиза. Она сидела в задних рядах, видимо, опоздала.
– Скажи все это маме, – приказывает Саша.
Я поворачиваюсь к Лизе и начинаю:
– Ануш вся черная, как галка. А Сашенька переливается всеми красками, как птичка – канарейка...
Моя дочь смотрит на меня с недоумением, потом все быстро понимает.
– Конечно, – говорит она. – Саша тоже очень красивая...
– Не тоже. А самая красивая, – поправляю я.
Саша следит за моим выражением лица, ища подвоха. Но я демонстрирую полную серьезность. Я считаю, что девочек надо перехваливать. Им нужен большой запас уверенности в себе.
* * *
Пятницу, субботу и воскресенье Саша проводит со мной на даче.
Я учу с ней уроки, гуляю по живописным окрестностям и постоянно чувствую, что моя душа – на месте. Как правило, моя неприкаянная душа мечется и мучается, а рядом с Сашей становится на место. Я знаю, зачем я жила и живу. Чтобы в конце концов появилась такая вот Саша – вредненькая и яркая, четко понимающая – что ей надо. А нужна ей радость, и она готова добывать эту радость изо всего: из еды, из дружбы, из ссоры.
Такие состояния, как скука и тоска, Саша не переносит. Тоску могут переносить только взрослые, и особенно старые люди.
Вечером я укладываю ее спать и говорю ей:
– Спокойной ночи.
Она отвечает:
– Спокойной ночи. Я тебя очень люблю.
– А я тебя еще больше.
– Нет, я больше, – не соглашается она.
– А я тебя так люблю, что ты даже испугаешься.
– А это как?
– Вот так...
Я выбегаю на середину спальни и, раскрыв рот, пронзительно ору, «с восторгом чувств».
Саша тут же выскакивает из своей кровати, становится напротив меня и старается перекричать.
Мы вместе исторгаем ликующий вопль любви. Наша любовь летит в открытую форточку, устремляясь в небо и дальше, в космос. И остается там навсегда.
* * *
А еще я люблю свою работу. Я люблю то состояние, в которое я погружаюсь. Я никогда не пробовала наркоту, но думаю: состояние художника – та же наркота. Я ни ЗДЕСЬ ни ТАМ. Между небом и землей. Третье состояние.
И невольно думаешь: а как другие живут? Чем они наполняют свои паруса? И я завидую себе. Я понимаю: ничто не заменит этого состояния, когда летишь в воздушном океане без руля и без ветрил.
* * *
Еще я люблю ничего не делать. Лень – это инстинкт самосохранения.
Хорошо развалиться на солнце, как собака, прищурить глаза и ни о чем не думать. Созерцать небо и верхушки деревьев. Любить ближнего. И никого не ненавидеть.
* * *
Анька. Танька. Ванька.
Я мечтала о том времени, когда мои враги исчезнут, улетучатся из моей жизни. Однажды я проснусь, а их нет.
Так оно и случилось.
Мои враги исчезли, но не все разом, а по очереди.
Первой отвалилась Анька.
Моя внучка выросла, и ее отдали в школу. Постоянная нянька была уже не нужна. Взяли приходящую и уходящую.
Напоследок Анька разругалась с внучкой. Они орали друг на друга, как равные, хотя одной было семь лет, а другой шестьдесят три. В девять раз старше.
Саша выросла и вышла из повиновения. Анька рассматривала это как предательство.
Кончилось тем, что Анька ушла, бросив все свои вещи, прихватила только сумку с деньгами.
– Я позже приеду за вещами, – сказала Анька и пошагала на своих коротеньких ножках.
Я смотрела на ее затылок. В районе макушки волосы повысыпались. Просвечивала кожа. Это возрастное явление. Исчезает какой-то гормон. Включается программа старения.
Бедная Анька... Мне стало ее жалко. Семь лет она жила чужой жизнью, жизнью моей внучки. Они вместе ели, спали, разговаривали. Аньке приходилось спускаться до уровня дикаря, поскольку дети – дикари. Они повторяют в своем развитии зарю человечества.
– Чего ты сцепилась? – спросила я у внучки.
Она стояла с каменным лицом. Та еще штучка. Но я не умела ее не любить. И даже ее недостатки меня восхищали и казались достоинствами.
Анька приехала за вещами через две недели. Она была напряжена, боялась, что я не отдам ей свои подарки. За совместную жизнь я широко одаривала Аньку, пытаясь смягчить ее нрав. И нрав действительно смягчался, но ненадолго.
Я сложила все свои дары: кухонную технику, картины, коробки с одеждой – выставила все это в прихожую. Анька посмотрела, и ее лицо скрючилось в страдальческой гримасе. Она не сказала «спасибо» или «извини». Она посмотрела на меня сложным взглядом, в котором было все: «спасибо», «извини» и что-то еще, не имеющее слов.
– Главное, чтобы вот тут не было зла, – проговорила Анька и притиснула кулак к груди.
О! Как она была права. Зло сушит душу, убивает талант, сужает сосуды, рвет сердце и мозги, забирает жизнь. Я не знаю, есть ли ад на том свете, но на этом он есть. Ненависть – вот что такое ад. Анька смотрела на меня, ее глаза набрались света и цвета, в них светилась душа.
Я их не забуду, я их обязательно нарисую – поняла я.
Все, что мне дорого, я стараюсь запечатлеть на холсте или на бумаге, чтобы не кануло в хаосе, чтобы осталось навсегда.
* * *
Через месяц появилась другая домработница, которая всех называла по имени-отчеству. И мы, в свою очередь, звали ее Надежда Ивановна. Она молча делала свое дело, не сидела с моими гостями и не ковыряла в зубах. Надежда Ивановна совершенно не раздражала, не оттягивала на себя мою энергию. Спокойно работала положенное время, потом собиралась и уходила домой. Вежливо прощалась.
Для Надежды Ивановны было важно сделать свою работу и в конце месяца получить свои деньги. Все остальное – «до фонаря». И если бы она однажды пришла, а дом сгорел – повернулась бы и отправилась в агентство искать новую работу и новых хозяев. Ей совершенно все равно, кто ей платит деньги.
Анька была противная, но она была своя. Что такое «своя»? Это когда силовые линии двух душ имеют одно направление.
В один прекрасный день я вдруг поняла, почему Анька перестала мне готовить. Она выполняла работу няни, а готовить еду – это отдельный труд, дополнительно оплачиваемый. Я наивно считала, что если Анька готовит для двоих, почему бы не почистить еще пару картошин на мою долю. Оказывается, пара картошин требует дополнительной оплаты. Я не догадалась. А она не говорила. Хотела, чтобы я сама пришла к этому решению, подталкивала своим поведением. Я воспринимала ее поведение как хамство и страдала. А она воспринимала мое поведение как жадность и тоже страдала, но терпела, потому что была своя и потому что любила мою внучку.
А оказывается: надо было просто сказать, и все уладилось бы за пять минут, даже за три. Боже мой... три минуты могут испортить семь лет жизни.
Я ждала, что Анька мне позвонит. Но она не звонила, а я не знала ни ее адреса, ни телефона.
Она пришла ниоткуда и испарилась в никуда.
* * *
Следующим испарился Ванька.
Ванька продал свой участок. Ходили слухи, что он задолжал и на него наехали.
За моим забором поселилась новая семейка, которая тут же принялась рубить деревья. Застучали топоры – буквально вишневый сад.
Соседи освобождали землю под картошку.
– Разве нельзя купить? – осторожно спросила я.
– Можно, – ответила жена хозяина. – Но ее нельзя есть. Вырастут вторичные половые признаки.
– Почему? – удивилась я.
– Потому что сейчас продукты генетически измененные.
Соседи жгли листья, задымляли весь простор до самого горизонта. Я задыхалась, кашляла и осторожно спрашивала:
– А что, нельзя вывозить?
– Не ссы в муку, – посоветовал хозяин. – Пыль пойдет...
Я поняла, что вывозить они не хотят. Надо нанимать грузовик, а это дорого.
Мои соседи любили компании, жрали водку, скандалили и даже дрались. Я догадалась, что хозяин – тот самый браток, которому задолжал мой прошлый сосед.
Наши собаки ругались через забор. Выкрикивали друг другу оскорбления, грызли забор в пароксизме ненависти. Однажды браток вышел с пистолетом и стрельнул моему Фоме в лапу. Фома взвыл человеческим голосом.
– Вы что? – оторопела я. – Что вы себе позволяете...
– Не ссы в муку, – мрачно сказал хозяин. – Пыль пойдет...
Я поняла, что лучше не связываться.
Приехал ветеринар и вытащил пулю из собачьей ноги. Кость оказалась цела.
Где ты, Ванька, Иван Петрович, похожий на колобка? Черт с ним, с забором. Пусть стоит как хочет, лишь бы был покой. Тишина.
Враги мои, зачем вы покинули меня?
Я скучала по своим врагам. Оказывается, враги необходимы, как микробы. В стерильной среде живое не живет.
* * *
Мой отец умер.
Позвонила Танька в десять часов утра и сказала:
– Случилось непоправимое.
Я спросила:
– Когда?
Она ответила:
– В пять утра.
– А почему ты звонишь мне в десять?
– Я хотела, чтобы ты выспалась.
Танька не отсекла меня как прежде, а пожалела. Для того, чтобы встретить такое известие, нужны силы.
* * *
Прощались в ритуальном зале крематория.
Отец лежал с закрытыми глазами с шелковым платком вокруг шеи. Он любил шейные платки вместо галстуков.
Главным в его лице были глаза – ярко-синие, хрустальные. А сейчас они были закрыты, казались маленькими, глубоко посаженными.
– Это не он... – воскликнула Танька, растерянно оглядываясь. – Не он...
На меня напал ступор, полное ощущение бессмысленности происходящего. Я боялась, что это будет заметно окружающим.
Я не плакала и понимала, что это неприлично.
Танька тоже не плакала. Она ходила вокруг гроба и ощупывала его руками. Гроб был деревянный, жесткий. Танька ужасалась, что отцу в нем будет неудобно. Хотя почему «будет». Уже неудобно.
* * *
Поминки прошли весело, если можно так сказать. Стол оказался невиданным по изобилию и по изысканности. Стояла вся еда, существующая в мире, включая черную икру, миноги, угря и жареных поросят.
Я не узнавала Таньку. Она потратила сумму с четырьмя нулями, не меньше.
Гости были голодные, ели вдохновенно. Поминали со светлой печалью.
Не было пустых формальных слов, не было похоронных штампов типа «от нас ушел...», «мы навсегда сохраним»...
Папин друг Валька Архипов (ему семьдесят лет, а он все – Валька) наклонился ко мне и сказал:
– Когда я умру, ко мне не придет столько хороших людей.
Я не знала, как реагировать.
– Ну почему? – уклончиво сказала я.
– А ты придешь?
– Приду обязательно, – пообещала я.
Я думала, Валька шутит. А он не шутил. Он знал, что это скоро случится.
Вспоминали веселые случаи из жизни отца. Я понимала, что это правильно. Отцу все равно, а людям приятно.
Моя дочь Лиза встала и произнесла речь:
– Я всегда чувствовала его поддержку. Его талант и яркость натуры не давали мне опускаться...
Когда это она собиралась опускаться? Как мало я знаю свою дочь. Она для меня всегда маленькая. А ведь она уже взрослая, со своими трещинами и пропастью, куда можно опускаться или удержаться. Бедная девочка...
Поднялся ученик отца Леня Пожидаев. Он мне всегда нравился сексуально. И сейчас нравился – сухой, гибкий, лысоватый, с красивым ртом. От него веяло умом, талантом и мужской энергией. Если бы у меня был такой муж, я бы ему никогда не изменяла. Я бы забросила свои холсты и кисти и стирала бы ему носки.
Рядом с ним сидела его жена – «щетка Зиночка». Я – лучше.
Нашла о чем думать на поминках отца. Между прочим, отец никогда не интересовался моей личной жизнью. Он был занят своей.
Пожидаев произнес программную речь о том, что ученики продолжат дело своего учителя. Найдут секрет долголетия, перекусят проводок смерти. Ныне живущим ничего не светит. Проводок надо перекусывать в утробе матери на стадии зародыша. После рождения – поздно. Человек уже собран.
В заключение Пожидаев сказал:
– Все там будем...
Мне вдруг стало полегче. Что-то разжало в душе. Пожидаев не сказал ничего особенного, но он вывел смерть из ранга непоправимого несчастья. Смерть входит в жизненный цикл. Смерть – дело житейское, как ни парадоксально.
Стали подавать чай. Я вышла на кухню, чтобы помочь.
Танька ставила чашки на поднос.
– Я хотела тебе сказать... – медленно проговорила она бесцветным голосом. – Ты забирай дачу себе, у тебя ребенок. Мои портреты в спальне можешь снять.
Я с ужасом думала о завещании моего отца, вернее, о том, что мне придется говорить об этом с Танькой... Оказывается, не придется. Танька умерла вместе с отцом. Ничто мирское и материальное ее не интересовало.
Вот тебе и Танька. А я ненавидела ее двадцать лет. Я ее просто не знала.
Отец – причина нашего противостояния. Шла непрерывная борьба за власть. Мы с Танькой молча боролись, как тараканы в банке. А сейчас банку убрали, и мы уже не как тараканы, а как люди – обернулись и стали рассматривать друг друга.
* * *
Потекло время без отца. Оно мало отличалось от прежнего времени. Просто ушло что-то основное, как будто заглох мотор.
У Лизы появился новый бойфренд с немодным именем Вова. Это все, что я знала. Мне его не показывали.
– Приведи его, – попросила я Лизу.
– А зачем? – удивилась Лиза.
– Оценить, – сказала я.
– А ты при чем? Тебя это не касается. Это моя личная жизнь.
– Значит, я ни при чем?
– Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто не лез.
Лиза – человек нечуткий. А может быть, дело не в Лизе, а во мне. Я все разрушаю вокруг себя. Во мне есть нечто такое, что ко мне лучше не приближаться близко. Как пишут на электростолбах: «Не влезай, убьет»...
У меня появилось много свободного времени. Появилась возможность подумать о себе и о других. О Таньке, например.
Я вдруг осознала, что Танька не хочет нравиться, в отличие от меня. Все люди, особенно женщины, хотят нравиться, произвести хорошее впечатление даже на малознакомого человека. Для этого существует целый арсенал: улыбка, голос, прическа, одежда, бижутерия, актерские способности.
Танька не хотела нравиться. Она, как моя собака, лаяла на каждого проходящего мимо. Собака таким образом защищает хозяина, а Танька защищала своего мужа. Чтобы никто не приближался близко, иначе растащат по кускам. А она с таким трудом его собирала.
Был период, когда моего отца не видели трезвым. Потом был другой период, когда он бегал от Таньки, как заяц от орла. А она – за ним, с тою же скоростью. Волков – не типичный ученый, хилый и задумчивый. Он был красавец, бабник, хотел объять необъятное.
Танька пряла шерсть, дышала остью, кашляла, зарабатывала. Она всеми силами старалась создать условия для своего любимого Волкова. Все остальное ее не интересовало.
Танька умела любить. А я? Что я сделала для своего мужа?
Я сделала его одиноким. И он сбежал, как собака, которую не кормят. Я осталась одна со своими врагами. Потом враги кончились.
Впереди у меня полное стерильное одиночество. Но оно меня не угнетает. Одиночество – это плата за талант. Плата за избранность, за радость творческого труда. «Ты царь, живи один»...
Возможно, я не права. Одиночество – это плата за ошибки. Но я имею право на ошибки. На ошибки не имеет права только пилот, ведущий в небе пассажирский лайнер.
* * *
Мне позвонил Валька Архипов.
– Зайди к Татьяне Александровне, – сказал он.
– А кто это? – не поняла я.
– Игоря вдова.
– Танька? – опознала я.
– Ну, наверное...
– А в чем дело?
– Зайди. Она в тяжелой депрессии. Надо что-то делать.
* * *
Дверь в квартиру оказалась не запертой.
При моем появлении Танька не повернула головы. Она сидела, глубоко вдвинувшись в диван, и смотрела в стену.
– Давно ты так сидишь? – спросила я.
Танька не ответила. Ей не хотелось разговаривать.
Я набрала Вальку Архипова.
– Может, ее в больницу? – спросила я. – Я же не могу с ней сидеть. И оставить ее тоже не могу.
– Больница – это ужасно, – сказал Валька. – Их там почти не кормят и бьют.
– Но что же делать?
– Надо подумать.
Я положила трубку. Надо подумать... Кто будет думать? И сколько времени?
Танька не выглядела сумасшедшей. Она просто не хотела жить. Сидела и ждала, когда все кончится само собой.
Она резко похудела, выглядела ребенком, которого забыли на вокзале.
Я отправилась в ванную комнату, взяла зубную щетку, крем для лица и все, что стояло на полочке. Скинула в целлофановый пакет. Вернулась в комнату и сказала:
– Поедешь со мной. Посидишь с Сашей. Научишь ее вязать. Через месяц начнутся каникулы, переедем на дачу. Будем сажать цветы.
Танька молчала, но я видела, что она слушает.
– Эта Надежда Ивановна неплохая женщина, – продолжала я. – Но она чужой человек. Ей все до фонаря. Ребенок это чувствует. Саше нужна родная бабка. Будешь работать родной бабкой.
Танька не двигалась, но повернула глаза в мою сторону.
– Саша – внучка Игоря, – продолжала я. – Она и похожа на него как две капли воды. Зачем тебе умирать вслед за Игорем, когда ты можешь поливать его веточку?
Танька разлепила губы и проговорила:
– А я тебе не помешаю?
– Мы переедем на дачу. Это твой дом. Твоя внучка. Если кто кому и помешает, так это я тебе. Но я буду сидеть тихо.