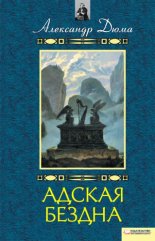Книга масок Гурмон Реми
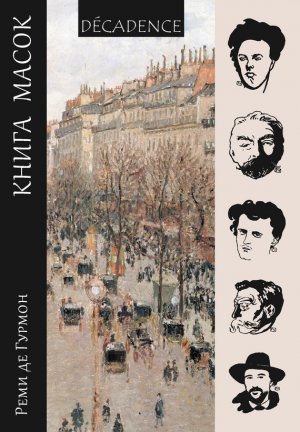
Предисловие
к первому тому французского издания[1]
Трудно дать характеристику литературного движения, пока оно не проявило всех своих сил, пока не расцвели все его побеги. Перед нами создания недостаточно зрелые и создания как бы запоздалые. Иные вызывают наше сомнение, но признать их бесплодными раньше времени не хочется. Какое разнообразие и богатство – богатство даже чрезмерное! В тени, рожденной густою листвою, блекнут цветы и сохнут плоды.
Пройдемся по этому тенистому саду литературы. Будем останавливаться – на короткое мгновенье – у деревьев, полных сил и красоты, у деревьев, доставляющих радость глазам.
Достигнув заметной значительности, став необходимыми и полезными, литературные эволюции получают известные наименования. Часто в наименованиях этих нет определенного смысла, но все же они полезны: они объединяют явления, ими обозначенные, и служат точкою прицела для тех, кто их придумал. Борьба кипит вокруг них, таким образом, исключительно словесная. Что значит романтизм? Его легче почувствовать, чем определить. Что такое символизм? Если держаться прямого, грамматического значения слова, почти ничего. Если же раздвинуть вопрос шире, то слово это может наметить целый ряд идей: индивидуализм в литературе, свободу творчества, отречение от заученных формулировок, стремление ко всему новому, необычному, даже странному. Оно означает также идеализм, пренебрежение к фактам социального порядка, антинатурализм, тенденцию, направленную к тому, что есть в жизни характерного, тенденцию передавать только те черты, которые отличают одного человека от другого, желание облекать плотью лишь то, что подсказывается конечными выводами, то, что существенно. Наконец, для поэта символизм связан с верлибризмом, сбросившим с себя все путы: юное тело вольного стиха резвится на полной свободе – никаких пеленок, никаких свивальников. К буквальному смыслу слова все это почти не имеет никакого отношения, ибо не следует забывать, что символизм является лишь видоизменением прежнего аллегоризма, прежнего искусства олицетворять идею в образе человека, в пейзаже, в теме известного рассказа. Но таково именно настоящее искусство по существу, изначальное, вечное, и литература, идущая другим путем, потеряла бы всякую ценность. Она упала бы до полного ничтожества и, в смысле эстетическом, стала бы равноценною кудахтанью курицы или реву осла.
Литература есть не что иное, как артистическое раскрытие известной мысли, символизация определенной идеи в героических образах фантазии. Жизнь лишь намечает очертания героев, очертания людей: в своей сфере каждый человек является героем. Но искусство завершает то, что только намечено жизнью. Бедную и больную душу оно заменяет всем богатством бессмертной мысли, и нет такого ничтожного человека, которого не могло бы преобразить искусство, если только на него упадет внимание великого поэта. На смиренного Энея Вергилий возложил тяжелое бремя: выразить собою идею римского могущества. Жалкому Дон Кихоту Сервантес доверяет непосильную тяжесть дать в своем лице одновременно и Роланда, и четырех сыновей Аймона, и Амадиса, и Тристана, и всех рыцарей Круглого Стола! История символизма – это история самого человека, ибо вне символической формы он не может усвоить никакой идеи. Доказывать это не приходится. Можно поверить, что юным приверженцам нового литературного направления неизвестна даже «La Vita Nuova»[2]. Им неведом образ Беатриче, хрупкие и непорочные плечи которой не согнулись под бременем сложных символов, которое взвалил на нее поэт.
Откуда же, спрашивается, возникла иллюзия, что символизация идей есть нечто новое? Вот откуда.
За последние годы развернулось серьезное литературное движение, основанное на презрении к идеям и пренебрежении к символам. Теоретическая основа этого кулинарного искусства известна: надо брать «куски жизни» и т. д. Выдумав рецепт, Золя забыл его применить. «Куски жизни», даваемые им, это – грязные поэмы с нечистым и шумным лиризмом, с общедоступною романтикой и демократическими символами. Но все же поэмы эти полны идей и чреваты аллегориями: таков, например, «Жерминаль».
Идеализм восстал не против произведений, отмеченных печатью натурализма (если не говорить о самых ничтожных), но против его теории, вернее сказать, против его притязаний. И подвижники нового революционного направления думали, что утверждают какие-то неслыханные, захватывающие истины, возвращаясь к прежним вечным нуждам искусства и заявляя себя сторонниками идей в литературе. Но они только зажгли старые факелы, и множество мелких светильников вспыхнуло кругом.
Но одна новая мысль все же вошла в литературу и искусство, мысль вполне метафизическая и, по внешности, априорная. Мысль совсем юная, существующая всего каких-нибудь сто лет, мысль, действительно, новая, не примененная еще ни разу к вопросам эстетического порядка. Евангельская, чудесная истина, освобождающая и возрождающая. Это – принцип идеальности мира. По отношению к человеку, по отношению к мыслящему субъекту, мир – все, что вне моего Я, – существует только в том виде, в каком мы его себе представляем. Мы знаем только феномены, мы судим только о видимости. Истина сама в себе ускользает от нас. Сущность вещей недоступна нам. Вот идея, которой Шопенгауэр придал широкую популярность при помощи простой и ясной формулировки: «Мир есть мое представление». Того, что есть, я не знаю. Существует только то, что я вижу. Сколько мыслящих людей, столько отдельных, быть может, различных миров. Эта доктрина не была доведена Кантом до конца. Он бросился спасать гибнущую мораль. Но она так прекрасна, так гибка, что, не нарушая ее свободной логики, ее легко можно перенести из теории в практику, даже самую требовательную. Для человека, умеющего думать, она является универсальным принципом освобождения. Она должна была произвести переворот не в одной только эстетике. Но здесь речь идет лишь о ней.
В учебниках даются определения прекрасного. Идут еще дальше: предлагаются формулы, с помощью которых художник может создавать его. Имеются школы, где эти формулы, орудия и мысли прежних времен, даже преподаются. Эстетические теории обыкновенно туманны. Их поясняют примерами, сличают с идеальными подобиями, причем указывают образцы, которым надо следовать. Для таких школ весь культурный мир, в сущности, лишь один обширный Институт: всякое новшество считается кощунством, всякое личное утверждение признается безумным. Макс Нордау, терпеливо изучивший современную литературу, распространил вредную, разрушительную по отношению ко всему умственно индивидуальному, мысль, будто наибольшим преступлением для писателя является его неприспособляемость. Мы держимся противоположного воззрения. Приспособляемость, подражательность, подчинение канонам и теориям – вот что губит писательский талант. Литературное произведение должно быть не только передачею жизни. Оно должно заключать в себе, кроме
того, и рефлекс определенной личности. Писателя в его деятельности оправдывает лишь одно: то, что он изображает самого себя, что он разоблачает перед другими тот мир, который отражен в зеркале его индивидуального Я. Он должен быть оригинален. Он должен говорить вещи, никем до него еще не сказанные, и притом в такой форме, какой до него еще не существовало. Он должен создать свою собственную эстетику. Имеется столько теорий прекрасного, сколько есть на свете своеобразных умов, и разбирать их следует с точки зрения того, что в них есть, а не с точки зрения того, чего в них нет.
Таким образом, символизм, даже утрированный, даже искусственный и претенциозный, является не чем иным, как выражением художественного индивидуализма.
Это определение, слишком простое, но ясное, пока достаточно для нас. Набрасывая наши характеристики, на дальнейших страницах мы, несомненно, найдем случай его дополнить. Следуя заложенному в нем принципу, мы будем искать не того, что должны были бы, с точки зрения известных строгих канонов или тиранических преданий, сделать новейшие писатели, а того, что они действительно хотели совершить. Даже эстетика стала проявлением личного дарования. Никто не имеет права навязывать ее другому в готовом виде. Художника можно сравнивать только с ним самим. Но отмечать при этом особенности, отличающие его от иных индивидуальностей, полезно и справедливо. В писателях нового поколения мы будем поэтому выдвигать не то, что соединяет их между собою, а то, что их разъединяет. Мы постараемся показать, на чем именно держится их бытие, потому что существовать – значит иметь свои отличительные особенности.
Наш труд не пытается доказать, что между новейшими писателями нет никакого сходства мысли и техники. Оно до такой степени неизбежно, что уже не представляет ни малейшего интереса. Нельзя говорить, что данный расцвет литературы не был ничем подготовлен. Из семени развивается цветок, в цветке зарождается семя. Молодежь имеет своих отцов и учителей: Бодлера, Вилье де Лиль Адана, Верлена, Малларме и других. Она их любит, живых или мертвых. Она читает их сочинения, внимает их словам. Нелепо думать, что мы презираем прошлое! Кто имеет столько восторженных и преданных поклонников, как Стефан Малларме? Разве Вилье забыт? Разве Верлен в пренебрежении? Остается предупредить читателя, что характеристики наши расположены не в случайном порядке, но все же без всякого отношения к внешнему успеху писателей. Существуют имена, пользующиеся известностью и не включенные в нашу галерею. Но при случае мы поговорим и о них. Встречаются пустые рамы и свободные места. Если некоторые портреты покажутся слишком неотчетливыми, незаконченными этюдами, мы должны сказать, что желали именно этого. Мы хотели лишь бросить известный намек, движением руки указать дорогу.
Наконец, чтобы связать явления текущей жизни с событиями прошлого, мы к фигурам из новой литературы присоединили и фигуры, пользующиеся всеобщею известностью. Брошен свет на отдельные неясные их черты, ибо общая физиономия этих людей достаточно популярна.
В приложении[3] помещены, по возможности, точные библиографические указания с целью придать некоторый документальный интерес литературной работе, которую Валлоттон украсил своими рисунками масок.
Реми де Гурмон
Предисловие
ко второму тому
Если кто хочет знать метод, которому следовал автор во второй серии «Масок», пусть прочтет страницы, помещенные им во главе первого тома.
Гете писал:
«То, что говорится о вещах без личной заинтересованности, без пристрастия любви, не заслуживает внимания».
В словах этих, быть может, есть преувеличение. Отрицательная критика необходима. Но все фигуры прошлого должны быть удержаны в памяти людей. Приходится от времени до времени разбивать и переплавлять бронзу, принявшую неверную или слишком претенциозную форму. Но такая работа производится в полумраке. Толпу не следует приглашать на зрелище казней. Мы призываем ее лишь для участия в праздниках славы.
Некоторые критики принимают вид судей, изрекающих приговоры и ожидающих палача.
«А вот и палач! Разведем огонь, чтобы весело плясать вокруг пепла нашей любви!»
Однако, для дурных книг не требуется костра. Достаточно огня камина.
На следующих страницах мы даем не критику, а психологический или литературный анализ. У нас нет принципов и нет образцов. Создавая произведение, писатель творит свою эстетику. Мы обращаемся к чувству, а не к рассудку читателя.
В литературе, как и повсюду, должно прекратиться владычество отвлеченных слов. Произведение искусства живет только чувством, которое оно в нас вызывает. Достаточно определить и описать характер этого чувства. От метафизики мы переходим к восприятию. От чистой идеи к физическому наслаждению.
Сколько струн в человеке! Одно только перечисление их составляет уже значительный труд.
Реми де Гурмон
Морис Метерлинк
О жизни тех скорбных существ, которые движутся в таинственном безмолвии ночи. Они умеют лишь страдать, улыбаться и любить. Когда же они хотят что-нибудь понять, тревога их превращается в тоску, и минутная вспышка протеста разливается в потоке слез. Возносясь все выше и выше по скорбным ступеням Голгофы, мы останавливаемся в конце пути перед железной дверью: так поднимается на высоту сестра Игрена, так же стремятся вперед все те несчастные существа, чьи простые и чистые трагедии раскрыл перед нами Метерлинк.
В былые времена смысл жизни был известен. Тогда люди знали самое главное – они знали конечную цель их пути, знали, в каком последнем приюте приуготовлено для них вечное ложе покоя. Но когда благодаря Науке было отнято у них стихийное знание чувств, одни возликовали, вообразив, что с них упало все лишнее, а другие предались отчаянию. Им почудилось, что на них взвалили еще одну, новую тяжесть, и эта тяжесть показалась им невыносимее всех остальных. Эта тяжесть – сомнение.
Вот из какого ощущения возникла целая литература – скорби, протеста и проклятья, обращенного к безмолвному Богу. Но за бурными воплями вопросов наступило временное затишье – появилась литература печали и скорби. Протесты были признаны бесполезными, а проклятия гибельными. Умудренное бесплодными битвами, человечество постепенно покоряется необходимости ничего не знать, ничего не бояться, ни на что не надеяться – разве только на самое отдаленное!
Где-то среди туманов – остров. На острове – замок. В замке – большой зал, освещенный маленькой лампой. В зале – люди, которые ждут. Ждут – чего? Они не знают. Они ждут, что вот придут и постучатся к ним в дверь. Ждут, что потухнет лампа. Ждут Страха. Ждут Смерти. Они изредка произносят слова. Да, они роняют слова, на мгновение нарушающие тишину. Но не докончив фразы, остановив свой жест, они опять прислушиваются. Они слушают, ждут. Придет, или не придет? Придет! Она приходит всегда! Уже поздно. Быть может, она придет лишь завтра! И люди, собравшиеся в большом зале, освещенном маленькой лампой, улыбаются. Они надеются. И вот, наконец, раздается стук. Это все. Это – целая жизнь. Это – вся жизнь.
Маленькие, прелестно-ирреальные драмы Метерлинка отличаются глубокой естественностью и правдивостью. Его герои, похожие на видения, полны жизни. Они похожи на те шары, которые, будучи заряжены электричеством, выбрасывают лучи при одном прикосновении шпильки. Это не отвлечения – это синтезы. Действующие лица его драм – это отдельные состояния одной человеческой души, или, вернее, отдельные состояния коллективной души всего человечества. Это миги, минуты, которые могли бы стать вечными: они реальны именно потому, что ирреальны.
История литературы уже знает примеры такого рода искусства. Со времени «Roman de la Rose»[4] беллетристы с религиозным направлением мысли стали вводить в свои неуклюже претенциозные творения символы и абстракции. «Le Voyage d'un Homme Chrtien»[5] Бюниана, «Le Voyage spirituel»[6] испанца Палафокса, «Le Palais de l'Amour divin»[7] анонима – за всеми этими произведениями нельзя отрицать известного значения. Но в них все слишком ясно, действующие лица этих романов выступают под слишком прозрачными именными значками. Можно ли себе представить какой-нибудь свободный театр, на котором была бы поставлена драма с такими героями, как Сердце, Ненависть, Радость, Гнев, Молчание, Забота, Вздох, Боязнь и Невинность. Время для подобных забав уже прошло, или, может быть, еще не вернулось. И вместо того, чтобы перечитывать «Le Palais de l'Amour divin», прочтите «Смерть Тентажиля», ибо только от новых произведений мы можем требовать эстетического наслаждения, одновременно и совершенного, и захватывающего, и мучительного. Метерлинк притягивает и увлекает, он опутывает нас, как осьминог, мягким шелком волос уснувших принцесс, среди которых забылся тревожным сном ребенок, «печальный, как молодой король». Он захватывает и уносит нас в глубокие бездны, где в бурном водовороте «кружится разлагающийся труп ягненка Аладина», и еще дальше – в туманные, безгрешно-чистые страны, где влюбленные говорят друг другу такие слова: «Как строго и серьезно ты целуешь меня»… «Не закрывай своих глаз, когда я так целую тебя. Я хочу видеть поцелуи, которые дрожат в твоем сердце, и благодатную нежность, которая поднимается со дна твоей души. У нас не будет больше таких поцелуев»… «Всегда, всегда»… «Нет, нет, два раза нельзя целовать в объятьях смерти». При таких словах, при таких прекрасных вздохах, замирает всякое возражение. Невольно умолкаешь, почувствовав, что можно выражать любовь словами. Да, это поистине новая форма любви. Индивидуальность Метерлинка необыкновенная. Не изменяя себе, он умеет извлекать звуки даже из одной струны. Но эта струна сплетена у него из нитей конопли, им самим посеянной и взращенной. Он сам мочил и трепал эту коноплю, и струна поет под его изнемогающими пальцами, грустная, несравненная и нежная.
Метерлинк создал великое творение. Он нашел глухой нежданный крик, какой-то холодный, зыбкий, мистический стон.
Мистицизм – это слово в последние годы приобрело много различных и даже противоположных значений, и следует заново и точно определять его каждый раз, когда в нем встречается необходимость. Некоторые придают ему значение, сближающее его с другим, более новым словом: индивидуализм. И несомненно, эти два понятия соприкасаются между собою, ибо мистицизм можно рассматривать, как такое состояние, в котором, не чувствуя себя связанной с миром физическим, отрешившись от всего случайного и неожиданного, душа исключительно отдается непосредственному слиянию с бесконечным. Но если бесконечное неизменно и едино, то души людей разнообразны и множественны. Каждая из них говорит с Богом на своем языке, о вещах, которые ее только и волнуют. И Бог, хотя и единый, открывается каждому живому существу в тех формах, в каких оно Его может постигнуть. Он никогда не говорит одному того, что уже сказал другому. Свобода – вот привилегия души, дошедшей до мистицизма. Тело для нее – сосед, которому она советует хранить молчание. Но если тело все-таки заговорит, она его слушает как бы через стену. Если оно начинает действовать, она смотрит на него сквозь дымчатый покров. Исторически такое состояние души известно еще под именем квиетизма. Фраза, в которой Метерлинк рисует Бога улыбающимся нашим тягчайшим ошибкам, как улыбаются, глядя на играющих на ковре собачек, несомненно фраза квиетиста. Она серьезна и кажется справедливой, особенно, когда подумаешь о том, как мало значения имеют наши поступки, как эти поступки совершаются, с какою силою нас увлекает за собой нескончаемая цепь причин и следствий и как мало наши действия зависят от нас, даже наиболее решительные из них, наиболее обоснованные. Такая мораль, предоставляя жалким человеческим законам творить свою бесплодную работу, вырывает у жизни ее сущность и переносит ее в другие, высшие области. Только там, в сфере, огражденной от всяких случайностей, унизительных случайностей социального характера, жизнь может дать свои лучшие плоды. Мистическая мораль не признает того, что не отмечено двойной печатью человечности и божественности. Поэтому она всегда внушала страх духовенству и судебным учреждениям, ибо, отрицая внешнюю иерархию, она этим отрицает, хотя и пассивно, социальный порядок: мистик может согласиться на всякое рабство, но никогда не унизится до холопской обязанности быть гражданином. Метерлинк уже провидит то время, когда души всех людей сольются в нечто единое, как сливаются они теперь с Богом в своих мистических настроениях. Но возможно ли это? Станут ли когда-нибудь люди истинными людьми, существами настолько свободными и гордыми, что они будут исходить в своих суждениях только от Бога. Метерлинк уже видит эту новую зарю, потому что он смотрит во внутрь себя, потому что он сам эта заря. Но если бы он посмотрел на человечество извне, он увидел бы лишь грубое стремление социалистической культуры к общему корыту, к общему стойлу. Те смиренные натуры, для которых он писал свои божественно-прекрасные книги, не будут их читать. А если и прочтут, то увидят в них одну лишь насмешку. Им твердили об общем корыте как о высшем идеале, и теперь они не смеют поднять своих глаз к небу. Они знают, что вожди жизни строго их за это накажут.
Поэтому «Сокровище Смиренных», эта книга любви и освобождения, заставляет меня с горечью думать о жалкой участи не только современного человека, но, вероятно, и человека будущих времен.
- Великолепное, но ждет освободиться,
- Чтоб той стране не петь, где ей пришлось родиться,
- Когда скупой зимы засветится тоска.
И напрасно
- Власть злой агонии вся шея жаждет сбросить.
Час освобождения пройдет, но только немногие услышат его призыв.
А между тем, сколько залогов освобождения можно найти на страницах Метерлинка, где ученик Рейсбрука, Новалиса, Эмерсона и Гелло (двое из этих писателей, наименее значительные, все же обладали интуицией настоящих гениев), раскрывая простые намеки великих умов, смело пускается в исследование темного мира идей. И средний человек, и человек высокой сознательности, все те, у кого чувства никогда не поднимаются до пафоса, нашли бы у него поддержку для своей души, научились бы, руководимые им, ценить поэзию повседневных интересов, всю прелесть тихой и глубокой внутренней работы. Они постигли бы смысл смирения, бесцельных слов. Они поняли бы, что смех ребенка и щебетание женщины, заражающие своею душевностью и волнующие своею непонятностью, так же значительны, как и самые блестящие речи Мудрецов. Метерлинк настоящий Мудрец. Он изливает перед нами свои мысли, необычные, наивно отрицающие всякую психологическую традицию, дерзновенно отбрасывающие от себя всякие шаблоны, смело устанавливающие за вещами лишь то значение, какое они действительно имеют в мире конечных явлений. Так, например, элемент чувственности совершенно отсутствует в его логической работе. Он понимает значение, но знает также и ничтожность волнения нервов и крови – той грозы, которая предшествует мысли, иногда ее заканчивает, но никогда не сопутствует ей. И если он и распространяется о женщинах, лишенных души, то только для того, чтобы обследовать «мистическую соль поцелуя, в которой запечатлелось навеки воспоминание о встрече влюбленных уст».
Может быть, другие поэты владеют или владели более простым стилем, более творческим воображением, более тонкой наблюдательностью, более яркой фантазией и большим талантом в передаче музыки человеческой речи. Пусть так! Но при всей робости и бедности своего языка, при наивности своих детских драматических концепций, – при всех этих недостатках и многих других, – Морис Метерлинк создал целый ряд книг, несомненно оригинальных, несомненно новых. Эти книги еще долго будут приводить в смущение жалкую толпу ненавистников всякого новшества, чернь, которая готова простить дерзновение, если уже имеются прецеденты, занесенные в протоколы истории, но которая с недоверием взирает на гения, являющего из себя одно непрерывное дерзновение мысли.
Эмиль Верхарн
Из всех современных поэтов, этих Нарциссов, влюбленных в собственный лик, Верхарн менее других позволяет любоваться собой. Он суров, буен и неловок. Занятый в продолжение двадцати лет выковыванием странного, магического инструмента, он укрылся в какой-то горной пещере, где стучит молотом по раскаленному железу среди отблесков пламени и целого моря огненных искр. Его следовало бы изобразить кузнецом.
- Как будто души он ковал,
- Так сильно ударял металл,
- Куя молчанье и терпенье.
Если найти Верхарна и задать ему какой-нибудь вопрос, он ответит параболой, в которой каждое слово звучит, как стук железа, и заключит свою речь новым сильным ударом молота по наковальне.
Когда Верхарн не работает в своей кузнице, он бродит по полям и окрестным деревням, с открытою душою, готовый все запечатлеть, и фламандские деревни раскрывают ему свои тайны, которых они никому еще не рассказывали. Он видит вещи, полные чудес, и не удивляется им. Перед ним проходят странные существа, с которыми мир постоянно сталкивается, не замечая их, существа, видимые только для него одного. Он встречал ноябрьский ветер:
- Ноябрьский холодный ветер,
- Ветер,
- Кто же встретил дикий ветер
- На распутье ста дорог?
Он видел Смерть, и притом не раз. Он видел Страх, он видел безмерное Молчание, «сидящее с глубокой Ночью рядом».
Наиболее характерное слово для поэзии Верхарна: «галлюцинировать». Оно встречается на каждой странице. Написав целую книгу о «Галлюцинирующих Деревнях», он не освободился от мысли о всеобщей галлюцинации. И тут нет никакого внешнего колдовства над ним: в самой природе Верхарна заложена склонность быть поэтом галлюцинирующим. «Наши ощущения, – говорит Тэн, – это настоящие галлюцинации». Но где начинается истина и где она кончается? Кто может это определить? Поэт, у которого нет никаких психологических колебаний, не делает никаких разграничений между истинными галлюцинациями и ложными. Для него все галлюцинации истинны, если только они остры и сильны, и он передает их нам в наивном рассказе. А когда о них повествует такой поэт, как Верхарн, рассказ блистает красотой. Красота в искусстве – это понятие относительное. Она получается из смешения самых различных элементов, часто совершенно неожиданных. Из этих элементов только один отличается постоянством, прочностью и встречается во всех комбинациях: это стремление ко всему, что ново. Произведение искусства необходимо должно отличаться новизною – эту новизну мы узнаем по тому ощущению неизведанного, которое оно в нас вызывает.
Если же произведение не дает такого неизведанного ощущения, то каким бы прекрасным его ни считала толпа, в действительности оно должно быть признано отвратительным и достойным презрения. Оно бесполезно и по одному этому безобразно, ибо нет в мире ничего полезнее красоты. У Верхарна красота создана из новизны и силы. Этот поэт истинно могуч. Со времени его «Галлюцинирующих Деревень», которые произвели впечатление настоящей геологической катастрофы, уже никто не посмеет оспаривать у него значения и славы великого поэта. Быть может, магический инструмент его слова, над которым он работает в течение двадцати лет, еще не отделан до конца, быть может, речь его еще не отличается настоящим высоким искусством, и все его творчество имеет неровный характер. На лучших страницах у него рассеяно множество неуместных эпитетов, а в талантливейших поэмах встречается немало того, что некогда считалось прозою. Но тем не менее близкое знакомство с его поэзией дает впечатление силы и мощи. Несомненно: это истинно великий поэт. Прочтите хотя бы этот отрывок из его «Les Cathd-rales»[8]
- О, эти толпы народа,
- И нищета, невзгода,
- Что треплют их, как в бурю непогода!
- С потиров же покрытых шелком
- К городам нагроможденным,
- К стеклу высоких крыш
- Из глубины священных ниш
- Кресты возносятся глаголом довременным.
- Они возносятся в золоте воскресений —
- Рождества, Пасхи и белых вознесений,
- Они возносятся в алтарных фимиамах
- И бурею органа в древних храмах. К
- расные капители и алые своды,
- Их душа живет долгие годы,
- Живет обрядами и властной тайной
- Необычайной.
- Но лишь угаснут звуки пенья
- И простодушного моленья,
- Исчезнувшего ладана печаль
- Ложится на сосуды и алтарь;
- И расписные меркнущие стекла,
- Где папы, иноки, герои и блудницы,
- Где слава христианства не поблекла,
- Дрожат от шума поезда, что мчится.
Верхарн является истинным преемником Виктора Гюго, в особенности в своих первых произведениях. Даже после его эволюции в сторону более кипучей, свободной поэзии, он все же остался романтиком. Это слово, в применении к его гению, сохраняет всю свою прелесть и все свое красноречие. В пояснение этой мысли приведем четыре строфы, переносящие нас в былые, давно прошедшие времена:
- Некогда жизнь была как блуждающий путник
- среди сказочных утр и вечеров,
- когда Десница Божия проводила через сумерки
- золотую дорогу к синим Ханаанам.
- Некогда жизнь была огромною, отчаянною,
- дико повисшею на гриве жеребцов,
- внезапною, полною молний за собою,
- безмерно вздыбившеюся перед пространствами
- безмерными.
- Некогда жизнь была пламенной вызывательницею,
- белый небесный крест и красный – ада,
- при блеске железных вооружений
- оба шли через кровь к своему победному небу.
- Некогда жизнь бледною была с пеною у рта;
- жили и умирали при набате, от преступных ударов,
- воюя меж собою, гонители и убийцы,
- над ними же безумная блистала смерть.
Эти строфы взяты из «Призрачных Селений», написанных свободным отрывочным стихом, полным созвучий и прерывающегося ритма. Но Верхарн, мастер свободного стиха, является в то же время и виртуозом стиха романтического, которому он умеет придать, не изменяя его структуры, неукротимый, бешеный галоп своей мысли, полной образов, фантомов и видений будущего.
Анри де Ренье
Анри де Ренье живет в старинном замке Италии, среди эмблем и рисунков, которыми украшены его стены. Он предается своим грезам, переходя из зала в зал. Вечером он спускается по мраморным ступеням в парк, вымощенный каменными плитами. Там, среди бассейнов и прудов, он погружается в мечты в то самое время, как черные лебеди в своих гнездах трепетно взмахивают крыльями, а павлин, одинокий как король, величаво наслаждается умирающим великолепием золотых сумерек. Анри де Ренье – поэт меланхолии и блеска. Два слова, которые чаще всего звучат в его стихах, – это or[9] и mort[10]. У него есть поэмы, в которых эта царственная и осенняя рифма повторяется с настойчивостью, производящей жуткое впечатление. В собрании его последних произведений можно насчитать по крайней мере пятьдесят стихов, заканчивающихся словами: «золотые птицы», «золотые лебеди», «золотой бассейн», «золотой цветок», «мертвое озеро», «мертвый день», «мертвая мечта», «мертвая осень». Это чрезвычайно любопытное и симптоматическое явление, происходящее отнюдь не от скудости языка, а из нескрываемой любви к одной из самых богатых красок, к печальному великолепию, неизменно исчезающему, как закат солнца, во мраке ночи.
К его услугам все необходимые слова, как только ему захочется передать свои впечатления, цвет своих мечтаний. Точно так же не приходится искать слов и тому, кто задумает определить самого поэта. Прежде всего ему придет в голову то самое слово, которое уже упоминалось, которое непреодолимо вспыхивает в сознании, когда говоришь о Ренье: богатство! Анри де Ренье – поэт богатый по преимуществу, богатый образами! Ими полно у него все: сундуки, кладовые, подземелья. Рабы, непрерывными вереницами, приносят ему все новые и новые поэтические богатства, которые он гордым жестом рассыпает по ослепительно-белым ступеням своих мраморных лестниц. Пестрые красочные каскады образов, то бурно кипящие, то тихо несущиеся по направлению к жизни, превращаются в пруды и озера, залитые солнечными лучами. Не все эти образы должны быть признаны новыми. Верхарн предпочитает самым верным, самым красивым метафорам, существовавшим до него, те, которые он создает сам, хотя бы они казались неуклюжими и бесформенными. Анри де Ренье не пренебрегает уже существующими уподоблениями, но перерабатывает их и приспособляет к своим задачам, изменяя при этом весь их антураж, придумывая для них новые ассоциации, придавая им еще не известное значение. Если среди этих образов, прошедших через такую переработку, попадаются и образы, отличающиеся девственной чистотой, все же его поэзия не дает впечатления чего-то вполне оригинального. Творя так, как творит Анри де Ренье, можно избежать опасности быть неясным и странным. Читатель не чувствует себя затерянным среди дремучего леса. Перед ним всегда верная дорога. Радость, которую он испытывает, срывая новые цветы, еще увеличивается тем, что тут же рядом растут и цветы любимые, знакомые.
- Печальная пора, – цветы уже не вьются,
- Желтеет тусклый день поблекшими листами,
- И бледная заря водами отразилась;
- А вечер точит кровь, израненный стрелами,
- Таинственных ветров, что плачут и смеются.
Анри де Ренье умеет стихами сказать все, что хочет. Его тонкость, его проницательность не знают границ. Он передает едва зримые оттенки человеческой мечты, неуловимый бег фантастических видений, переливы расплывающихся красок. Обнаженная рука, конвульсивно опирающаяся на мраморный стол, плод, качаемый и срываемый ветром, забытый пруд – этих нюансов совершенно достаточно для него, чтобы создать прекрасную и чистую поэму. Его стих ставит перед глазами живые образы. Несколькими словами он умеет передать то, что видит внутри себя.
- Печальные пруды, где тают вечера.
- Не собраны никем, цветы там опадают.
Речь его безукоризненна. И этим он тоже отличается от Верхарна. Его поэмы, являются ли они результатом долгого, или короткого труда, никогда не носят на себе отпечатка усилий. С удивлением и восхищение следишь за прямым и благородным бегом его строф, которые, подобно белым коням в золотой сбруе, несутся вперед и исчезают в темной славе вечеров.
Богатая и тонкая, поэзия Анри де Ренье никогда не отличается одной только лирикой. Среди гирлянд метафор у него всегда сверкает какая-нибудь идея. И как бы схематична, как бы неопределенна ни была эта идея, ее все же совершенно достаточно, чтобы ожерелье поэтических образов не рассыпалось в беспорядке. Все ее жемчужины нанизаны на нитку, иногда совершенно незаметную, но всегда крепкую. Таковы, например, следующие строки:
- Такою бледною заря была вчера,
- Над мирными зелеными лугами,
- Что с раннего утра
- Дитя явилось меж кустами
- И наклонялось над цветами,
- Чтоб асфодели рвать прозрачными руками.
- Был полдень грозно жгуч и тусклы небеса,
- В саду – безмолвная и мертвая краса,
- Деревьев веянье живое не касалось;
- Как мрамор жесткою вода казалась,
- А мрамор светлым был и теплым, как вода.
- Прекрасное Дитя явилося сюда
- В одежде пурпурной и в золотом венке,
- И долго виделось вблизи и вдалеке
- Как огненных пионов кровь стекала,
- Когда меж них Дитя мелькало.
- Дитя нагое вечером пришло
- И розы собирало в темной сени,
- Оно рыдало, зачем сюда пришло,
- Своей боялось тени.
- Ребенок был так наг и мал,
- Что в нем свою судьбу я вмиг узнал.
Это простой эпизод длинной поэмы, в свою очередь являющейся фрагментом целой книги. Это маленький триптих, имеющий несколько значений, сообразно с тем, берется ли он в отдельных своих частях, или целиком. В одном случае – перед нами судьба отдельного существа, в другом – символ жизни вообще. Но этот отрывок дает нам также и образец настоящего свободного стиха, поистине совершенного, виртуозного.
Франсис Вьеле-Гриффен
Я не хочу сказать, что Вьеле-Гриффен веселый поэт, но, несомненно, это поэт веселья. Вместе с ним принимаешь участие в радостях простой, нормальной жизни, в стремлениях к миру. Вместе с ним приобщаешься к непоколебимой вере в красоту, в непобедимую молодость природы. Он не буен, не пышен, не нежен – он спокоен. Очень субъективный, впрочем, может быть, именно благодаря своей субъективности, он религиозен, так как думать о себе значит, в конце концов, думать о всей своей личности в полном ее объеме. В природе он, как Эмерсон, видит «прообраз древней религиозной мысли человечества». И как Эмерсон, он думает, «что день не пропал даром, если внимание хоть на мгновение было уделено природе». Он знает и любит все элементы леса, начиная от «больших, нежных ясеней» до «молодых, бесконечно разнообразных трав». И, несомненно, это его лес, о котором он говорит:
- Вся жимолость покрылася цветами,
- Сочатся солнца золотые слезы,
- Шуршит косуля быстрая кустами,
- И ветер веет по кудрям березы
- Между листами.
- В моих лугах осеребрились травы,
- Как шпаги блеск блестят лучи далеко,
- Жужжанье пчел услышите с утра вы
- И ландыши по берегу потока,
- И ветер веет в ясенях дубравы.
Но он знает не только цветы, которыми пестрят луга, он знает также «La feur qui chante»[11], и «Celle qui chante»[12], и лаванду, и майоран, фею старых баллад и сказок. Он помнит припевы народных песен и вводит их в свои маленькие поэмы, похожие на комментарии к основному тексту, или просто на поэтическую грезу.
- Где наша Маргерита?
- Огэ, Огэ!
- Где наша Маргерита?
- Она в высоком замке усталая все ждет,
- Она в своей землянке так весело поет,
- Она в своей могиле, – там ландыш расцветет.
- Где наша Маргерита?
И это почти так же трогательно, как стихи Жерара де Нерваля:
- Где наши милые?
- Они в могиле.
- Житье постылое
- Там позабыли.
И так же невинно жестоко, как те хоровые песни, которые поют маленькие девочки:
- К чему дана краса?
- Чтоб в землю зарывать,
- А там червей питать,
- А там червей питать.
Вьеле-Гриффен пользовался с чрезвычайной осторожностью народной поэзией, в которой так мало искусственного, что она кажется как бы рожденной, а не сотворенной. Но если бы он был и менее скромен, то все же не злоупотребил бы ею, ибо он умеет чувствовать и уважать. Другие поэты, к несчастью, отличались меньшим благоразумием. Они срывали «La rose qui parle»[13] такими неуклюжими и грубыми руками, что было бы лучше, если бы вечное молчание царило вокруг этой прелести народной фантазии, ими оскверненной и униженной.
Море, как и лес, тоже очаровывает и опьяняет Вьеле-Гриффена. В одной из первых своих книг «Cueille d'Avril»[14] он дал нам полное его описание. Он показал море всепожирающее, ненасытное, море – бездну, море – могилу, море дикое, с горделивой и победной волной, море, отдающееся сладострастной ласке прибоя, море грозное, беззаботное, настойчивое, завистливое, играющее красками звезд и солнца, светлой зари и темной ночи. Поэт упрекает это море за то, что оно блестит чужой славой, и гордо заявляет, что не последовал его примеру и не искал почета в счастливых реминисценциях и наглых плагиатах! И надо признать, что Вьеле-Гриффен, который уже на первых ступенях своей поэтической деятельности не говорил пустых слов, сдержал впоследствии свое обещание. Он остался самим собою, свободным, гордым и неприступным. Его лес не безграничен, но это не шаблонный лес: это – владения его фантазии.
Не касаюсь другой, чрезвычайно важной стороны его творчества: его роли в трудном деле завоевания свободного стиха. Хотелось только передать более общие, глубокие впечатления. Я говорил не только о форме, но и о самом существе его искусства. Я хотел отметить ту новую струю, которую он внес во французскую поэзию.
Стефан Малларме
Рядом с Верленом Стефан Малларме тоже оказал непосредственное влияние на наших современных поэтов. Оба были «парнасцами», оба были, прежде всего, последователями Бодлера.
- Per me si va tra la perduta gente[15].
Ими начинается длинный спуск с печальной высоты к скорбному миру «Цветов Зла». Вся современная литература, в особенности та ее часть, которую принято называть символической, известна под именем бодлеровской, конечно, не по внешним ее техническим приемам, а по ее внутреннему стилю, по ее тяготению ко всему таинственному, по ее стремлению уловить язык природы в ее отдельных явлениях, по ее готовности слиться с неясной мыслью, разлитой в темных пространствах мира, как это говорится в стихотворении, так часто повторяемом:[16]
- Природа – строгий храм, где строй живых
- колонн
- Порой чуть внятный звук украдкою уронит;
- Лесами символов бредет, в их чащах тонет
- Смущенный человек, их взглядом умилен,
- Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
- Где все едино, свет и ночи темнота,
- Благоухания, и звуки, и цвета
- В ней сочетаются в гармонии согласной.
Перед тем как умереть, Бодлер прочел первые стихи Малларме. Он встревожился: поэты не любят оставлять после себя никаких преемников, они хотели бы стоять в одиночестве, унести с собою в могилу свой гений. Но Малларме был бодлеристом только в смысле филиации поколений. Столь ценная оригинальность этого поэта очень быстро определилась: его «Proses»[17], его «Aprs-Midi d'un Faune»[18], его «Sonnets»[19] явили миру всю очаровательную тонкость и проницательность его гения, то выдержанно спокойного, то презрительно высокомерного, то царственно нежного. Сознательно убив в себе всю непосредственность простых и живых восприятий, он из поэта превратился в настоящего виртуоза. Он полюбил слова за их возможное значение больше, чем за их действительный смысл. Из слов этих он творил мозаику, в изысканности которой была своя простота. О нем справедливо говорили, что он так же труден, как Перс, как Марциал. Подобно андерсеновскому человеку, который ткал невидимые нити, Малларме собирал драгоценные камни, горевшие отблеском его фантазии, не всегда в горизонте нашего зрения. Но было бы нелепостью предположить, что Малларме непонятен. Конечно, цитировать одно какое-нибудь стихотворение, неясное по своей оторванности от других – не лояльно, но следует сказать, что когда поэзия его хороша, она остается такою даже в отдельных своих фрагментах. И если в его книге позднейшего времени мы встречаем только обломки –