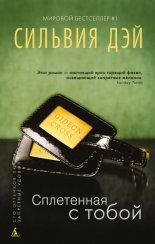Россия и Европа. Эпоха столкновения цивилизаций Данилевский Николай
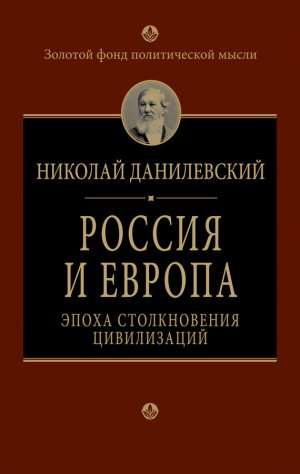
Глава I
1864 и 1854 годы. Вместо введения
Летом 1866 года совершилось событие огромной исторической важности. Германия, раздробленная в течение столетий, начала сплачиваться, под руководством гениального прусского министра[1], в одно сильное целое. Европейское status quo, очевидно, нарушено, и нарушение это, конечно, не остановится на том, чему мы были недавними свидетелями. Хитро устроенная политическая машина, ход которой был так тщательно уравновешен, оказалась расстроившеюся. Всем известно, что события 1866 года были только естественным последствием происшествий 1864 года. Тогда, собственно, произошло расстройство политико-дипломатической машины, хотя оно и не обратило на себя в должной мере внимания приставленных для надзора за нею механиков. Как ни важны, однако же, оказались последствия австро-прусско-датской войны 1864 года, я совсем не на эту сторону ее желаю обратить внимание читателей.
В оба года, которыми я озаглавил эту главу, на расстоянии десяти лет друг от друга, произошло два события, заключающие в себе чрезвычайно много поучительного для каждого русского, хотящего и умеющего вглядываться в смысл и значение совершающегося вокруг него. Представленные в самом сжатом виде, события эти состояли в следующем. В 1864 году Пруссия и Австрия, два первоклассные государства, имевшие в совокупности около 60 000 000 жителей и могущие располагать чуть не миллионною армиею, нападают на Данию, одно из самых маленьких государств Европы, населенное двумя с половиною миллионами жителей, не более, – государство невоинственное, просвещенное, либеральное и гуманное в высшей степени. Они отнимают у этого государства две области с двумя пятыми общего числа его подданных – две области, неразрывная связь которых с этим государством была утверждена не далее тринадцати лет тому назад Лондонским трактатом, подписанным в числе прочих держав и обеими нападающими державами[2]. И это прямое нарушение договора, эта обида слабого сильным не возбуждают ничьего противодействия. Ни оскорбление нравственного чувства, ни нарушение так называемого политического равновесия не возбуждают негодования Европы, ни ее общественного мнения, ни ее правительств, – по крайней мере, не возбуждают настолько, чтобы от слов заставить перейти к делу, – и раздел Дании спокойно совершается. Вот что было в 1864 году.
Одиннадцать лет перед этим Россия, государство, также причисляемое к политической системе европейских государств, правда, очень большое и могущественное, оскорбляется в самых священных своих интересах (в интересах религиозных) Турцией – государством варварским, завоевательным, которое хотя уже и расслаблено, но все еще одним только насилием поддерживает свое незаконное и несправедливое господство, государством, тогда еще не включенным в политическую систему Европы, целость которого поэтому не была обеспечена никаким положительным трактатом. На эту целость никто, впрочем, и не посягает. От Турции требуется только, чтобы она ясно и положительно подтвердила обязательство не нарушать религиозных интересов большинства своих же собственных подданных – обязательство не новое какое-либо, а уже восемьдесят лет тому назад торжественно данное в Кучук-Кайнарджийском мирном договоре[3]. И что же! Это справедливое требование, каковым признало его дипломатическое собрание первостепенных государств Европы, религиозные и другие интересы миллионов христиан ставятся ни во что; варварское же государство превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации и свободы. В 1854 году, как раз за десять лет до раздела Дании, до которого никому не было дела, Англия и Франция объявляют войну России, в войну вовлекается Сардиния, Австрия принимает угрожающее положение, и наконец вся Европа грозит войною, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действуют правительства Европы; общественное же ее мнение еще более враждебно и стремится увлечь за собою даже те правительства, которые, как прусское и некоторые другие германские, по разного рода побуждениям не желали бы разрыва с Россией. Откуда же это равнодушие к гуманной, либеральной Дании и эта симпатия к варварской, деспотической Турции, – эта снисходительность даже к несправедливым притязаниям Австрии с Пруссией и это совершенное неуважение к самым законным требованиям России? Дело стоит того, чтобы в него вникнуть. Это не какая-нибудь случайность, не журнальная выходка, не задор какой-нибудь партии, а коллективное дипломатическое действие всей Европы, то есть такое обнаружение общего настроения, которое менее всякого другого подвержено влиянию страсти, необдуманного мгновенного увлечения. Поэтому и выбрал я его за исходную точку предлагаемого исследования взаимных отношений Европы и России.
Прежде всего посмотрим, нет ли в отношениях Дании к Пруссии и Австрии какого-нибудь дерзкого вызова, словом, чего-нибудь извиняющего в глазах Европы это угнетение слабого сильным и, напротив того, в действиях России чего-либо оскорбившего Европу, вызвавшего ее справедливые гнев и негодование?
Мы не будем вникать в подробности шлезвиг-голштейнского спора между Германией и Данией, тянувшегося, как известно, целые семнадцать лет и, я думаю, мало интересного для русских читателей. Сущность дела в том, что Дания установила общую конституцию для всех своих составных частей – одну из самых либеральных конституций в Европе, при которой, конечно, и речи не могло быть о каком-либо угнетении одной национальности другою. Но не того хотелось Германии: она требовала для Голштейна конституции хотя бы и гораздо худшей, но зато такой, которая совершенно разрознила бы эту страну с прочими частями монархии, – требовала даже не личного соединения наподобие Швеции с Норвегией (это бы еще ничего), а какого-то примененного к целой государственной области права, вроде польского «не позволим»[4], пользуясь которым, чины Голштейна могли бы уничтожать действительность всякого постановления, принятого для целой Дании. Но Голштейн принадлежал к Германскому союзу, следовательно, этим путем достигалось бы косвенным образом господство союза над всею Датскою монархией. Это господство он считал для себя необходимым по тому соображению, что кроме Голштейна, в дела которого Германский союз имел право некоторого вмешательства[5], в состав Датского государства входил еще и Шлезвиг, страна по трактатам совершенно чуждая Германии, но населенная в значительной части немцами, которые ее мало-помалу колонизировали и из скандинавской обратили в чисто немецкую. В глазах всех немцев, сколько-нибудь интересовавшихся политикой, Шлезвиг составлял нераздельное целое с Голштейном; но такой взгляд не имел ни малейшей поддержки в основанном на положительных трактатах международном праве. Чтобы провести его на деле, необходимо было употребить Голштейн как рычаг для непрерывного давления на всю Данию. При этом средстве датское правительство могло бы провести в Шлезвиге те лишь только меры, которые были бы угодны Германии. Дания, очевидно, не могла на это согласиться, и патриотическая партия (так называемых эйдерских датчан) готова была совершенно отказаться от Голштейна, лишь бы только единство, целость и независимость остальной части монархии не нарушались беспрерывно чужеземным вмешательством. О тяжести такого вмешательства мы можем себе составить легкое понятие по собственному опыту. Вмешательство, основанное на придирчивых толкованиях некоторых статей Венского трактата, привело в негодование всю Россию[6]. Хорошо, что негодование России, будучи так полновесно, перетягивает на весах политики много дипломатических и иного рода соображений; но кто же обращает внимание на негодование Дании? К тому же у Дании руки были в самом деле связаны трактатом, не дававшим ей полной свободы распоряжаться формой правления, которую ей хотелось бы дать Голштейну. Об истинном смысле этого трактата шли между Данией и Германским союзом бесконечные словопрения. Каждая сторона толкует, конечно, дело в свою пользу; наконец и Германский союз, не отличавшийся-таки быстротою действия, теряет терпение и назначает экзекуцию в Голштейн. Голштейн принадлежит к Германскому союзу, и против такой меры нельзя еще пока ничего возразить. Но известное дело, что Германский союз, хотя узами его и было связано до пятидесяти миллионов народа, не внушал никому слишком большого уважения и страха, – ни даже крохотной Дании, которая, несмотря на союзную экзекуцию, преспокойно продолжает свое дело. Пруссия (или, точнее, г. Бисмарк), однако же, видит, что для нее, во всяком случае, это дело ничем хорошим кончиться не может. Возьмет верх Дания – пропали все планы на Кильскую бухту, флот, господство в Балтийском море, на гегемонию в Германии, одним словом, пропали все немецкие интересы, которых Пруссия себя считала и считает, и притом совершенно справедливо, главным, чуть ли не единственным представителем. Восторжествует Германский союз – Голштейн один, или вместе с Шлезвигом, обратится в самостоятельное государство, которое усилит собою в союзе партию средних и мелких государств, что, как весьма справедливо думает г. Бисмарк, только повредит прусской гегемонии. Надо и союзу не дать усилиться, надо и Голштейн с Шлезвигом прибрать к своим рукам, чтобы общегерманское, а с ним вместе и частнопрусское дело должным образом процвели. Следуя этим совершенно верным (с прусской точки зрения) соображениям, обеспечившись союзом с Австрией, которой во всем этом деле приходится своими руками для Пруссии жар загребать, г. Бисмарк вступается за недостаточно уваженный и оскорбленный Данией Германский союз и требует уничтожения утвержденной палатами, общей для всей монархии конституции, – хотя и в высшей степени либеральной, но вовсе не соответствующей ни общим видам Германии, ни частным видам Пруссии, – угрожая в противном случае войною. Дания с формальной стороны не была совершенно права, ибо – не будучи в состоянии исполнить невозможного для нее трактата, или, по крайней мере, исполнить его в том смысле, в каком понимала его Германия, – она решилась рассечь гордиев узел этою общей для всей монархии конституцией, которая, удовлетворяя, в сущности, всем законным требованиям как Голштейна, так и Шлезвига, устраняла, однако, совершенно вмешательство союза в дела этого последнего и делала его излишним для первого. Не будучи, таким образом, правою с формальной стороны, Дания, угрожаемая войной с двумя первоклассными государствами, легко могла уступить столь положительно выраженному требованию. Такую уступчивость необходимо было во что бы то ни стало предупредить. Средство к тому было найдено очень легкое. Для исполнения своего требования Пруссия и Австрия назначили столь короткий срок, что в течение его датское правительство не имело времени созвать палаты и предложить на их обсуждение требование этих держав. Таким образом, датское правительство было поставлено в необходимость или отвергнуть требования иностранных держав и навлечь на себя неравную войну, или нарушить конституцию своего государства; нарушить же конституцию при тогдашнем положении дел – при только что вступившем на престол и не успевшем еще на нем утвердиться государе, непопулярном по причине его немецкого происхождения, – значило бы, по всей вероятности, вызвать революцию. Датскому правительству ничего не оставалось, как избирать из двух зол меньшее. Оно и выбрало войну, имея, по-видимому, достаточные основания считать ее за зло меньшее. Во-первых, Дания уже вела подобную войну и с Пруссией и с Германией, не далее как 15 лет тому назад, и вышла из нее скорее победительницей, чем побежденной; она могла, следовательно, рассчитывать на подобный же исход и в этот раз. Соображение весьма хорошее – только при нем не было принято в расчет, что в тогдашней Германии существовал бестолковый франкфуртский парламент, а в тогдашней Пруссии не было Бисмарка. Кроме того, датское правительство могло надеяться, что политическая система государств, основанная на положительных трактатах, не пустое только слово, – что после того, как Европа около ста лет не переставала кричать о великом преступлении раздела Польши[7], она не допустит раздела Дании, – что примет же она во внимание приставленный к ее горлу нож и, по крайней мере, потребует от нападающих на нее государств, чтобы они дали ей время опомниться. Во всем этом она ошиблась. Война началась. Не приготовленные к ней датчане, конечно, понесли поражение. Чтобы положить конец этой невозможной борьбе, собралась в Лондоне конференция европейских государств. Нейтральные державы предложили сделку, при которой приняли во внимание победы, одержанные Пруссией и Австрией, но эта сделка не удовлетворила союзников; они продолжали настаивать на своем, и Европа, ограничив этим свое заступничество, предоставила им разделываться с Данией, как сами знают. Итак, если и можно считать Данию не совершенно правою с формальной стороны, то эта неправда была с избытком заглажена поступком Пруссии и Австрии, не только не давших Дании возможности отступиться от принятой ею слишком решительной меры, но воспользовавшихся этим только как предлогом для исполнения задуманной цели: отторжения от нее не только Голштейна, но и нераздельного с ним, по их понятиям, Шлезвига. Дипломатические обычаи, – почитающиеся охраною международного права, так же как юридические формы почитаются охраною права гражданского и уголовного, – были нарушены, и нарушителем их была не Дания, а Пруссия с Австрией. Следовательно, эти два государства, а не Дания, оскорбили Европу.
Но иногда незаконность, то есть формальная, внешняя несправедливость, прикрывает собою такую внутреннюю правду, что всякое беспристрастное чувство и мнение принимают сторону мнимой несправедливости. Было ли, например, когда-либо совершено более дерзкое, более прямое нарушение формального народного права, чем при образовании Кавуром и Гарибальди Итальянского королевства? Поступки правительства Виктора-Эммануила с Папскою областью и Неаполитанским королевством никаким образом не могут быть оправданы с легальной точки зрения[8]; и, однако же, всякий, не потерявший живого человеческого чувства и смысла, согласится, что в этом случае форма должна была уступить сущности, внешняя легальность – внутренней правде. Не таково ли и шлезвиг-голштейнское дело, не подходило ли и оно под категорию дел формально несправедливых, но оправдываемых скрытою под этой оболочкой внутреннею правдой, и не эта ли внутренняя правда обезоружила Европу? И на это придется отвечать отрицательно. Во-первых, национальное дело, имеющее своим защитником Австрию, может возбуждать только горький смех и негодование[9]. Во-вторых, принцип национальностей пока еще не признается, по крайней мере, официально, Европою и, без разного рода побочных соображений, сам по себе ничего не оправдывает в глазах ее. Даже справедливое дело Италии восторжествовало лишь в силу взаимных отношений между главнейшими государствами, так расположившихся, что на этот раз дело легальности не нашло себе защитников. В самом общественном мнении начало национальностей распространено лишь во Франции и в Италии, и то потому только, что эти страны считают его для себя выгодным. В-третьих, наконец, и это главное: принцип национальностей не применим вполне к шлезвиг-голштейнскому делу. Немецкий народ в 1864 году не составлял одного целого; он не имел политической национальности, и, пока она не образовалась, во имя чего он мог требовать отделения Голштейна и Шлезвига от Дании, не требуя в то же время уничтожения Баварии, Саксонии, Липпе-Детмольда, Саксен-Альтенбурга и т. п. как самостоятельных политических единиц? Правда, между разными немецкими государствами существовала слабая политическая связь, именовавшаяся Германским союзом; но точно таким же членом союза, как Бавария и Пруссия, Липпе и Альтенбург, был и Голштейн. Шлезвиг, конечно, не принадлежал к союзу; но если и не обращать внимания на то, что эта датская область была только колонизирована немцами, и придерживаться исключительно принципа этнографического, совершенно отвергая историческое право, то и с этой точки зрения крайним пределом немецких требований все-таки могло быть только присоединение Шлезвига к Германскому союзу, а не совершенное отделение и Голштейна, и Шлезвига от Дании. (…) Если, следовательно, немецкий народ не составлял политической национальности, если значительная доля его была соединена под одним управлением с другими национальностями, то он мог справедливо требовать от Дании только того, чтобы немецкая национальность не угнеталась в Голштейне и Шлезвиre, а пользовалась равноправностью с датской; но этого и требовать было нечего, это исполнялось и без всяких требовании.
Представим себе, что первоначальный план Наполеона III относительно Италии осуществился бы[10]. Она составляла бы – наподобие германского – итальянский союз, в состав которого входило бы и Венецианское королевство, оставаясь, однако же, в соединении с Австрией. На каких основаниях мог бы тогда король сардинский в союзе с королем неаполитанским требовать от Австрии отделения Венеции, если бы итальянская национальность в ней ничем не угнеталась и вообще права венецианцев не нарушались бы? Такое положение дел итальянцы могли бы считать – и совершенно основательно – весьма неудовлетворительным. Но главною причиною неудовлетворительности была бы не принадлежность Венеции Австрии, а раздельность итальянских государств при единой итальянской народности; и только сплетясь сама в одно политическое целое, имела бы эта народность если не формальное, на трактатах основанное, то прирожденное естественное право требовать своего дополнения от Австрии. Подобного права нельзя отрицать и у Германии, но прежде надлежало бы ей соединиться в одно политическое немецкое целое, отделив от себя все не немецкое, требующее самостоятельной национальной жизни, а тогда уже требовать своего и от других. Наконец, с национальной точки зрения восстановления нарушенного германского национального права мог, во всяком случае, требовать только Германский союз, как это и было вначале, а он был, очевидно, оттеснен далее чем на задний план после того, как все здесь приняли в свои руки Пруссия и Австрия.
Впрочем, так ли это или не так, дело, собственно, идет тут вовсе не о том, чтобы неопровержимо доказать существенную несправедливость поступка Пруссии и Австрии с Данией; мы хотим лишь показать, что в глазах Европы внутренняя правда шлезвиг-голштейнского дела не могла оправдать его нелегальности. Для нас важно не то, каково это дело само в себе, но то, каким оно представлялось глазам Европы; а едва ли кто решится утверждать, что оно пользовалось симпатией европейских правительств и европейского (за исключением германского, конечно) общественного мнения. Во мнении Европы, к нарушениям формы международных отношений присоединялась здесь и неосновательность самой сущности прусско-австрийско-немецких притязаний. Почему же, спрашивается, не вооружили эти притязания против себя Европы? Очевидно, что не виновность Дании и не внешняя или внутренняя правота Пруссии и Австрии были тому причиной. Надо поискать иного объяснения.
Но прежде обратимся за десять или одиннадцать лет назад к более для нас интересному восточному вопросу.
По требованию Наполеона[11], выгоды которого заставляли льстить католическому духовенству, турецкое правительство нарушило давнишние исконные права православной церкви в Святых Местах. Это нарушение выразилось главнейше в том, что ключ от главных дверей Вифлеемского храма[12] должен был перейти к католикам. Ключ сам по себе, конечно, вещь ничтожная, но большею частью вещи ценятся не по их действительному достоинству, а по той идее, которую с ними соединяют. Какую действительную цену имеет кусок шелковой материи, навязанный на деревянный шест? Но этот кусок шелковой материи на деревянном шесте называется знаменем, и десятки, сотни людей жертвуют жизнью, чтобы сохранить знамя или вырвать его из рук неприятеля. Это потому, что знамя есть символ, с которым неразрывно соединена во мнении солдат военная честь полка.
Подобное же значение имел и Вифлеемский ключ. В глазах всех христиан Востока с этим ключом было соединено понятие о первенстве той церкви, которая им обладает. Очевидно, что для магометанского правительства Турции, совершенно беспристрастного в вопросе о преимуществе того или другого христианского вероисповедания, удовлетворение желания большинства его подданных, принадлежащих к православной церкви, долженствовало быть единственною путеводною нитью в решении подобных спорных вопросов. Невозможно представить себе, чтобы какое-либо правительство, личные выгоды, мнения или предрассудки которого нисколько не затронуты в каком-либо деле, решило его в интересах не большинства, а незначительного меньшинства своих подданных, и притом вопреки исконному обычаю, и тем без всякой нужды возбудило неудовольствие в миллионах людей. Для такого образа действий необходимо предположить какую-либо особую побудительную причину. Страх перед насильственными требованиями Франции тут ничего не объясняет, потому что Турции не могло не быть известно, что от нападения Франции она всегда нашла бы поддержку и защиту в России, а, вероятно, также в Англии и в других государствах Европы, как это было в 1840 году[13]. Очевидно, что эта уступка требованиям Франции была для Турции желанным предлогом нанести оскорбление России. Религиозные интересы миллионов ее подданных нарушались потому, что эти миллионы имели несчастье принадлежать к той же церкви, к которой принадлежит и русский народ.
Могла ли Россия не вступиться за них, могло ли русское правительство – не нарушив всех своих обязанностей, не оскорбив религиозного чувства своего народа, не отказавшись постыдным образом от покровительства, которое оно оказывало восточным христианам в течение столетий, – дозволить возникнуть и утвердиться мысли, что единство веры с русским народом есть печать отвержения для христиан Востока, причина гонений и притеснений, от которых Россия бессильна их избавить; что действительное покровительство можно найти только у западных государств, и преимущественно у Франции? Кроме этого, для всякого беспристрастного человека ясно, что самое требование Франции было не что иное, как вызов, сделанный России, не принять которого не позволяли честь и достоинство. Этот спор о ключе, который многие даже у нас представляют себе чем-то ничтожным, недостойным людей, имеющих счастье жить в просвещенный девятнадцатый век, имел для России, даже с исключительно политической точки зрения, гораздо более важности, чем какой-нибудь вопрос о границах, спор о более или менее обширной области; со стороны Франции был он, конечно, не более как орудием для возбуждения вражды и нарушения мира. Так понимало в то время это дело само английское правительство.
На справедливое требование России турецкое правительство отвечало обещанием издать фирман, подтверждающий все права, коими искони пользовалась православная церковь, – фирман, который долженствовал быть публично прочитан в Иерусалиме. Это обещание не было исполнено; обещанный фирман не был прочитан, хотя этого чтения ожидало все тамошнее православное население. Россия была недостойным образом обманута, правительство ее выставлено в смешном и жалком виде бессилия, между тем как все требования Франции были торжественно выполнены. Что оставалось делать после этого? Могла ли Россия довольствоваться обещаниями Турции, могла ли давать им малейшую веру? Не говоря уже о нанесенном ей оскорблении, не должна ли была она думать, что Турция, после столь счастливого начала, так благополучно сошедшего ей с рук, могла, когда ей только вздумается, отнимать одно за другим права православной церкви, чтобы показать несчастным последователям ее тщету всякой надежды на Россию? Могла ли Россия не видеть, какое поприще открывалось для интриг латинства, которое умело ценить полученные им выгоды и, конечно, на них бы не остановилось. Чтобы предупредить это, оставалось одно средство: вытребовать у Турции положительное обязательство, выраженное в форме какого-либо дипломатического договора, что все права, которыми пользовалась доселе православная церковь, будут навсегда сохранены за нею. Можно ли было требовать меньшего, когда эти права только что были нарушены, а обещание восстановить их фирманом не исполнено? Не самая ли натуральная вещь – требовать формального обязательства или контракта от того, кто показал, что его слову, его простому обещанию нельзя давать веры? Требование Россией этого формального обязательства назвали требованием покровительства над православною церковью в Турецкой империи и нарушением верховных прав этой последней. Конечно, это было требование покровительства; но что же было в этом нового и странного, чтобы возбудить такое всеобщее против России негодование? Уже около 80 лет, именно с 1774 года, Россия имела формальное, выраженное в трактате право на такое покровительство[14]; требовалось только более ясное и точное определение его. Фактическое же право покровительства, проистекающее не из трактатов, а из сущности вещей, Россия имела всегда и всегда им пользовалась с тех пор, как сделалась достаточно для того сильною. Такое фактическое право имели спокон века все государства, когда чувствовали, что какое-либо дорогое для них дело терпело притеснение в иностранном государстве. Так протестантские государства нередко покровительствовали протестантскому вероисповеданию в католических государствах. Так Россия и Пруссия оказывали покровительство диссидентам, православным и протестантам, угнетаемым в бывшем королевстве Польском[15]. Так, уже после Восточной воины, Франция оказала даже вооруженное покровительство сирийским христианам. И не в одном религиозном отношении оказывалось такое покровительство. Не сочли ли себя Англия и Франция вправе покровительствовать всем вообще неаполитанским подданным, по их мнению (впрочем, совершенно справедливому), жестоко и деспотически управляемым, и требовать от неаполитанского короля улучшения в способе и форме его управления? Не покровительствовала ли Франция бельгийцам, восставшим против Голландии? Если, таким образом, покровительство дорогим для одного государства интересам, угнетаемым в другом, всегда фактически существовало и, несмотря ни на какую теорию невмешательства, всегда будет существовать (как основанное на самой сущности вещей), то что же ужасного и оскорбительного в том, ежели это естественное право покровительства получает формальное выражение в трактате? Римский двор заключает конкордаты с католическими и даже с некатолическими государствами, которыми выговаривает, дипломатическим путем, известные права для католической церкви в этих державах, и такие конкордаты не считаются, однако же, нарушениями верховенства этих государств. Вестфальским миром заключившие его государства обязались друг перед другом не стеснять прав своих подданных, не принадлежащих к господствующей в них религии[16]. Иногда это постановление не исполнялось католическими державами; протестанты вмешивались в это дело и вынуждали исполнение трактата. Так, Фридрих-Вильгельм, отец Фридриха Великого, два раза оказал весьма действительное покровительство угнетенным протестантам в Зальцбурге. Правда, что в Вестфальском договоре обязательство было взаимное; но в отношениях России к Турции в этой взаимности не было никакой надобности, ибо магометанские подданные России никогда никаких притеснений не терпели. Конечно, на трактатах основанное право чужеземного покровительства над частью подданных другого государства не может быть для него приятно; но что же делать, если оно служит только выражением действительно существующей потребности? Единственное средство избегнуть этой неприятности – уничтожить самый факт, обусловливающий необходимость иностранного покровительства; пока же самый факт будет существовать, то неосвящение покровительства формальностью договора нисколько сущности дела не изменяет. Можно даже сказать, что через такое формальное признание права покровительства и вмешательства, в ясно определенных случаях, уменьшаются шансы к фактическому применению этого права. В самом деле, разве Россия в 1853 году и без дипломатической ноты и вообще без всякого определительного дипломатического договора, которого она стала себе требовать в этом году, – что будто бы так напугало Европу, – не вмешалась в дела Турции, не приняла на себя покровительства православной церкви? А наоборот, если бы такой положительный, ясный и определительный договор существовал до того времени, то не воспрепятствовал ли бы он Турции в ее враждебном к большинству ее же подданных поступке и тем не отклонил ли бы фактического вмешательства России? Но какие бы кто ни имел понятия о допускаемости или недопускаемости договоров, дающих одному государству формальное право на покровительство части подданных другого государства, – право, которое и без договора фактически всегда существует, одно останется несомненным, что договор, выраженный в точных и определенных выражениях, всегда предпочтительнее договора, дающего место неопределенным толкованиям, договора, вводящего одну сторону в соблазн уменьшать принятые ею на себя обязательства, а другую – преувеличивать свои права. В настоящем случае дело и шло именно только о такой замене одного договора другим, чтобы предупредить на будущее время подобные столкновения и необходимость фактического вмешательства. Если подобные договоры нарушают верховенство государства, то нарушение это было уже сделано 80 лет тому назад; теперь ему придавалась только безвредная форма. Все, о чем можно было толковать, состояло, следовательно, только в том, чтобы принятая форма была вместе с этим и самая безобидная, наиболее удовлетворяющая щепетильной заботливости европейских государств о достоинстве Турции, а в этом отношении уступчивости России не было пределов. Она не действовала нахрапом, как германские союзники против Дании, и, когда великие европейские державы предложили свое посредничество, она приняла его, предоставив их благоусмотрению определение выражений, в которых Турция должна была удовлетворить ее требованиям. Сама зачинщица дела – Франция – составила проект ноты; дипломатические представители великих европейских держав одобрили и приняли его. Так составилась знаменитая Венская нота[17]. Россия, признав посредничество держав, безусловно приняла решение посредников. Казалось бы, дело кончено. Если и могли прежде, основательно или неосновательно, предполагать со стороны России честолюбивые намерения, она, видимо, отказывалась от них, принимая решение коллективной дипломатической мудрости Европы. Ясное дело, что намерение ее ограничивалось получением, во-первых, удовлетворения за нарушение прав ее единоверцев, естественной покровительницей которых, по самой сущности вещей, она всегда была, есть и будет, по трактатам или без них; во-вторых, обязательства, выраженного, хотя бы в самой деликатной для турецкого самолюбия форме, в том, что впредь таких нарушений не будет. И что же, Турция отвергает эту, составленную четырьмя великими державами и принятую Россией, ноту, делая в ней такие изменения, которые лишают ее всякого значения и обязательного смысла. Самый факт изменения ноты был уже знаком неуважения – и не к одной России, но и к прочим четырем державам, если только они сами серьезно смотрели на свое дело, а не видели в нем ловушки, в которую надеялись поймать Россию, думая, что она не примет предложенного ими текста и что тогда можно будет обвинять ее сколько угодно в задних мыслях и тайных честолюбивых замыслах и, умывая руки, взвалить на нее всю ответственность за последствия. Турция, неизвестно откуда, набирается духу объявить России войну и находит себе между подписавшими Венскую ноту двух явных и одного тайного союзника; только четвертый остается нейтральным зрителем.
Политические страсти удивительно отуманивают ум: самое прямое и бесспорное дело становится сомнительным и извращается в глазах пристрастного судьи. Попытаемся же перевести этот неслыханный образ действий из сферы политической в сферу частных отношений. Некто, считающий себя оскорбленным, требует удовлетворения от оскорбителя; во внимание к общим друзьям делает он уступку за уступкой в форме требуемой им сатисфакции, наконец соглашается предоставить все решению самих этих друзей – третейскому суду чести, как это, например, водится между военными и студентами; соглашается, несмотря на уверенность в том, что друзья эти большею частью ложные друзья, что один из них был даже подстрекателем в нанесенном ему оскорблении. Так убежден он в правоте своего дела. Друзья постановляют решение – заметьте: решение, предложенное самим подстрекателем, – и оскорбленный безусловно ему покоряется, считает его вполне для себя достаточным. Прибавим к этому, что оскорбленный, как не раз доказал, отлично владеет оружием, оскорбитель же плоховат в этом деле; тем не менее этот последний воодушевляется неожиданною храбростью, отвергает решение принятых им прежде посредников и вызывает своего противника на дуэль.
Друзья, конечно, приходят в негодование, объявляют себя сторонниками вызванного и настаивают на том, чтобы ему было сделано удовлетворение, признанное ими всеми за справедливое, – принуждают к этому так не к месту расхрабрившегося господина или, по крайней мере, оставляют поединщиков расправляться друг с другом, как сами знают? Ничуть не бывало; оказывается, что у друзей какие-то странные понятия о чести и справедливости. Расхрабрившийся, изволите ли видеть, куда какой плохой воитель, не справиться ему никак с вызванным им противником – это ясно, как дважды два четыре. Ну а долг рыцарской чести стоять за слабых и защищать от нападения сильных, да и неожиданный задор взялся ведь у него неоткуда, как от их же рыцарских нашептывании; честь, следовательно, велит стоять за него грудью. Так решают двое из друзей. Но ведь нужен же для этого какой-нибудь резон; а если не резон, то, по крайней мере, хоть предлог, и предлог по обыкновению находится, конечно, столь же странный, как и вся эта история. Оскорбленный и вызванный, из уважения ли к друзьям, по добродушию что ли, или уж так, Бог его знает почему, предлагает противнику такие условия боя: «Ты, брат, я знаю, плохо драться умеешь, так вот тебе что: если нападешь на меня, буду защищаться; повезет тебе – хорошо, твое счастье; а чуть неустойка, уходи за эту черту, и я уже за ней тронуть тебя не смею; беру в этом всех друзей в свидетели и поруки». Умно ли это или нет, уж не знаю; но зато великодушно в высшей степени, из рук вон как великодушно. Однако двум друзьям, подстрекателю и другому, и этого показалось мало: «Черта чертой, – это хорошо, – только ты еще руку и ногу дай себе связать, и стой на одной ноге, и одной только рукой дерись, а мы любоваться будем, как ты фокусы эти будешь выкидывать. Если же нет, то втроем на тебя нападем». Руки и ноги не дал себе связать великодушный воитель, – ну и предлог, слава тебе Господи, нашелся; а то куда в каких затруднениях были оба друга: драться – смерть как хочется, а драться не за что. Уговаривали они и третьего заодно с ними драться, да этому напрямик в драку лезть чересчур уж непристойно было: не дальше как пять лет тому назад обижаемый его из воды, что ли, или из огня вытащил, – когда тот уже совсем было захлебывался, или дымом задыхался, – одним словом, жизнь спас. Он и поднимается на хитрость. «Место, – говорит, – где вы драться думаете, у меня под боком; вашей дракой вы мешать мне будете; я пока займу его, а вы деритесь где знаете. Правда, место для тебя будет очень неудобно: и ветер, и солнце прямо в глаза тебе; из него нападать нельзя будет, только защищаться с грехом пополам; ну, да это уж твое дело; если ж не хочешь, то, пока те трое спереди нападать на тебя будут, я сзади за шиворот схвачу». Только четвертый отошел себе в сторону. «Моя, – говорит, – хата с краю, я ничего не знаю».
Как стали бы мы, спрашиваю, судить о подобных поступках? А в этой притче нет ни малейшего преувеличения или карикатуры, только простая перефразировка: суд чести – Венская конференция; черта – Дунай; рука и нога, которым надлежало быть связанными, – флот, которым Россия не должна была препятствовать подвозу оружия черкесам, и т. д. Разве, в самом деле, не Синопское сражение послужило более нежели странным предлогом к объявлению войны морскими державами[18]? Разве Австрия не требовала очищения и нейтралитета Дунайских княжеств, подвергая тем Россию ударам ее врагов и лишая ее возможности самой наносить их, заставляя вместо сухопутной вести морскую войну? Кто же тут, спрашивается, оскорбленный и обиженный? Не до очевидности ли ясно, что войны с Россией искали во что бы то ни стало? Не Франция ли с самого начала нарушила своими неумеренными требованиями мир между соперничествующими церквами и заставила Россию вступиться за своих единоверцев? Не Турция ли после сего обманула Россию, не сдержав данного обещания о фирмане? Не Франция ли опять, придвинув свой флот к Дарданеллам, вынудила Россию к занятию Дунайских княжеств[19]? Затем, когда Россия согласилась предоставить решение спора посредничеству четырех великих держав и безусловно приняла предложенный ими текст ноты, не западные ли державы, а преимущественно не Англия ли через своего посланника, постоянно враждебного России лорда Редклифа, подстрекнула Турцию не принимать ее и, – чтобы разом покончить с дипломатией, посредством которой никак не удавалось выставить Россию зачинщицей дела, – прямо объявить ей войну?
Есть ли, в самом деле, малейшая возможность думать, чтобы Турция решилась пренебречь мнением всей Европы и, отвергнув его, объявить войну России при убеждении, что предложенная ей нота составляла не ловушку, а действительное, честно выраженное мнение Европы, и без подстрекательства обещанием самой деятельной помощи? Наконец, не дики ли требования западных держав, чтобы Россия, будучи в войне с Турцией, спокойно смотрела на то, как будут подвозить оружие и вообще помогать черкесам[20], и употребляла для своей защиты одну лишь армию, но никак не флот? Не эти ли нелепые требования, по необходимости ею отвергнутые, послужили предлогом к войне? Что же сказать еще о требованиях Австрии, которая, выгораживая Турцию, вносит войну в пределы самой России? Что сказать, наконец, о Сардинии, так себе, здорово живешь, ни с того ни с сего объявляющей войну России не только уж без причины, но даже и без малейшей тени предлога? Неужели все это не показывает какого-то озлобления, какой-то решимости пренебречь всем, лишь бы только удовлетворить своему желанию унизить Россию, когда к тому представляется наконец благоприятный, по-видимому, случай? Все это становится особливо любопытным, если сравнить такое озлобление против России с той снисходительностью, которая была оказана к действиям Пруссии и Австрии относительно Дании. И если б еще можно было отнести это к макиавеллизму дворов или только правительственных сфер европейских держав, увидавших благоприятный случай поживиться на счет России, – совсем нет! В настоящее время интриги вроде замыслов кардинала Альберони стали совершенно невозможны. Все европейские правительства должны соображаться с настроением общественного мнения и весьма часто даже вынуждаются им к действиям. Так было и в восточном вопросе. Правительство Англии, т. е. министерство Абердина, было не только миролюбиво, но даже дружественно расположено к России; то же самое должно сказать и о большей части германских правительств. Одна только сила общественного мнения принудила Англию к войне и сменила министерство за то, что оно не вело войны с достаточной энергией. Столь же враждебно, если еще не более, было это мнение в Пруссии и в остальной Германии и если не увлекло их в войну, то потому, что не получило еще там такого могущества, как в Англии. Каждый успех, одержанный не только западными державами, но даже и турками, праздновался везде как успех общего дела всей Европы. Правда, что новое правительство Франции искало случая к войне; но почему же выбрало оно именно эту войну, которая сама по себе не представляла ему никаких положительных выгод, была даже противна здраво понятым политическим интересам Франции? А Наполеон, конечно, понимал их здраво. Но он знал, что это будет самая популярная в Европе война, единственная, способная примирить ее с Наполеоновской династией, на которую она вообще смотрела с недоверием и недоброжелательством; и результат вполне оправдал такой расчет.
Следовательно, в этом деле общественное мнение Европы было гораздо враждебнее к России, нежели ее правительственные дипломатические сферы. Совершенно наоборот, в шлезвиг-голштейнском вопросе общественное мнение вне Германии хотя вообще и не одобряло действий Австрии и Пруссии и стояло почти повсеместно за Данию, но было вообще холодно, вяло, не имело той стремительности, которая увлекает за собой правительства, и потому оставляло им не только полную свободу действовать по усмотрению их благоразумия, но даже высказывалось как в журналах, так и в многочисленных митингах против войны. Откуда же, спрашивается опять, это меряние разными мерами и это вешание разными весами, когда дело идет о России и о других европейских государствах? Представленный разбор и тщательное сравнение шлезвиг-голштейнского вопроса с восточным в их сущности и в их форме не дает, как мы видели, ключа к этой загадке, а, напротив, еще более затрудняет ее отгадку. Не возбудила ли Россия своими прежними делами, своими насилиями справедливых опасений и негодования Европы, так что Европа воспользовалась первым представившимся случаем, чтобы рассчитаться за прошедшее и оградить себя в будущем? Посмотрим, может быть, оно и в самом деле так!
Глава II
Почему Европа враждебна России?
- Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбленья
- Тысячеглавой лжи газет,
- Измены, зависти и страха порожденья.
- Друзей у нашей Руси нет!
«Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» Да, ландкартное давление действительно существует, но где же оно на деле, чем и когда выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное развитие различных ее национальностей, и большого труда стоило ей освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков был повод к этим вмешательствам? В 1799-м, в 1805-м, в 1807 гг. сражалась русская армия, с разным успехом, не за русские, а за европейские интересы[21]. Из-за этих же интересов, для нее, собственно, чуждых, навлекла она на себя грозу двенадцатого года; когда же смела с лица земли полумиллионную армию и этим одним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она не остановилась на этом, а, вопреки своим выгодам, – таково было в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской партии, – два года боролась за Германию и Европу и, окончив борьбу низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщения Европы, как спасла Европу от угнетения Франции. Спустя тридцать пять лет она опять, едва ли не вопреки своим интересам, спасла от конечного распадения Австрию, считаемую, справедливо или нет, краеугольным камнем политической системы европейских государств[22]. Какую благодарность за все это получала она как у правительств, так и у народов Европы – всем хорошо известно, но не в этом дело. Вот, однако же, все, чем ознаменовалось до сих пор деятельное участие России в делах Европы, за единственным разве исключением бесцельного вмешательства в Семилетнюю войну[23]. Но эти уроки истории никого не вразумляют. Россия, – не устают кричать на все лады, – колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана[24], какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем этом справедливого? Посмотрим сначала на завоевательность России. Конечно, Россия немала[25], но большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного расселения, а не государственного завоевания. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область – столь же естественную, как, например, Франция, только в огромных размерах, – область, резко означенную со всех сторон (за некоторым исключением западной) морями и горами. Область эта перерезывается на два отдела Уральским хребтом, который, как известно, в своей средней части так полог, что не составляет естественной этнографической перегородки. Западная половина этой области прорезывается расходящимися во все стороны из центра реками: Северною Двиною, Невою – стоком всей озерной системы, Западною Двиною, Днепром, Доном и Волгою точно так же, как в малом виде Франция: Маасом, Сеною, Луарою, Гаронною и Роною. Восточная половина прорезывается параллельным течением Оби, Енисея и Лены, которые также не разделены между собою горными преградами. На всем этом пространстве не было никакого сформированного политического тела, когда русский народ стал постепенно выходить из племенных форм быта и принимать государственный строй. Вся страна была или пустыней, или заселена полудикими финскими племенами и кочевниками; следовательно, ничто не препятствовало свободному расселению русского народа, продолжавшемуся почти во все первое тысячелетие его истории, при полном отсутствии исторических наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место. Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснении от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял, если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях попранных народностей. Он или занимал пустыри, или соединял с собою путем исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние зыряне, черемисы, мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как армяне и грузины. Завоевание играло во всем этом самую ничтожную роль, как легко убедиться, проследив, каким образом достались России ее западные и южные окраины, слывущие в Европе под именем завоеваний ненасытимо алчной России. Но прежде надо согласиться в значении слова «завоевание». Завоевание есть политическое убийство или, по крайней мере, политическое изувечение; так как, впрочем, первое из этих выражений употребляется совершенно в ином смысле, скажем лучше: национальное, народное убийство или изувечение. Хотя определение это метафорическое, тем не менее оно верно и ясно. Впоследствии представится случай подробно изложить наши мысли о значении национальностей, но пока удовольствуемся афористическим положением, которое, впрочем, и не требует особенных доказательств в наше время, ибо составляет, в теории по крайней мере, убеждение большинства мыслящих людей: что всякая народность имеет право на самостоятельное существование в той именно мере, в какой сама его сознает и имеет на него притязание. Это последнее условие очень важно и требует некоторого разъяснения. Если бы, например, Пруссия покорила Данию или Франция Голландию, они причинили бы этим действительное страдание, нарушили бы действительное право, которое не могло бы быть вознаграждено никакими гражданскими или даже политическими правами и льготами, дарованными датчанам или голландцам; ибо, кроме личной и гражданской, кроме политической, или так называемой конституционной, свободы, народы, жившие самостоятельною государственною и политическою жизнью, чувствуют еще потребность, чтобы все результаты их деятельности – промышленной, умственной и общественной составляли их полную собственность, а не приносились в жертву чуждому им политическому телу, не терялись в нем, не составляли материала и средства для достижения посторонних для них целей. Они не хотят им служить, потому что каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу, которую должна решить, свою идею, свою отдельную сторону жизни, которые стремится осуществить, – задачу, идею, сторону жизни, тем более отличные и оригинальные, чем отличнее сама национальность от прочих в этнографическом, общественном, религиозном и историческом отношениях. Но необходимое условие для достижения всего этого составляет национально-политическая независимость. Следовательно, уничтожение самостоятельности такой национальности может быть по всей справедливости названо национальным убийством, которое возбуждает вполне законное негодование против его совершителя. К этому же разряду общественных явлений относится и то, что я назвал национальным изувечением. Италия, например, ощущала действительное страдание оттого, что часть ее – Венеция – оставалась присоединенной к чуждому ей политическому телу – Австрии, хотя это и не составляло непреодолимого препятствия к развитию ее национальной жизни; точно так, как отсечение руки или ноги не прекращает жизни отдельного человека, но, тем не менее, лишает ее той полноты и разносторонности проявлений, к которым она была бы способна без этого увечья. Исторический народ, пока не соберет воедино всех своих частей, всех своих органов, должен считаться политическим калекою. Таковы были в недавнее время итальянцы; таковы до сих пор греки, сербы и даже русские, от которых отделены еще три или четыре миллиона их галицких и угорских единоплеменников[26]. А сколько еще пока под спудом почивающих народностей, чающих своего воскресения! Сказанное здесь было бы, однако ж, несправедливо и неразумно относить и к таким племенам, которые не жили самостоятельною историческою жизнью, потому ли, что вовсе не имели для сего внутренних задатков, или потому, что обстоятельства для них сложились неблагоприятно и возможность их исторического развития была уничтожена в такой ранний период их жизни, когда они составляли только этнографический материал, еще не успевший принять формы политической индивидуальности, – так сказать, прежде, чем в них был вдунут дух жив. Такие племена – как, например, баски в Испании и Франции, кельты княжества Валисского[27] и наши многочисленные финские, татарские, самоедские, остяцкие и другие племена – предназначены к тому, чтобы сливаться постепенно и нечувствительно с той исторической народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений. Эти племена имеют, без сомнения, право на ту же степень личной, гражданской и общественной свободы, как господствующая историческая народность, но не на политическую самостоятельность, ибо, не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют, и даже чувствовать не могут. Нельзя прекратить жизни того, что не жило; нельзя изувечить тела, не имеющего индивидуального объединения. Тут нет, следовательно, ни национального убийства, ни национального увечья, а потому нет и завоевания. Оно даже невозможно в отношении к таким племенам. Самый этимологический смысл слова «завоевание» неприменим к подчинению таких племен, ибо они и сопротивления не оказывают, если при этом не нарушаются их личные, имущественные и другие гражданские права. Когда эти права остаются неприкосновенными, им, собственно, и защищать более нечего.
После этого небольшого отступления, необходимого для уяснения понятия о завоевании, начнем наш обзор с северо-западного угла Русского государства, с Финляндии – прямо с одного из политических преступлений, в которых нас укоряет Европа. Было ли тут завоевание в том именно значении национального убийства, которое придает ему ненавистный, преступный характер? Без сомнения, нет, так как не было и национальности, которую лишили бы при этом своего самостоятельного существования или изувечили отделением какой-либо составной ее части. Финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России, никогда не жило историческою жизнью. Коль скоро нет нарушения народной самостоятельности, то политические соображения относительно географической округленности, стратегической безопасности границ и т. п., сами по себе еще не могущие оправдать присоединения какой-либо страны, получают свое законное применение. Россия вела войну с Швецией, которая с самого Ништадтского мира не могла привыкнуть к мысли об уступке того, что по всем правам принадлежало России[28], и искала всякого, по ее мнению, удобного случая возобновить эту войну и возвратить свои прежние завоевания. Россия победила и приобрела право на вознаграждение денежное, земельное или другое, лишь бы оно не простиралось на часть самой Швеции, – ибо национальная территория неотчуждаема, и никакие договоры не могут освятить в сознании народа такого отчуждения, пока отчужденная часть не потеряет своего национального характера. Тогда, конечно, но только тогда, приходится покориться невозвратно. Но мало сказать, что присоединением Финляндии от Швеции к России ничьи существенные права не были нарушены, выгоды самой Финляндии, т. е. финского народа, ее населяющего, более, чем выгоды России, требовали перемены владычества. Государство, столь могучее, как Россия, могло в значительной мере отказаться от извлечения выгод из приобретенной страны; народность, столь могучая, как русская, могла без вреда для себя предоставить финской народности полную этнографическую самостоятельность. Русское государство и русская народность могли довольствоваться малым; им было достаточно иметь в северо-западном углу своей территории нейтральную страну и доброжелательную народность вместо неприятельского передового поста и господства враждебных шведов. Государство и народность русская могли обойтись без полного слияния с собою страны и народности финской, к чему, конечно, по необходимости, должна была стремиться слабая Швеция, в отношении к которой Финляндия составляла три четверти ее собственного пространства и половину ее населения. И действительно, только со времени присоединения Финляндии к России начала пробуждаться финская народность и достигла наконец того, что за языком ее могла быть признана равноправность со шведским в отношении университетского образования, администрации и даже прений на сейме. Сделанное Россией для финской национальности будет, без сомнения, оценено беспристрастными людьми; во враждебном лагере, конечно, возбуждает оно пока только негодование, доходящее иногда до смешного. В мою бытность в Норвегии меня серьезно уверял один швед, что русское правительство, из вражды к Швеции, искусственно вызвало финскую национальность и сочинило, с этой именно целью, эпическую поэму «Калевала». Удивительное правительство, которое, по отзывам поляков, указами создает русский язык и научает ему своих монгольских подданных, а по отзывам шведов, сочиняет народные эпосы!
За Финляндией, пропуская Ингерманландию[29], – за обладание которой на нас, кажется, не сыплется укоров, хотя и она была отбита у шведов, – мы встречаем так называемые немецкие Остзейские провинции (die deutschen Ostsee Provinzen), то есть немецкие владения по берегам Балтийского моря. По названию можно, пожалуй, подумать, что дело идет о завоеванных и отторгнутых русскими от Священной Римской империи или от заменившего ее Германского союза провинциях Пруссии и Померании, составляющих в настоящее время единственные действительно немецкие провинции при Балтийском море, а не о населенном эстами и латышами пространстве от Чудского озера и реки Нарвы до прусской границы исконной принадлежности России, где еще Ярослав основал Юрьев, переименованный потом в Дорпат[30], – о пространстве, на поселение в котором первые рижские епископы считали нужным испрашивать дозволение у полоцких князей. Кто был завоевателем в этой стране: русские ли, то есть славяне, которые, в союзе с разными чудскими племенами, положили основание Русскому государству и мирными путями вносили христианство с зачатками образованности в эту прибалтийскую страну точно так же, как и в прочие части своей, составляющей одно физическое целое государственной области, – или незваные и непрошеные немецкие искатели приключений, явившиеся сюда огнем и мечом распространять духовное владычество пап, обращать туземцев в рабство и присваивать чужую собственность? Россия никогда не признавала этого вторжения пришельцев! Псков и Новгород, стоявшие здесь на страже земли Русской в тяжелую татарскую годину, не переставали протестовать против него с оружием в руках. Когда же Москва соединила в себе Русь, она сочла своим первым долгом уничтожить рыцарское гнездо и возвратить России ее достояние. Первое удалось на первых же порах, но сама страна перешла в руки Польши и Швеции, и борьба за нее соединилась с борьбою за прочие области, отторгнутые этими государствами от России. Но это только еще одна сторона дела; самое присоединение главной части Прибалтийского края совершилось даже не вопреки желанию пришлого дворянства, а по его же просьбам и наущениям, при стараниях и помощи его представителя – героя Паткуля[31]. Можно утверждать, что для самого народа, коренного обладателя страны, эстов и латышей, Россия хотя и сделала уже кое-что, однако ж, далеко не все, чего могли они от нее ожидать; но, конечно, не за это упрекает ее Европа, не в этом видит она ту черту, по которой в ее глазах присоединение Прибалтийского края имеет ненавистный завоевательный характер. Совершенно напротив, в том немногом, что сделано – или, лучше сказать, в том, чего она опасается со стороны России, – для истинного освобождения народа и страны, она и видит, собственно, русскую узурпацию, оскорбление германской и вообще европейской цивилизации.
За Прибалтийскими областями начинается страна, известная ныне под именами Северо-Западного и Юго-Западного края, а прежде именовавшаяся польскими провинциями. Недалеко то время, когда было бы нелишним исписать не одну страницу всевозможных доказательств для убеждения в том, что это русский край, что Россия никогда его не завоевывала: ибо нельзя завоевать того, что наше без всякого завоевания, всегда таким было, всегда даже таким считалось всем русским народом, пока в высших слоях его не начали иссякать живой народный смысл и живое народное чувство, – пока, вследствие того, многие из этих слоев не допустили отуманить свой ум нелепыми гуманитарными бреднями, не имеющими даже достоинства искренности и беспристрастия. Поляки и Европа взяли на себя, к счастью, труд несколько протрезвить русских в этом отношении[32], и хотя, к сожалению, несмотря на все свои старания, не столько еще успели в этом, как бы следовало желать, – так крепко забились гуманитарные бредни в русские головы, – достигли, однако же, того, чего не сделали бы самые основательные и длинные диссертации, – избавили от труда доказывать, что Северо-Западный и Юго-Западный край – точно такая же Россия и на точно таких же основаниях, как и самая Москва.
Но в Северо-Западном крае есть небольшая землица, именно Белостоцкая область, на которой не лишним будет несколько остановиться. Эта область, вместе с северною частью нынешнего Царства Польского, Познанским герцогством и Западной Пруссией, досталась при разделе Польши на долю Пруссии. В седьмом году, по Тильзитскому миру, она отошла к России[33]. Сколько возгласов по этому случаю в немецких сочинениях о вероломстве России, постыдно согласившейся принять участие в разграблении бывшей своей несчастной союзницы! Стоит только бросить взгляд на карту, чтоб убедиться в недобросовестности такого обвинения.
Белостоцкая область прилегает к восточной границе Царства Польского. Из северной части теперешнего Царства, к которой через два года присоединена была и южная, и из По-знанской провинции составил Наполеон герцогство Варшавское. Этим была разорвана связь между Белостоцкой областью и уцелевшими от разгрома прусскими владениями. Для Пруссии, следовательно, Белостоцкая область была, во всяком случае, потеряна; Пруссии оставалось одно из двух: видеть ее или в руках враждебного ей Варшавского герцогства, соединенного с враждебной же Саксонией, или в руках дружественной России. Могло ли тут быть сомнение в выборе самой Пруссии? Что касается до России, то очевидно, что она считала Белостоцкую область присоединяемою к ней не от Пруссии, – от которой эта область была уже отнята самим фактом образования Варшавского герцогства, – а от этого последнего, обеим им неприязненного государства. Где же тут вероломство? Впоследствии же, когда Царство Польское в возмездие за услуги, оказанные Россией Европе, было присоединено к России[34], Пруссия получила достаточное вознаграждение за отошедшую от нее часть Польши, а Белостоцкая область не могла быть ей возвращена, потому что оставалась отделенной от нее Царством Польским, как прежде герцогством Варшавским, которое (если не считать выделенного из него Познанского герцогства) переменило только название.
Не может ли, однако, самое Царство Польское назваться завоеванием России, так как в силу выше данного определения тут было, по-видимому, национальное убийство? Этот вопрос заслуживает рассмотрения, потому что в суждениях и действиях Европы, по отношению к нему, проявляется также – если еще не более, чем в восточном вопросе сравнительно с шлезвиг-голштейнским, – та двойственность меры и та фальшивость весов, которыми она отмеривает и отвешивает России и другим государствам.
Раздел Польши считается во мнении Европы величайшим преступлением против народного права, совершенным в новейшие времена, и вся тяжесть его взваливается на Россию. И это мнение не газетных крикунов, не толпы, а мнение большинства передовых людей Европы. В чем же, однако, вина России? Западная ее половина во время татарского господства была покорена Литвой, вскоре обрусевшей, затем через посредство Литвы – сначала случайно (по брачному союзу), а потом насильственно (Люблинской унией) – присоединена к Польше[35]. Восточная Русь никогда не мирилась с таким положением дел. Об этом свидетельствует непрерывный ряд войн, перевес в которых сначала принадлежал большею частью Польше, а со времени Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешел к России. При Алексее Михайловиче Россия не имела еще счастья принадлежать к политической системе европейских государств, и потому у нее были развязаны руки, и она была единственным судьей в своих делах. В то время произошел первый раздел Польши. Россия, никого не спрашиваясь, взяла из своего, что могла, – Малороссию по левую сторону Днепра, Киев и Смоленск, взяла бы и больше, если бы надежды на польскую корону не обманули царя и заставили упустить благоприятное время[36]. Раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия, мог бы совершиться уже тогда – с лишком за сто лет ранее, чем он действительно совершился, и, конечно, с огромною для России пользою, ибо тогда не бродили еще гуманитарные идеи в русских головах; и край был бы закреплен за православием и русской народностью прежде, чем успели бы явиться на пагубу русскому делу Чарторыйские с их многочисленными последователями и сторонниками, процветающими под разными образами и видами даже до сего дня[37]. Как бы то ни было, дело не было окончено, а едва только начато при Алексее, и раз упущенное благоприятное время возвратилось не ранее как через сто лет, при Екатерине II. Но почему же то, что было законно в половине XVII века, становится незаконным к концу XVIII? Самый повод к войне при Алексее одинаков – все то же утеснение православного населения, взывавшего о помощи к родной России. И если справедливо было возвратить Смоленск и Киев, то почему же было несправедливо возвратить не только Вильно, Подолию, Полоцк, Минск, но даже Галич, который, к несчастью, вовсе не был возвращен? А ведь в этом единственно и состоял раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия[38]! Форма была, правда, иная. В эти сто лет Россия имела счастье вступить в политическую систему европейских государств, и руки ее были связаны. Свое ли, не свое родовое достояние ты возвращаешь, как бы говорили ей соседи, нам все равно; только ты усиливаешься, и нам надобно усилиться на столько же. Положение было таково, что Россия не имела возможности возвратить по праву ей принадлежащего, не допуская в то же время Австрию и Пруссию завладеть собственно Польшей и даже частью России – Галичем, – на что ни та, ни другая, конечно, не имели ни малейшего права. Первоначальная мысль о таком разделе принадлежит, как известно, Фридриху[39], и в уничтожении настоящей Польши, в ее законных пределах, Россия не имела никакой выгоды. Совершенно напротив, Россия, несомненно, сохранила бы свое влияние на Польшу и по отделении от нее русских областей, тем более что в ней одной могла бы Польша надеяться найти опору против своих немецких соседей, которым (особенно Пруссии) было весьма желательно, даже существенно необходимо получить некоторые части собственной Польши. Но не рисковать же было России из-за этого войною с Пруссией и Австрией! Не очевидно ли, что все, что было несправедливо в разделе Польши, так сказать, убийство польской национальности, – лежит на совести Пруссии и Австрии, а вовсе не России, удовольствовавшейся своим достоянием, возвращение которого не только составляло ее право, но и священнейшую обязанность. Или найдутся, быть может, гуманитарные головы, которые скажут, что великодушие требовало от России скорее отказаться от принадлежащего ей по праву, чем согласиться на уничтожение самой Польши? Ведь это все, чем можно упрекнуть Россию, став на самую донкихотскую точку зрения. Такой образ действий был бы, пожалуй, возможен, если бы Польша иначе поступала со своими русскими и православными подданными; в данных же обстоятельствах это было бы смешным и жалким великодушничаньем на чужой счет. Если бы частный человек, лишенный части своего достояния, для возвращения его принужден был, не имея возможности этого иначе достигнуть, войти в соглашение с соседями, заведомо желающими воспользоваться сим благоприятным случаем, дабы без малейшего на то права захватить и ту долю собственности неправого владельца, которая, несомненно, ему принадлежит, – мы, без сомнения, должны были бы сказать, что он поступил несогласно с правилами христианской нравственности. Но применение этих правил к междугосударственным и даже международным отношениям было бы странным смешением понятий, доказывающим лишь непонимание тех оснований, на которых зиждутся эти высшие нравственные требования. Требование нравственного образа действий есть не что иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нравственный закон. Собственно говоря, это тождественные понятия. Но единственное основание для самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней сущности человека; ибо для того, чтобы строгий закон нравственности или самопожертвования не был нелепостью, заключающей в себе внутреннее противоречие, очевидно, необходимо, чтобы он вытекал из внутренней природы того, кто должен на его основании действовать, точно так же, как и во всех природных, или, что то же самое, божественных законах. (…) Но если для человека все оканчивается здешнею жизнью, то, без сомнения, и законы его деятельности не могут ниоткуда иначе почерпаться, как из требований этой же жизни, – из того, что составляет ее сущность, то есть из требований временного спокойствия, счастья, благоденствия, в которых каждое существо находит конечную и даже единственно вообразимую цель своего бытия. Только в том случае, ежели не в этом, заключается внутренняя потребность нашей сущности, духа, как мы его называем, – если в нем содержится нечто иное, неисчерпываемое содержанием временной земной жизни, – может быть выставляемо и иное начало для его деятельности, начало нравственности, любви и самопожертвования. Но государство и народ суть явления преходящие, существующие только во времени, и, следовательно, только на требовании этого их временного существования могут основываться законы их деятельности, то есть политики. Этим не оправдывается макиавеллизм, а утверждается только, что всякому свое, что для всякого разряда существ и явлений есть свой закон. Око за око, зуб за зуб, строгое право, бентамовский принцип утилитарности, то есть здраво понятой пользы[40], – вот закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования. Не к месту примененный, этот высший нравственный закон принимает вид мистицизма и сентиментальности, как мы видели тому пример в блаженной памяти Священном союзе[41]. Заметим, кстати, что начало здраво понятой пользы, очевидно, недостаточное и негодное как основание нравственности, должно дать гораздо лучшие результаты как принцип политический, по той весьма простой причине, что он применяется здесь к своему настоящему месту. В самом деле, в течение долговечной жизни государства есть большое вероятие, что угроза, служащая основой утилитарного начала, – т. е. его санкция, заключающаяся в словах: «Ею же мерою мерите – возмерится и вам»[42], – успеет возыметь свое действие; тогда как в кратковременную жизнь человека каждый, имеющий достаточно средств, власти, хитрости, может весьма основательно надеяться, что ему удастся избежать последствий, выраженных в приведенных словах.
Итак, раздел Польши, насколько в нем принимала участие Россия, был делом совершенно законным и справедливым, был исполнением священного долга перед ее собственными сынами, в котором ее не должны были смущать порывы сентиментальности и ложного великодушия, как после Екатерины они, к сожалению и к общему несчастью России и Польши, смущали ее и смущают многих еще до сих пор. Если при разделе Польши была несправедливость со стороны России, то она заключалась единственно в том, что Галич не был воссоединен с Россией. Несмотря на все это, негодование Европы обрушилось, однако же, всею своей тяжестью не на действительно виновных – Пруссию и Австрию, – а на Россию. В глазах Европы все преступление раздела Польши заключается именно в том, что Россия усилилась, возвратив свое достояние. Если бы не это горестное обстоятельство, то германизация славянской народности – хотя для нее самой любезной из всех, но все же-таки славянской, – не возбудила бы столько слез и плача. Я думаю даже, что, совершенно напротив, – после должных лицемерных соболезнований она была бы втайне принята с общею радостью как желательная победа цивилизации над варварством. Ведь знаем же мы, что она не пугает европейских и наших гуманитарных прогрессистов, даже когда является в форме австрийского жандарма (см. «Атеней»[43]). Разве одни французы пожалели бы, что лишились удобного орудия мутить Германию. Такое направление общественного мнения Европы очень хорошо поняла и польская интеллигенция; она знает, чем задобрить Европу, и отказывается от кровного достояния Польши, доставшегося Австрии и Пруссии, лишь бы ей было возвращено то, что она некогда отняла у России; чужое ей милее своего. Кому случалось видеть отвратительное, но любопытное зрелище драки между большими ядовитыми пауками, называемыми фалангами, тот, конечно, замечал, как нередко это злобное животное, пожирая с яростью одного из своих противников, не ощущает, что другой отъел уже у него зад. Не представляют ли эти фаланги истинную эмблему шляхетско-иезуитской Польши – ее символ, герб, выражающий ее государственный характер гораздо вернее, чем одноглавый орел?
Но как бы ни была права Россия при разделе Польши, теперь она владеет уже частью настоящей Польши и, следовательно, должна нести на себе упрек в неправом стяжании, по крайней мере, наравне с Пруссией и Австрией. Да, к несчастью, владеет! Но владеет опять-таки не по завоеванию, а по тому сентиментальному великодушию, о котором только что было говорено. Если бы Россия, освободив Европу, предоставила отчасти восстановленную Наполеоном Польшу ее прежней участи, то есть разделу между Австрией и Пруссией, а в вознаграждение своих неоценимых, хотя и плохо оцененных, заслуг потребовала для себя восточной Галиции, частью которой – Тарнопольским округом – в то время уже владела, то осталась бы на той же почве, на которой стояла при Екатерине, и никто ни в чем не мог бы ее упрекнуть. Россия получила бы значительно меньше по пространству, не многим меньше по народонаселению, но зато скольким больше по внутреннему достоинству приобретенного, так как она увеличила бы число своих подданных не враждебным польским элементом, а настоящим русским народом[44].
Что же заставило императора Александра упустить из виду эту существенную выгоду? Что ослепило его взор? Никак не завоевательные планы, а желание осуществить свою юношескую мечту – восстановить польскую народность и тем загладить то, что ему казалось проступком его великой бабки. Что это было действительно так, доказывается тем, что так смотрели на это сами поляки. Когда из враждебного лагеря, из Австрии, Франции и Англии, стали делать всевозможные препятствия этому плану восстановления Польши, угрожая даже войной, император Александр послал великого князя Константина в Варшаву призывать поляков к оружию для защиты их национальной независимости. Европа, по обыкновению, видела в этом со стороны России хитрость, – желание, под предлогом восстановления польской народности, мало-помалу прибрать к своим рукам и те части прежнего Польского королевства, которые не ей достались, – и потому соглашалась на совершенную инкорпорацию[45] Польши, но никак не на самостоятельное существование Царства в личном династическом союзе с Россией, чего теперь так желают. Только когда Гарденберг, который, как пруссак, был ближе знаком с польскими и русскими делами, разъяснил, что Россия требует своего собственного вреда, согласились дипломаты на самостоятельность Царства[46][47]. Последующие события доказали, что планы России были не честолюбивы, а только великодушны. Если бы русское правительство поддерживало в поляках надежду на присоединение к царству прусских и австрийских частей бывшей Польши, как этого, например, впоследствии желал маркиз Велепольский, или бы только сквозь пальцы смотрела на клонящиеся к тому интриги, конечно, не случилось бы того, что восстание вспыхнуло в Царстве Польском[48], а не в Познани или в Галиции, ибо внутренних причин, заключающихся в неудовлетворительном состоянии края, для этого восстания не было. Как бы кто ни судил о дарованной Царству конституции, – свобода, которою оно пользовалось, была, во всяком случае, несравненно значительнее, чем в означенных провинциях Пруссии и Австрии, чем в самой Пруссии и Австрии, чем даже в большей части тогдашней Европы. Время с 1815 по 1830 год, в которое Царство пользовалось независимым управлением, особой армией, собственными финансами и конституционными формами правления, было, без сомнения, и в материальном и в нравственном отношениях счастливейшим временем польской истории. Восстание не чем другим не объясняется, как досадою поляков на неосуществление их планов к восстановлению древнего величия Польши, хотя бы то было под скипетром русских государей; конечно, только для начала[49]. Но эти планы были направлены не на Галицию и Познань, а на западную Россию, потому что тут только были развязаны руки польской интеллигенции – сколько угодно полячить и латынить. И только когда, по мнению польской интеллигенции, стало оказываться недостаточно потворства или, лучше сказать, содействия русского правительства – ибо потворства все еще было довольно, – к ополячению западной России, тогда негодование поляков вспыхнуло и привело к восстанию 1830-го, а также и 1863 года. Вот как честолюбивы и завоевательны были планы России, побудившие ее домогаться на Венском конгрессе присоединения Царства Польского!
В юго-западном углу России лежит Бессарабия, также недавнее приобретение. Здесь христианское православное население было исторгнуто из рук угнетавших его диких и грубых завоевателей, турок, – население, которое торжествовало это событие как избавление из плена. Если то было завоевание, то и Кир, освободив иудеев из плена вавилонского, был их завоевателем[50]. Об этом и распространяться больше не стоит.
Все южнорусские степи также были вырваны из рук турок. Степи эти принадлежат к русской равнине. Спокон века, еще со времен Святослава, боролись за них с ордами кочевников сначала русские князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же и с какого права занесло сюда турецкую власть, покровительствовавшую хищническим набегам? То же должно сказать и о Крымском полуострове, хотя и не принадлежавшем исстари к России, но послужившем убежищем не только ее непримиримым врагам, но врагам всякой гражданственности, которые делали из него набеги при всяком удобном случае, пожигали огнем и посекали мечом южные русские области до самой Москвы. Можно, пожалуй, согласиться, что здесь было завоевано государство, лишена своей самостоятельности народность; но какое государство и какая народность? Если я назвал всякое вообще завоевание национальным убийством, то в этом случае это было такое убийство, которое допускается и Божескими, и человеческими законами, – убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны и вместе в виде справедливой казни[51].
Остается еще Кавказ. Под этим многообъемлющим именем надобно отличать, в рассматриваемом здесь отношении, закавказские христианские области, закавказские магометанские области и кавказских горцев.
Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I в начале своего царствования после долгих колебаний согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме тут не было завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. Прежде всего это вовлекло Россию в двукратную борьбу с Персией, причем не Россия была зачинщицей[52]. В течение этой борьбы ей удалось освободить некоторые христианские населения от двойного ига мелких владетельных ханов и персидского верховенства. С этим вместе были покорены магометанские ханства: Кубанское, Бакинское, Ширванское, Шекинское, Ганджинское и Талышенское, составляющие теперь столько же уездов, и Эриванская область. Назовем, пожалуй, это завоеваниями, хотя завоеванные через это только выиграли. Не столь довольны, правда, русским завоеванием кавказские горцы.
Здесь точно много погибло, если не независимых государств, то независимых племен. После раздела Польши едва ли какое другое действие России возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление, как война с кавказскими горцами и особливо недавно совершившееся покорение Кавказа[53]. Сколько ни стараются наши публицисты выставить это дело как великую победу, одержанную общечеловеческою цивилизацией, – ничто не помогает. Не любит Европа, чтобы Россия бралась за это дело. – Ну, на Сырдарье, в Коканде, в Самарканде, у дико-каменных киргизов еще, куда ни шло, можно с грехом пополам допустить такое цивилизаторство, – все же вроде шпанской мушки оттягивает, хотя, к сожалению, и в недостаточном количестве силы России; а то у нас под боком, на Кавказе; мы бы и сами тут поцивилизировали (…). И по этому кавказскому (как и по польскому, как и по восточному, как и по всякому) вопросу можно судить о доброжелательстве Европы к России.
0 Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большею частью это было занятие пустопорожнего места, совершенное (как показывает история) казацкой удалью и расселением русского народа почти без содействия государства. Разве еще к числу русских завоеваний причислим Амурский край, никем не заселенный, куда всякое переселение было даже запрещено китайским правительством, неизвестно почему и для чего считавшим его своею собственностью?
Итак, в завоеваниях России все, что можно при разных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанскою областью, Кавказским горным хребтом, пятью-шестью уездами Закавказья и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же разбирать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России нельзя называть завоеванием – в дурном, антинациональном и потому ненавистном для человечества смысле. Много ли государств, которые могут сказать про себя то же самое? Англия у себя под боком завоевала независимое Кельтское государство[54] – и как завоевала! – отняла у народа право собственности на его родную землю, голодом заставила его выселяться в Америку, а на расстоянии чуть не полуокружности земли покорила царства и народы Индии в числе почти двухсот миллионов душ; отняла Гибралтар у Испании, Канаду у Франции, мыс Доброй Надежды у Голландии и т. д. Земель, пустопорожних или заселенных дикими неисторическими племенами, в количестве без малого 300 000 квадратных миль я не считаю завоеваниями. Франция отняла у Германии Эльзас, Лотарингию, Франш-Конте, у Италии – Корсику и Ниццу; за морем покорила Алжир. А сколько было ею завоевано и опять от нее отнято! Пруссия округлила и соединила свои разбросанные члены на счет Польши, на которую не имела никакого права. Австрия мало или даже почти ничего не отняла мечом, но самое ее существование есть уже преступление против права народностей. Испания в былые времена владела Нидерландами, большей частью Италии, покорила и уничтожила целые цивилизации в Америке.
Ежели нельзя упрекнуть Россию в действительно совершенных ею завоеваниях, то, может быть, к ним были направлены ее стремления: неудача покушения не оправдывает еще преступника. Бросим взгляд на характер войн, которые она вела. Далеко заходить незачем. Все войны до Петра велись Россией за собственное существование – за то, что в несчастные времена ее истории было отторгнуто ее соседями. Первая война, которую она вела не с этой целью и которой, собственно, началось ее вмешательство в европейские дела, была ведена против Пруссии. Достаточного резона на участие в Семилетней войне со стороны России, конечно, не было. Злословие Фридриха оскорбило Елизавету; его поступки, справедливо или нет, считались всей Европой наглыми нарушениями как международного права вообще, так и законов Священной Германско-Римской империи в частности[55]. Если тут была вина, то ее разделяла Россия со всей Европой; так или нет, но это было явление случайное, не лежавшее в общем направлении русской политики. Во все царствование Екатерины Великой Россия деятельным образом не вмешивалась в европейские дела, преследовала свои цели, и цели эти, как мы видели, были цели правые. С императора Павла, собственно, начинаются европейские войны России. Война 1799 года, в чисто военном отношении, едва ли не славнейшая из всех веденных Россией, была актом возвышеннейшего политического великодушия, бескорыстия, рыцарства в истинно мальтийском духе[56]. Была ли она актом такого же политического благоразумия – это иной вопрос. Для России, впрочем, война эта имела значительный нравственный результат: она показала, к чему способны русские в военном деле. Такой же характер имели войны 1805 и 1807 года. Россия принимала к сердцу интересы, ей совершенно чуждые, и с достойным всякого удивления геройством приносила жертвы на алтарь Европы. Тильзитский мир заставил ее на время отказаться от этой самоотверженной политики и повернуть в прежнюю екатерининскую колею; но выгоды, которые она могла, очевидно, приобрести, продолжая идти по ней, не удовлетворяли ее, не имели в глазах ее ничего приманчивого. Интересы Европы, особливо интересы Германии, так близко лежали к ее сердцу, что оно билось только для них. Что усилия, сделанные Россией в 1813 и 1814 году, были сделаны в пользу Европы, – в этом согласны даже и теперь беспристрастные люди, к какому бы политическому лагерю они ни принадлежали, а тогда все прославляли беспримерное бескорыстие России. Но что самый двенадцатый год был борьбою, предпринятой Россией из-за интересов Европы, – это едва ли многими сознается. Конечно, война двенадцатого года была войною по преимуществу народною, народною в полном смысле этого слова, если принимать в расчет самый способ ее ведения и те чувства, которые в то время одушевляли русский народ. Но такова ли была эта славная война в своих причинах, то есть желание ли нарушить русские интересы побудило Наполеона предпринять ее? На это едва ли можно отвечать утвердительно. Причины этой колоссальной борьбы – низвергнувшей Наполеона и приведшей к таким громадным последствиям – до того ничтожны, что невозможно понять, как могли они заставить Наполеона ринуться в такое опасное, рискованное предприятие без всякой нужды, имея на руках у себя Испанию. Что приводится, в самом деле, поводом, побудившим Наполеона собрать шестисоттысячную армию и вторгнуться с ней в отдаленную страну – неизобильную ресурсами, с дурными путями сообщения, – для борьбы с войском и народом, мужество которых было ему хорошо известно?.. Неточное соблюдение Тильзитского договора Россией, допускавшей под рукою некоторую торговлю с Англией, когда Наполеон сам у себя допускал подобные же уклонения от правил континентальной системы, и протест России против захвата Ольденбурга – вот и все[57]. Всю неудовлетворительность этих резонов думают достаточно дополнить, ссылаясь на ненасытимое честолюбие Наполеона. Конечно, Наполеон был честолюбив сверх меры, но был ведь также и расчетлив. Истинную причину войны, как Наполеон ее понимал, выразил он в словах, сказанных им Балашову: государь окружен личными его врагами, низкими людьми, как он выражался, – в том числе Штейном, негодяем, изгнанным из своего отечества, – то есть людьми, которым дороги были интересы Германии и которые старались образ мыслей императора Александра направить в эту сторону[58]. Хорошо понятый и должным образом развитый смысл этих намеков объясняет все. Наполеон не мог не чувствовать, что сооруженное им здание очень шатко и, кроме его высокого гения, никаких других подпор не имеет. Жеромы, Иосифы, Мюраты не в состоянии были поддержать его[59]. Что же будет после его смерти, что оставит он своему сыну? Всемирное владычество, чувствовал он, даже ему не под силу; надо было найти, с кем его разделить, и он думал после Тильзитского мира, что нашел этого товарища и союзника в России; другого, впрочем, и отыскать негде было. Он думал, что Россия из прямого политического расчета, из-за собственных своих целей и выгод будет с ним заодно. И в самом деле, чего бы не могла достигнуть Россия в союзе с ним, если бы смотрела на дело исключительно со своей точки зрения? Ревностная помощь в войне 1809 года дала бы ей всю Галицию[60]; усиленная война против Турции доставила бы ей не только Молдавию и Валахию, но и Булгарию, – дала бы ей возможность образовать независимое Сербское государство с присоединением к нему Боснии и Герцеговины. Наполеон не хотел только, чтобы наши владения переходили за Балканы, но Наполеон был не вечен. Самым герцогством Варшавским, которое в его глазах было только угрозой против России, он, вероятно, пожертвовал бы, раз убедившись, что Россия действительно вошла во все его планы, что, идя к выполнению своих целей, она столько же нуждается в нем, сколько он в ней, – что она сама заинтересована в сохранении его могущества. Но вскоре после Тильзитского мира Наполеон увидел, что он не может полагаться на Россию, не может рассчитывать на ее искреннее содействие, основанное не на букве связывающего их договора, а на политическом расчете, что она формально держится данного обещания, но сердце ее не лежит к союзу с ним. В войне 1809 года помогала она только для виду; заступничество за Ольденбургское герцогство и еще более наплыв немецких патриотов, которых Наполеон, со своей точки зрения, называл негодяями (конечно, вовсе несправедливо), показывали ему, что Россия горячо принимает к сердцу так называемые европейские или, точнее, немецкие интересы; горячее, чем свои собственные. Что оставалось ему делать? К чему влекла его неудержимо логика того положения, в которое его поставило как собственное его честолюбие, так и самый ход событий? Очевидно, к тому, чтобы обеспечить себя иным способом, независимо от России, – к тому, чтобы отыскать для подпоры своему зданию какой-нибудь другой столб, хотя бы и менее надежной крепости. Этот столб думал он вытесать на счет самой России, восстановив Польское королевство в его прежнем объеме. В нем надеялся он, по крайней мере, найти всегда готовое орудие против враждебной ему Германии. Иначе поступить Наполеону едва ли было возможно. И без войны политическое здание, им воздвигнутое, должно было рухнуть, если Россия не заинтересована в его поддержке, – рухнуть если не при нем, так после его смерти. Война, руководимая его гением, представляла, по крайней мере, шансы или вынудить Россию к этой поддержке, или заменить ее другим хотя и менее твердым, но зато более зависимым и податливым орудием. Одним словом, если бы Наполеон мог рассчитывать на Россию, которая, как ему казалось, сама была заинтересована в его деле, он никогда бы не подумал о восстановлении Польши. От добра добра не ищут. В тринадцатом году, во главе новой собранной им армии, он высказал эту мысль самым положительным образом: «Всего проще и рассудительнее было бы сойтись прямо с императором Александром. Я всегда считал Польшу средством, а не главным делом. Удовлетворяя Россию на счет Польши, мы имеем средство унизить Австрию, обратить ее в ничто»[61]. Может ли что-нибудь быть яснее, откровеннее и притом сообразнее с действительным характером Наполеона! Не из-за Европы ли, следовательно, не из-за Германии ли в особенности, приняла Россия на свою грудь грозу двенадцатого года? Двенадцатый год был, собственно, великой политической ошибкой, обращенной духом русского народа в великое народное торжество.
Что не какие-либо свои собственные интересы имела Россия в виду, решаясь на борьбу с Наполеоном, видно уж из того, что, окончив с беспримерной славою первый акт этой борьбы, она не остановилась, не воспользовалась представлявшимся ей случаем достигнуть всего, чего только могла желать для себя, заключив с Наполеоном мир и союз, как он этого всеми мерами домогался и как желали того же Кутузов и многие другие замечательные люди той эпохи. Что мешало Александру повторить Тильзит с той лишь разницей, что в этот раз он играл бы первостепенную и почетнейшую роль? Даже для Пруссии, которая уже скомпрометировала себя перед Наполеоном, император Александр мог выговорить все, чего требовала бы, по его мнению, честь.
Через четырнадцать лет после Парижского мира пришлось России вести войну с Турцией. Русские войска перешли Балканы и стояли у ворот Константинополя. С Францией Россия была в дружбе, у Австрии не было ни войск, ни денег; Англия, хотя бы и хотела, ничего не могла сделать, – тогда еще не было военных пароходов; прусское правительство было связано тесной дружбой с Россией. Европа могла только поручить Турцию великодушию России. Взяла ли тогда Россия что-нибудь для себя? А одного слова ее было достаточно, чтобы присоединить к себе Молдавию и Валахию. Даже и слова было не надо. Турция сама предлагала России княжества вместо недоплаченного еще долга. Император Николай отказался от того и от другого[62].
Настал 1848 год. Потрясения, бывшие в эту пору в целой Европе, развязывали руки завоевателя и честолюбца. Как же воспользовалась Россия этим единственным положением? Она спасла от гибели соседа, – того именно соседа, который всего более должен был противиться ее честолюбивым видам на Турцию, если бы у нее таковые были[63]. Этого мало, тогда можно было соединить великодушие с честолюбием. После венгерской кампании был достаточный предлог для войны с Турцией; русские войска занимали Валахию и Молдавию, турецкие славяне поднялись бы по первому слову России. Воспользовалась ли всем этим Россия? Наконец, в самом 1853 году если бы Россия высказала свои требования с той резкостью и неуступчивостью, пример которых в том же году подавало ей посольство графа Лейнингена, и, в случае малейшей задержки удовлетворения, двинула войска и флот, когда ни Турция, ни западные державы нисколько не были приготовлены, чего не могла бы она достигнуть?
Итак, состав Русского государства, войны, которое оно вело, цели, которые преследовало, а еще более – благоприятные обстоятельства, столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало воспользоваться, – все показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная держава, что в новейший период своей истории она большею частью жертвовала своими очевиднейшими выгодами, самыми справедливыми и законными, европейским интересам, – часто даже считала своею обязанностью действовать не как самобытный организм (имеющий свое самостоятельное назначение, находящий в себе самом достаточное оправдание всем своим стремлениям и действиям), а как служебная сила. Откуда же и за что же, спрашиваю, недоверие, несправедливость, ненависть к России со стороны правительств и общественного мнения Европы?
Обращаюсь к другому капитальному обвинению против России. Россия – гасительница света и свободы, темная мрачная сила, политический Ариман, как выразился я выше. У знаменитого Роттека высказана мысль, – которую, не имея под рукой его «Истории», не могу, к сожалению, буквально цитировать, – что всякое преуспеяние России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличение ее благоденствия и могущества есть общественное бедствие, несчастье для всего человечества. Это мнение Роттека есть только выражение общественного мнения Европы. И это опять основано на таком же песке, как и честолюбие и завоевательность России. Какова бы ни была форма правления в России, каковы бы ни были недостатки русской администрации, русского судопроизводства, русской фискальной системы и т д., до всего этого, я полагаю, никому дела нет, пока она не стремится навязать всего этого другим. Если все это очень дурно, тем хуже для нее и тем лучше для ее врагов и недоброжелателей. Различие в политических принципах еще не может служить препятствием к дружбе правительств и народов. Не была ли Англия постоянным другом Австрии, несмотря на конституционализм одной и абсолютизм другой? Не пользуется ли русское правительство и русский народ симпатиями Америки, и наоборот? Только вредное вмешательство России во внутреннюю политику иностранных государств, давление, которым она препятствовала бы развитию свободы в Европе, могут подлежать ее справедливой критике и возбуждать ее негодование. Посмотрим, чем же его заслужила Россия, чем так провинилась перед Европой? До времен французской революции о таком вмешательстве, о таком давлении и речи быть не могло, потому что между континентом Европы и Россией не существовало тогда никакой видимой разности в политических принципах. Напротив того, правление Екатерины по справедливости считалось одним из самых передовых, прогрессивных, как теперь говорится. Под конец своего царствования Екатерина имела, правда, намерение вооружиться против революции, что наследник ее и сделал. Но если французская революция должна считаться светильником свободы, то гасить и заливать этот светильник спешила вся Европа, и впереди всех – конституционная и свободная Англия. Участие России в этом общем деле было кратковременно и незначительно. Победам Суворова, впрочем, рукоплескала тогда вся Европа. Войны против Наполеона не были, конечно, да и не считались войнами против свободы. Эти войны окончились, и ежели побежденная Франция тогда же получила свободную форму правления, то была обязана этим единственно императору Александру. Во время войны за независимость многие государства обещали своим подданным конституции, и никто не сдержал своих обещаний, кроме опять-таки императора Александра относительно Польши.
После Венского конгресса, по мысли русского императора, Россия, Австрия и Пруссия заключили так называемый Священный союз, приступить к которому приглашали всех государей Европы[64]. Этот Священный союз составляет главнейшее обвинение против России и выставляется заговором государей против своих народов. Но в этом союзе надо строго отличать идею, первоначальный замысел, которые одни только и принадлежали Александру, от практического выполнения, которое составляет неотъемлемую собственность Меттерниха. В первоначальной же идее, каковы бы ни были ее практические достоинства, конечно, не было ничего утеснительного. Император Александр стоял, бесспорно, за конституционный принцип везде, где, по его мнению, народное развитие допускало его применение. Он был противником и врагом хартий, насильственно вынужденных бунтом и революцией, но зато был другом октроированных[65] конституций; и после недавних опытов, после стольких бедствий, претерпенных Европой, можно ли было думать иначе? Да и без отношения к обстоятельствам, не справедлив ли вообще такой взгляд? Разве добросовестное соглашение, сознательная уступка могут быть хуже насилия и по принципу и по последствиям? Вынудивший силою, если сила остается на его стороне, редко остается доволен вынужденным; можно ли ожидать умеренности от разгоряченных страстей, упоенных гордостью успеха? Если, наоборот, после первой вспышки, первого удачного натиска сила переходит опять на сторону уступившей этому натиску власти, можно ли ожидать от нее добросовестного выполнения вынужденного? Напротив того, уступка, сделанная в полноте силы, по сознанию ее пользы и справедливости, заключает в себе все залоги долговечности. Что прочнее и добросовестнее исполняется: октроированная ли конституция Сардинии и заменившей ее Италии или вынужденная конституция Франции после 1830 и Пруссии после 1848 года? Если скажут, что и октроированная конституция Франции 1814 и 1815 годов не слишком-то добросовестно исполнялась, то всякому известно, что эта конституция имела лишь форму добровольно данной Бурбонами хартии, в сущности же была с их стороны вынужденной обстоятельствами уступкой; притом на всем их правлении лежала печать чужеземного вмешательства, ненавистная для всякого уважающего себя народа[66].
На дипломатических конгрессах двадцатых годов наиболее умеренным и либеральным был голос Александра. В этом я сошлюсь на Гервинуса, не слишком-то доброжелательного к России и ко всему русскому. Корнем всех реакционных, ретроградных мер того времени была Австрия и ее правитель Меттерних, который, опутывая всех своими сетями, в том числе и Россию, заставил последнюю отказаться от ее естественной и национальной политики помогать грекам и вообще турецким христианам против их угнетателей, – отказаться вопреки всем ее преданиям, всем ее интересам, всем сочувствиям ее государя и ее народа. Россия была также жертвою Меттерниховой политики; почему же на нее, а не на Австрию, которая всему была виновницей и в пользу которой все это делалось, взваливается вся тяжесть вины? Сама Англия не подчинилась ли тогда Меттерниховой политике? Разве русские войска усмиряли восстание в Неаполе и Испании[67] и разве эти восстания и введенный ими на короткое время порядок вещей были такими светлыми явлениями, что стоит о них жалеть? Русские ли наущения были причиной всех утеснении, которые терпела немецкая печать, немецкие университеты и вообще стремления немецкого юношества? Не сами ли германские правительства, и во главе их Австрия, должны почитаться виновниками всех этих мер; не для них ли исключительно были они полезны? Или, может быть, все эти немецкие либеральные стремления имели такую силу, что, без надежды на поддержку России, германские правительства не дерзнули бы им противустать? Но разве она помешала им осуществиться там, где они имели какое-нибудь действительное значение, – помешала Франции или даже маленькой Бельгии дать себе ту форму правления, которой они сами захотели? Помешала ли Россия чему-нибудь даже в самой Германии в 1848 году, да и в 1830 году? Не собственное ли бессилие хотят оправдать, взваливая неудачу на давление, оказываемое будто бы мрачным абсолютизмом Севера?
Лучшим доказательством, впрочем, того, что не действительная какая-нибудь вина, не какое-нибудь деятельное вмешательство России, – ко вреду свободы человечества вообще и Германии в особенности, – были причиной общей к ней ненависти, служит убийство Коцебу[68]. Важен тут не самый поступок несчастного студента-фанатика, а то общее сочувствие, которое возбудило к себе это политическое преступление не только в революционных кружках, но и в спокойной, здравомыслящей части общества, чему едва ли можно найти другой пример. В чем состояла, однако же, вина Коцебу? Он доносил, говорят, русскому правительству о состоянии общественного мнения Германии (преимущественно же – ее университетской молодежи), то есть делал то, чем занимается, между прочим, всякий дипломатический агент или иностранный корреспондент любой газеты. Вина его ни в каком случае не превышала вины многих петербургских корреспондентов иностранных газет, с теми, однако же, circonstanus attenn antes[69] в пользу Коцебу, что недоброжелательство к России и клеветы петербургских корреспондентов для всех открыты и могут возбуждать совершенно основательное негодование, а то, что писал Коцебу, никому не было известно, и вся виновность его основывалась на предположениях. И разве во время Коцебу не было множества лиц, которые сообщали германским правительствам (особливо же австрийскому) о духе и направлении мыслей, господствовавших между германской молодежью, что, конечно, для нее было гораздо опаснее? Отчего же такой взрыв негодования, откуда такое оскорбление народного чувства, что оно доходит даже до сочувствия убийству, если только убийство совершено во вред России? А ведь то было еще до знаменитых конгрессов; ничем еще Россия не успела провиниться[70], в свежей еще памяти было избавление от французского ига. Общественное мнение Германии оказало тут, как и после, не более благодарности, чем 34 года спустя австрийское правительство[71].
Если уж гневаться за взаимные советы и за влияние, оказываемое правительством на правительство, то, конечно, Россия имела бы столько же (если не более) права негодовать на Австрию, да и на другие немецкие дворы, как и Германия на Россию. Не влиянию ли Меттерниха приписывается перемена образа мыслей, происшедшая в императоре Александре после 1822 года?[72] Не это ли влияние было причиной немилости Каподистрии, враждебного отношения, принятого относительно Греции и вообще относительно национальной политики, наконец, не это ли влияние было причиной самой перемены в направлении общественного образования во времена Шишкова и Магницкого? А после не в угоду ли Австрии считалась всякая нравственная помощь славянам чуть не за русское государственное преступление? Пусть европейское общественное мнение, если оно хочет быть справедливым, отнесет даже оказанное Россией на германские дела вредное влияние к его настоящему источнику, то есть к германским же правительствам, и в особенности к австрийскому. Нет, не действия Коцебу и все подобные (в сущности, весьма невинного свойства) вмешательства русского правительства в европейские дела объясняют ненависть, которую питают в Европе к России, а самое убийство Коцебу и, главное, то сочувствие, которое оно возбудило, только этой ненавистью и объясняются; причина же ее лежит глубже.
Впрочем, тому, что не в антилиберальном вмешательстве России в чужие дела лежит начало и главная причина неприязненных чувств Европы, можно представить доказательство самое строгое, неопровержимое. Когда думают видеть в чем-либо причину данного явления, то очень легко убедиться в справедливости предположения, если только возможно устранить действие предполагаемой причины. Ясно, что предположение ложно, когда явление продолжается и по устранении этой причины. Например, замедление в качании маятника, замеченное в экваториальных странах, приписывали удлинению его от теплоты. Придумали снаряд, устраняющий влияние теплоты, но маятник продолжал качаться медленнее, чем на севере. Это показало до очевидности, что дело тут не в теплоте. В вопросах общественных почти никогда нельзя прибегать к опытам, но относительно занимающего нас предмета был сделан опыт в самых широких размерах, и что же оказалось? Вот уже с лишком тринадцать лет, как русское правительство совершенно изменило свою систему, совершило акт такого высокого либерализма, что даже совестно применять к нему это опошленное слово; русское дворянство выказало бескорыстие и великодушие, а массы русского народа – умеренность и незлобие беспримерные. С тех пор правительство продолжало действовать все в том же духе. Одна либеральная реформа следовала за другой[73]. На заграничные дела оно не оказывает уже никакого давления. Этого мало, оно употребляет свое влияние в пользу всего либерального. И правительство, и общественное мнение сочувствовали делу Северных Штатов искреннее, чем большая часть Европы[74]. Россия из первых признала Итальянское королевство и даже, как говорят, своим влиянием помешала Германии помогать неправому делу. И что же, переменилась ли хоть на волос Европа в отношении к России? Да, она очень сочувствовала крестьянскому делу, пока надеялась, что оно ввергнет Россию в нескончаемые смуты; так же точно, как Англия сочувствовала освобождению американских негров. Мы много видели с ее стороны любви и доброжелательства по случаю польских дел[75]. Вешатели, кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки обращены против России. Защитники национальностей умолкают, коль скоро дело идет о защите русской народности, донельзя угнетаемой в западных губерниях, – так же точно, впрочем, как в деле босняков, болгар, сербов или черногорцев. Великодушнейший и вместе действительнейший способ умиротворения Польши наделением польских крестьян землей находит ли себе беспристрастных ценителей? Или, может быть, английский способ умиротворения Ирландии выселением вследствие голода предпочтительнее с гуманной точки зрения? Опыт сделан в широких размерах. Медицинская пословица говорит: sublata causa tollitur efectus[76]. Но здесь и по устранении причины действие продолжается: значит, причина не та.
Еще в моде у нас относить все к незнанию Европы, к ее невежеству относительно России. Наша пресса молчит, или, по крайней мере, до недавнего времени молчала, а враги на нас клевещут. Где же бедной Европе узнать истину? Она отуманена, сбита с толку. Risum teneatis, amici[77], или, по-русски, курам на смех, друзья мои. Почему же Европа, которая все знает от санскритского языка до ирокезских наречий, от законов движения сложных систем звезд до строения микроскопических организмов, не знает одной только России? Разве это какой-нибудь Гейс-Грейц, Шлейц и Лобенштейн, не стоящий того, чтобы она обратила на него свое просвещенное внимание? Смешны эти оправдания мудрой, как змий, Европы – ее незнанием, наивностью и легковерием, точно будто об институтке дело идет. Европа не знает, потому что не хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать хочет, то есть как соответствует ее предвзятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению. Смешны эти ухаживания за иностранцами с целью показать им Русь лицом, а через их посредство просветить и заставить прозреть заблуждающееся и ослепленное общественное мнение Европы. Почему и не удовлетворить любопытству доброго человека; только напрасно соединять с этим разные окулистические мечтания. Нечего снимать бельмо тому, кто имеет очи и не видит; нечего лечить от глухоты того, кто имеет уши и не слышит. Просвещение общественного мнения книгами, журналами, брошюрами и устным словом может быть очень полезно и в этом отношении, как и во всех других, – только не для Европы, а для самих нас, русских, которые даже на самих себя привыкли смотреть чужими глазами, для наших единоплеменников. Для Европы это будет напрасный труд: она и сама без нашей помощи узнает, что захочет, и если захочет узнать.
Дело в том, что Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д., материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему, как прежде было надеялась, как особливо надеялись немцы, которые, несмотря на препрославленный космополитизм, только от единой спасительной германской цивилизации чают спасения мира. Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, все же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить, – которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, – которое имеет и силу и притязание жить своею независимою, самобытною жизнью. Гордой, и справедливо гордой, своими заслугами Европе трудно – чтобы не сказать невозможно перенести это. Итак, во что бы то ни стало, не крестом, так пестом, не мытьем, так катаньем, надо не дать этому ядру еще более окрепнуть и разрастись, пустить корни и ветви вглубь и вширь. Уж и теперь не поздно ли, не упущено ли время? Тут ли еще думать о беспристрастии, о справедливости. Для священной цели не все ли средства хороши? Не это ли проповедуют и иезуиты, и мадзинисты[78], – и старая, и новая Европа? Будет ли Шлезвиг и Голштейн датским или германским, он все-таки останется европейским; произойдет маленькое наклонение в политических весах, стоит ли о том толковать много? Державность Европы от того не потерпит, общественному мнению нечего слишком волноваться, надо быть снисходительну между своими. Склоняются ли весы в пользу Афин или Спарты, не та же ли Греция будет царить? Но как дозволить распространиться влиянию чуждого, враждебного, варварского мира, хотя бы оно распространялось на то, что по всем Божеским и человеческим законам принадлежит этому миру? Не допускать до этого – общее дело всего, что только чувствует себя Европой. Тут можно и турка взять в союзники и даже вручить ему знамя цивилизации. Вот единственное удовлетворительное объяснение той двойственности меры и весов, которыми отмеривает и отвешивает Европа, когда дело идет о России (и не только о России, но вообще о славянах) – и когда оно идет о других странах и народах. Для этой несправедливости для этой неприязненности Европы к России, – которым сравнение 1864-го 1854 годом служит только одним из бесчисленных примеров, сколько бы мы ни искали, мы не найдем причины в тех или других поступках России; вообще не найдем объяснения и ответа, основанного на фактах. Тут даже нет ничего сознательного, в чем бы Европа могла дать себе самой беспристрастный отчет. Причина явления лежит глубже. Она лежит в неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий их (помимо, хотя и не против их воли и сознания) к неведомой для них цели; ибо в общих, главных очертаниях история слагается не по произволу человеческому, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры. Что вело древних германцев к непрестанным нападениям на Рим? Говорят, что юг имеет непреодолимую прелесть для сынов севера. Не нужно обширных этнографических сведений, чтобы видеть, что это совершенно несправедливо. Ежедневный опыт удостоверяет, что каждый некочующий народ – а германцы во время войны с Римом были уже оседлы – в первобытное время столько же, по крайней мере, как и впоследствии, имеет почти непреодолимую привязанность к своей родине, к своему климату, как бы он ни был суров, к окружающей его природе, как бы она ни была бедна. Юг для народов севера имеет в себе что-то убийственное. Возьмите для примера хоть поселение русских на Кавказе. К благословенным ли странам Кавказа стремится русский народ, предоставленный своей собственной воле? Нет, для него Сибирь имеет несравненно более привлекательности. Не приманка юга, а какая-то ненависть влекла народы на гибель Риму. Почему так хорошо уживаются вместе и потом мало-помалу сливаются германские племена с романскими, а славянские с финскими? Германские же со славянскими, напротив того, друг друга отталкивают, антипатичны одно другому; и если где одно замещает другое, то предварительно истребляет своего предшественника, как сделали немцы с по-лабскими племенами и с прибалтийскими славянскими поморянами. Это-то бессознательное чувство, этот-то исторический инстинкт и заставляет Европу не любить Россию. Куда девается тут беспристрастие взгляда – которым не обделена, однако же, и Европа, и особливо Германия, – когда дело идет о чуждых народностях? Все самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения, и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу цивилизации.
Gemeiner Russe, Bartrusse[79] суть термины величайшего презрения на языке европейца, и в особенности немца. Русский в глазах их может претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой национальный облик. Прочтите отзывы путешественников, пользующихся очень большой популярностью за границей, – вы увидите в них симпатию к самоедам, корякам, якутам, татарам, к кому угодно, только не к русскому народу; посмотрите, как ведут себя иностранные управляющие с русскими крестьянами; обратите внимание на отношение приезжающих в Россию матросов к артельщикам и вообще биржевым работникам; прочтите статьи о России в европейских газетах, в которых выражаются мнения и страсти просвещенной части публики; наконец, проследите отношение европейских правительств к России. Вы увидите, что во всех этих разнообразных сферах господствует один и тот же дух неприязни, принимающий, смотря по обстоятельствам, форму недоверчивости, злорадства, ненависти или презрения. Явление, касающееся всех сфер жизни, от политических до обыкновенных житейских отношений, распространенное во всех слоях общества, притом не имеющее никакого фактического основания, может недриться только в общем инстинктивном сознании той коренной розни, которая лежит в исторических началах и в исторических задачах племен. Одним словом, удовлетворительное объяснение как этой политической несправедливости, так и этой общественной неприязненности можно найти только в том, что Европа признает Россию и славянство чем-то для себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным. Для беспристрастного наблюдателя это неотвержимый факт. Вопрос только в том, основательны ли, справедливы ли такой, отчасти сознательный, взгляд и такое, отчасти инстинктивно бессознательное, чувство, или же составляют они временный предрассудок, недоразумение, которым суждено бесследно исчезнуть. Исследованию этого вопроса намерен я посвятить следующую главу.
Глава III
Европа ли Россия?
Коллар. «Дочь Славы» («Slavy Dcera»)
- Стократе сем млувил, тедь уж кричим
- К вам розкидани Словове,
- Будьме целек, а не дробмове,
- Будьме анеб вщецко, анеб ничим.
Права или не права Европа в том, что считает нас чем-то для себя чуждым? Чтобы отвечать на этот вопрос, нужно дать себе ясный отчет в том, что такое Европа, дабы видеть, подходит ли под родовое понятие Европа – Россия как понятие видовое. Вопрос, по-видимому, странный. Кому же может быть неизвестен ответ? Европа есть одна из пяти частей света, скажет всякий ученик приходского училища. Что же такое часть света, спросим мы далее? На это мне как-то нигде не приходилось читать ответа, потому (вероятно), что понятие это считается столь простым, что давать ему определение может показаться пустым, излишним педантизмом. Так ли это или нет, нам, во всяком случае, надо доискаться этого определения, иначе не получим ответа на заданный себе вопрос. Части света составляют самое общее географическое деление всей суши на нашей планете и противополагаются делению жидкого элемента на океаны. Искусственно или естественно это деление? Под естественным делением, или естественной системою, разумеется такая группировка предметов или явлений, при которой принимаются во внимание все их признаки, взвешивается относительное достоинство этих признаков, и предметы располагаются, между прочим, так, чтобы входящие в состав какой-либо естественной группы имели между собой более сродства, более сильную степень сходства, чем с предметами других групп. Напротив того, искусственная система довольствуется одним каким-либо или немногими признаками, почему-нибудь резко заметными, хотя бы и вовсе несущественными. В этой системе может разделяться самое сходное в сущности и соединяться самое разнородное. Рассматривая с этой точки зрения части света, мы сейчас же придем к заключению, что это – группы искусственные. В самом деле, южные полуострова Европы: Испания, Италия, Турция (к югу от Балканов) – имеют несравненно более сходства с Малою Азией, Закавказьем и северным прибрежьем Африки, нежели с остальною Европой. Так же точно Аравия имеет гораздо более сходства с Африкой, чем с Азией; мыс Доброй Надежды более сходен с материком Новой Голландии, чем с Центральной или Северною Африкой; полярные страны Азии, Европы и Америки имеют между собой более сходства, чем каждая из них – с лежащим к югу от нее материком, и т. д. Иначе, впрочем, это и быть не могло, потому что при разделении суши на части света не принимались во внимание ни климат, ни естественные произведения, ни другие физические черты, обусловливающие характер страны. Правда, иногда с границами так называемых частей света совпадают и эти характеристические признаки, но только отчасти и, так сказать, случайно. Можно даже сказать, что это сходство в физическом характере никогда не распространяется на целые части света, за единственным разве исключением Новой Голландии, сравнительно небольшой. Итак, деление это – очевидно, искусственное, при установлении которого принимались в расчет, собственно, только граничные очертания воды и суши, и хотя различие между водой и сушей весьма существенно не только в применении к нуждам человека, но и само по себе, однако же, водным пространством разделяются весьма часто такие части суши, которые составляют по всем естественным признакам одно физическое целое, и наоборот – части совершенно разнородные часто спаиваются материковой непрерывностью. Так, например, Крымский полуостров (окруженный со всех сторон водой, кроме узкого Перекопского перешейка) не представляет, однако, однородного физического целого; спаянный с крымской степью южный берег составляет нечто гораздо более от нее отличное, чем крымская степь от прочих степей южной России (совершенно однородных с первой, несмотря на то, что она почти совершенно отделена от них морем). Ежели бы с начала исторических времен у берегов Азовского и у северных берегов Черного моря происходило медленное поднятие почвы, подобное замечаемому у берегов Швеции, то Крым давно бы уже потерял характер полуострова и слился бы с прилегающей к нему степью; различие же между южным берегом и остальной частью Крыма запечатлено неизгладимыми чертами. То же самое можно во многих случаях сказать о частях света, которые, в сущности, не что иное, как огромные острова или полуострова (точнее бы было сказать – почти острова, переводя это слово не с немецкого, а с французского). Это суть понятия более или менее искусственные, и в этом качестве не могут иметь притязании на какой-либо им исключительно свойственный характер. Когда мы говорим «азиатский тип», то разумеем собственно тип, свойственный среднеазиатской, пересеченной горными хребтами, плоской возвышенности, под который вовсе не подходят ни индийский, ни малоазийский, ни сибирский, ни аравийский, ни китайский типы. Точно так же, говоря о типе африканском, мы имели в виду собственно характер, свойственный Сагарской степи, который никак не распространяется на мыс Доброй Надежды, остров Мадагаскар или прибрежье Средиземного моря, но к которому, напротив того, весьма хорошо подходит тип Аравии. Собственно говоря, подобные выражения суть метафоры, которыми мы присваиваем целому характер отдельной его части.
Но может ли быть признано за Европой значение части света – даже в смысле искусственного деления, основанного единственно на расчленении моря и суши, на взаимно ограничивающих друг друга очертаниях жидкого и твердого? Америка есть остров; Австралия – остров; Африка – почти остров; Азия вместе с Европой также будет почти островом. С какой же стати это цельное тело, этот огромный кусок суши, как и все прочие куски, окруженный со всех или почти со всех сторон водой, разделять на две части на основании совершенно иного принципа? Положена ли тут природой какая-нибудь граница? Уральский хребет занимает около половины этой границы. Но какие же имеет он особые качества для того, чтобы изо всех хребтов земного шара одному ему присваивать честь служить границею между двумя частями света, честь, которая во всех прочих случаях признается только за океанами и редко за морями? Хребет этот по вышине своей – один из ничтожнейших, по переходимости – один из удобнейших; в средней его части, около Екатеринбурга, переваливают через него, как через знаменитую Алаунскую плоскую возвышенность и Валдайские горы, спрашивая у ямщика: да где же, братец, горы? Если Урал отделяет две части света, то что же отделять после того Альпам, Кавказу или Гималаю? Ежели Урал обращает Европу в часть света, то почему же не считать за часть света Индию? Ведь и она с двух сторон окружена морем, а с третьей горами – не Уралу чета; да и всяких физических отличий (от сопредельной части Азии) в Индии гораздо больше, чем в Европе. Но хребет Уральский, по крайней мере, – нечто; далее же честь служить границей двух миров падает на реку Урал, которая уже совершенное ничто. Узенькая речка, при устье в четверть Невы шириной, с совершенно одинаковыми по ту и по другую сторону берегами. Особенно известно за ней только то, что она очень рыбна, но трудно понять, что общего в рыбности с честью разграничивать две части света. Где нет действительной границы, там можно выбирать их тысячу. Так и тут, обязанность служить границею Азии с Европой возлагалась, вместо Урала, то на Волгу, то на Волгу, Сарпу и Маныч, то на Волгу с Доном; почему же не Западную Двину и Днепр, как бы желали поляки, или на Вислу и Днестр, как поляки бы не желали? Можно ухитриться и на Обь перенести границу. На это можно сказать только то, что настоящей границы нет; а, впрочем, как кому угодно: ни в том, ни в другом, ни в третьем, ни в четвертом, ни в пятом – нет никакого основания, но также нет никому никакой обиды. Говорят, что природа Европы имеет свой отдельный, даже противоположный азиатскому, тип. Да как же части разнородного целого и не иметь своих особенностей? Разве у Индии и у Сибири одинаковый тип? Вот если б Азия имела общий однородный характер, а из всех ее многочисленных членов только одна Европа – другой, от него отличный, тогда бы другое дело; возражение имело бы смысл.
Дело в том, что, когда разделение Старого Света на три части входило в употребление, оно имело резкое и определенное значение в том именно смысле больших, разделенных морями, материковых масс, которое составляет единственную характеристическую черту, определяющую понятие о части света. Что лежало к северу от известного древним моря[80] – получило название Европы, что к югу – Африки, что к востоку – Азии. Само слово Азия первоначально относилось греками к их первобытной родине – к стране, лежащей у северной подошвы Кавказа, где, по преданиям, был прикован к скале мифический Прометей, мать или жена которого называлась Азия; отсюда это название перенеслось переселенцами на полуостров, известный под именем Малой Азии, а потом распространилось на целую часть света, лежащую к востоку от Средиземного моря[81]. Когда очертания материков стали хорошо известны, отделение Африки от Европы и Азии действительно подтвердилось; разделение же Азии от Европы оказалось несостоятельным, но такова уже сила привычки, таково уважение к издавна утвердившимся понятиям, что, дабы не нарушить их, стали отыскивать разные граничные черты, вместо того чтоб отбросить оказавшееся несостоятельным деление.
Итак, принадлежит ли Россия к Европе? Я уже ответил на этот вопрос. Как угодно, пожалуй – принадлежит, пожалуй – не принадлежит, пожалуй – принадлежит отчасти, и притом насколько кому желательно. В сущности же, в рассматриваемом теперь смысле, и Европы вовсе никакой нет, а есть западный полуостров Азии, вначале менее резко от нее отличающийся, чем другие азиатские полуострова, а к оконечности постепенно все более и более дробящийся и расчленяющийся.
Неужели же, однако, громкое слово «Европа» – слово без определенного значения, пустой звук без определенного смысла? О, конечно, нет! Смысл его очень полновесен – только он не географический, а культурно-исторический, и в вопросе о принадлежности или непринадлежности к Европе география не имеет ни малейшего значения. Что же такое Европа в этом культурно-историческом смысле? Ответ на это – самый определенный и положительный. Европа есть поприще германо-романской цивилизации, ни более ни менее; или, по употребительному метафорическому способу выражения, Европа есть сама германо-романская цивилизация. Оба эти слова – синонимы. Но германо-романская ли только цивилизация совпадает с значением слова Европа? Не переводится ли оно точнее «общечеловеческой цивилизацией» или, по крайней мере, ее цветом?
Не на той же ли европейской почве возрастали цивилизации греческая и римская? Нет, поприще этих цивилизаций было иное. То был бассейн Средиземного моря, совершенно независимо от того, где лежали страны этой древней цивилизации – к северу ли, к югу или к востоку: на европейском, африканском или азиатском берегу этого моря. Гомер, в котором, как в зеркале, заключалась вся (имевшая впоследствии развиться) цивилизация Греции, родился, говорят, на малоазиатском берегу Эгейского моря. Этот малоазиатский берег с прилежащими островами был долго главным поприщем эллинской цивилизации. Здесь зародилась не только эпическая поэзия греков, но и лирика, философия (Фалес), скульптура, история (Геродот), медицина (Гиппократ), и отсюда они перешли на противоположный берег моря. Главным центром этой цивилизации сделались, правда, потом Афины, но закончилась она и, так сказать, дала плод свой опять не в европейской стране, а в Александрии, в Египте. Значит, древнеэллинская культура, совершая свое развитие, обошла все три так называемые части света Азию, Европу и Африку, а не составляла исключительной принадлежности Европы. Не в ней она началась, не в ней и закончилась.
Греки и римляне, противополагая свои образованные страны странам варварским, включали в первое понятие одинаково и европейские, азиатские и африканские прибрежья Средиземного моря, а ко второму причисляли весь остальной мир – точно так же, как германо-романы противополагают Европу, т. е. место своей деятельности, прочим странам. В культурно-историческом смысле то, что для германо-романской цивилизации – Европа, тем для цивилизации греческой и римской был весь бассейн Средиземного моря; и, хотя есть страны, которые общи им обеим, несправедливо было бы, однако же, думать, что Европа составляет поприще человеческой цивилизации вообще или, по крайней мере, всей лучшей части ее; она есть только поприще великой германо-романской цивилизации, ее синоним, и только со времени развития этой цивилизации слово «Европа» получило тот смысл и значение, в котором теперь употребляется.
Принадлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью – нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного древнего мира, не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубины германского духа. Не составляла она части возобновленной Римской империи Карла Великого, которая составляет как бы общий ствол, через разделение которого образовалось все многоветвистое европейское дерево[82], не входила в состав той теократической федерации, которая заменила Карлову монархию, не связывалась в одно общее тело феодально-аристократической сетью, которая (как во время Карла, так и во время своего рыцарского цвета) не имела в себе почти ничего национального, а представляла собой учреждение общеевропейское – в полном смысле этого слова. Затем, когда настал новый век и зачался новый порядок вещей, Россия также не участвовала в борьбе с феодальным насилием, которое привело к обеспечениям той формы гражданской свободы, которую выработала эта борьба; не боролась и с гнетом ложной формы христианства (продуктом лжи, гордости и невежества, величающим себя католичеством) и не имеет нужды в той форме религиозной свободы, которая называется протестантством. Не знала Россия и гнета, а также и воспитательного действия схоластики и не вырабатывала той свободы мысли, которая создала новую науку, не жила теми идеалами, которые воплотились в германо-романской форме искусства. Одним словом, она не причастна ни европейскому добру, ни европейскому злу; как же может она принадлежать к Европе? Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой. Она не заслужила этой чести и, если хочет заслужить иную, не должна изъявлять претензии на ту, которая ей не принадлежит. Только выскочки, не знающие ни скромности, ни благородной гордости, втираются в круг, который считается ими за высший; понимающие же свое достоинство люди остаются в своем кругу, не считая его (ни в каком случае) для себя унизительным, а стараются его облагородить так, чтобы некому и нечему было завидовать.
Но если Россия, скажут нам, не принадлежит к Европе по праву рождения, она принадлежит к ней по праву усыновления; она усвоила себе (или должна стараться усвоить) то, что выработала Европа; она сделалась (или, по крайней мере, должна сделаться) участницей в ее трудах, в ее триумфах. Кто же ее усыновил? Мы что-то не видим родительских чувств Европы в ее отношениях к России; но дело не в этом, а в том – возможно ли вообще такое усыновление? Возможно ли, чтобы организм, столько времени питавшийся своими соками, вытягиваемыми своими корнями из своей почвы, присосался сосальцами к другому организму, дал высохнуть своим корням и из самостоятельного растения сделался чужеядным? Если почва тоща, то есть если недостает ей каких-либо необходимых для полного роста составных частей, ее надо удобрить, доставить эти недостающие части, разрыхлить глубокою пахотою те, которые уже в ней есть, чтобы они лучше и легче усвоялись, а не чужеядничать, оставляя высыхать свои корни. Но об этом после. Мы увидим, может быть, насколько и в какой форме возможно это усвоение чужого, а пока пусть будет так; если не по рождению, то по усыновлению Россия сделалась Европой; к дичку привит европейский черенок. Какую пользу приносит прививка, тоже увидим после, но на время признаем превращение. В таком случае, конечно, девизом нашим должно быть: Europaeus sum et nihil, europaei a me alienum esse puto[83]