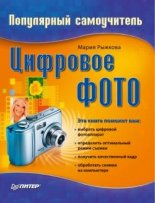Незабытые голоса России. Звучат голоса отечественных филологов. Выпуск 1 Коллектив авторов

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА
Руководители проекта:
доктор филологических наук М. Л. Каленчук доктор филологических наук Р. Ф. Касаткина
Под редакцией
кандидата филологических наук О. В. Антоновой
кандидата филологических наук Д. М. Савинова
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
«Звучат голоса отечественных филологов» № 06-04-304а
и гранта фонда «Русский мир» № 133Гр/533-08
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) проект № 07-04-94488
Составители:
О. В. Антонова, Р. Ф. Касаткина, Е. В. Корпечкова, Е. Ю. Кукушкина, Д. М. Савинов, Е. С. Скачедубова, Е. В. Щигель
НЕЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА
Голоса ушедших от нас людей мы помним долго, практически до конца нашей собственной жизни. Конечно, в памяти остается и их облик, и характер, и поступки. Время постепенно стирает многие из этих черт. Но в любом случае мы можем описать, передать на бумаге то, что сохранилось в нашей памяти: как жил человек, чем он был замечателен, какие его дела и поступки особенно значительны и ценны для нас. Можем описать его лицо, фигуру, манеру двигаться…
А голос? Как описать голос, чтобы это полностью соответствовало тому, что хранится – где? В памяти? В душе? В сердце? Ведь голос матери, любимого учителя (да и нелюбимого тоже), погибшего друга именно звучит в нас, а не просто запоминается. Но воспроизвести его – не в наших силах.
Зато – в силах современной техники. Записанные когда-то, много лет тому назад, слова и речи тех, кто нам был близок или просто чем-либо интересен, мы вновь можем услышать, лишь вставив кассету в магнитофон или диск в компьютер и нажав нужную кнопку. Это несомненное чудо, появившееся в XX веке, чудо, которого были лишены наши предки. Да и мы сами не можем применить это чудо к тем великим, которые жили, например, в девятнадцатом столетии (а как было бы здорово, если бы мы сегодня, в начале ХХI века, могли услышать записанный на пленку голос Пушкина или Достоевского!).
Издание, которое вы держите в руках, – не обычная книга, а книга звучащая. По-видимому, в русском языке еще нет единого слова, чтобы назвать этот жанр. Пока такую книгу называют звучащей хрестоматией. Она совмещает в себе черты обычной хрестоматии – то есть книги, в которой объединены некоторые избранные тексты, – и хрестоматии в виде магнитофонных записей; тексты представляют собой расшифровку этих записей. Разумеется, главную функцию выполняют помещенные на диске магнитофонные записи: именно они воскрешают голос, интонацию, тембр, индивидуальные особенности произношения тех, кого с нами давно нет.
В этом издании собраны голоса русских филологов середины и второй половины ХХ века – Д. Н. Ушакова, В. В. Виноградова, Р. О. Якобсона, С. М. Бонди, А. А. Реформатского, Р. И. Аванесова, В. Н. Сидорова, М. В. Панова, В. Д. Левина и других.
Кое-кто из ныне живущих лингвистов и литературоведов – в основном, представители старшего поколения – слышали этих людей вживе, кто-то имел счастье общаться с ними, а некоторые у них учились. Но таких людей все меньше. А удел новых поколений филологов – общаться с научными авторитетами прошлого главным образом через их книги, через печатный текст, будь то «ушаковский» или «ожеговский» словарь, «Русский язык» Виктора Владимировича Виноградова или нестареющее «Введение в языковедение» Александра Александровича Реформатского.
Вы можете услышать, как звучат голоса этих людей в разных жанровых «регистрах»: например, когда они читают лекции – в аудитории МГУ, как Сергей Михайлович Бонди и Роман Осипович Якобсон, беседуют за столом – как Александр Александрович Реформатский и Сергей Сергеевич Высотский, или – как Виктор Давидович Левин – выступают с пародией, высмеивая наукообразие иных ученых штудий…
Эти записи сохранились благодаря усилиям сотрудников отдела фонетики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН. Раньше этот отдел назывался Лабораторией экспериментальной фонетики (ЛЭФ), и это название вполне соответствовало тому, чем занималась лаборатория: в ней на протяжении многих лет осуществлялась работа (а латинский глагол laborre, предок нашей лаборатории, как известно, и значил ‘работать’) – запись на магнитофонную ленту голосов писателей, филологов, ученых других профессий, носителей русских диалектов, просто интересных людей. Часть записей, собранных в книге, сделана сотрудниками ЛЭФ (под руководством С. С. Высотского) А. Б. Виницким, Р. Ф. Касаткиной, А. М. Куз нецо вой, а также сотрудниками ИРЯ РАН Е. В. Красильниковой, М. В. Китайгородской, В. В. Одинцовым, Н. Н. Розановой и Л. К. Чельцовой; другие – записи выступлений на радио, лекции – попали в звуковой архив отдела фонетики ИРЯ РАН иными путями. И вот накоплено то, что не назовешь иначе, как культурное богатство: ведь в этих записях сохранены и сами голоса ушедших филологов, и их интеллектуальный и духовный облик, и та культурная среда, в которой они жили и которую одновременно создавали своим научным творчеством.
Кажется, что вместе с этими голосами не только входит в ваш дом филологическая наука прошлого, но и возрождаются иные, порядком стершиеся за последнее время нравственные принципы: верность научной истине (и в то же время терпимость к иному мнению), бескорыстие и преданность выбранной профессии, душевная щедрость, доброжелательность и ровность в общении и со студентом, и с ученым сверстником, и с академическим или университетским начальством.
Вслушайтесь в эти голоса! В них все настоящее – и звучание, и смысл того, о чем говорят наши учителя. В них не только полновесное русское слово, но и подлинная филологическая культура, столь необходимая нашим современникам.
Л. П. Крысин
ОБ УСТНОЙ ФОРМЕ РЕЧИ
Эта книга необычна. В ней представлены звучащие записи устной речи и их письменные эквиваленты (расшифровки аудиозаписей). Необычность книги состоит в том, что в качестве исходной, первичной формы здесь выступает устная речь, а письменная фиксация за ней следует. Это отличает данное издание от аудиокниг, где первичен письменный текст, который озвучивается чтецом (или чтецами). Это всего лишь «озвученная» письменная речь со свойственными именно этой форме законами.
Отношения между устной и письменной формами речи непростые и не всегда осознаваемые, даже в лингвистических кругах. Еще в конце 30-х годов ХХ в. Й. Вахек писал: «Оказывается безусловно необходимым различать “письменный язык” (“la langue ecrite”) и “устный язык” (“la langue parlee”) как две особые системы норм» (подчеркнем слово «особые») и отмечал, что языковеды лишь с большим трудом могут освободиться от гипноза графики, переходя от оптических знаков – букв к акустическим – звукам[1]. Об этом же совсем недавно говорил и М. Л. Гаспаров: «Несмотря на очевидную первичность устной речи, сложилась очень стойкая традиция, в силу которой устная речь воспринимается на фоне письменной речи и в параметрах этой последней»[2]. Н. И. Жинкин справедливо отмечал, что до недавнего времени мы «изучали “человека молчащего”».
М. Л. Гаспаров пишет: «Даже в фонетике, области, которая, казалась бы, заведомо должна была эмансипироваться в рамках собственно устной речи, воздействие графического образа было и остается определяющим. Еще в начале прошлого века оно имело непосредственно наивную форму отождествления звуков с буквами. Однако и последующее интенсивное развитие фонетики и фонологии не изменило данного положения в принципе, поскольку это развитие протекало почти исключительно в рамках сегментных единиц, т. е. таких, которые коррелируют с графическими единицами, либо, во всяком случае, могут быть приведены в такую корреляцию с помощью транскрипции»[3].
Примеительно к русскому языку активное исследование устной речи как особого феномена началось лишь в 60-х годах прошлого столетия, причем в фокусе внимания исследователей был, а во многом и продолжает оставаться лишь один из жанров этой речевой формы – разговорная речь.
Одной из особенностей устной речи является наличие определенного адресата (индивидуального или коллективного): «Письменная и устная речь устроены принципиально различным образом. Устная речь – речь, обращенная к собеседнику, который не только присутствует лично, но и лично знаком»[4], и с этим обстоятельством отчасти связана такая особенность устной речи, как высокая степень эллиптичности. Устная речь опускает то, что собеседнику известно. Адресат письменного сообщения абстрактен, лишен индивидуальности, «поэтому письменная речь значительно более детализована»[5].
Ю. М. Лотман отмечает: «Устная и письменная речь находятся в постоянном взаимовлиянии, которое в разные культурные эпохи проявляется в стремлении уподобить законы устной речи – письменной или, наоборот, законы письменной речи – устной. Письменная речь дискретна и линейна, устная тяготеет к недискретности и континуумной структуре»[6].
В связи с этими обстоятельствами письменные фиксации устной речи для читателя, даже искушенного в лингвистике, выглядят непривычно.
В устной речи значительную роль играют невербальные средства коммуникации – жесты, мимика. Устной речи свойственна не только эллиптичность, но и ее противоположность – избыточность, которая проявляется в повторах, самоперебивах, аутокоррекции и т. д. В этой форме речи в качестве регулирующего и компенсирующего инструмента выступает просодия – фразовая интонация, система акцентов, паузация.
И эта сторона устной речи продолжает быть недостаточно изученной: «cравнительно очень мало известно о мелодике устной речи, т. е. тех компонентах ее звучания, которые не могут быть непосредственно репродуцированы в выработанной письменной традицией форме записи. Таким образом, звучание устной речи фактически предстает как звуковая корреляция письма»[7].
Для каждой из двух форм речи характерен свой арсенал способов подчеркивания коммуникативно важных участков. В то же время существуют и некие общие для рассматриваемых форм речи ресурсы: набор дискурсивных слов (некоторые местоимения, частицы) и порядок слов. В устной речи дополнительно используется свой инструментарий создания семантической выделенности отдельных участков текста – набор разнообразных просодических средств. Это составляет специфику устной речи, специфику, роль которой еще недостаточно оценена в лингвистике. По образному выражению Ф. Мартена, просодические факты – это «бедные родственники официальной и узаконенной лингвистики, которая почти всегда отбрасывала их в сумерки маргинальности». А между тем по отдельным фактам, уже накопленным исследователями звучащей речи, угадываются очертания грандиозной картины, еще недостаточно изученной, отражающей роль просодии в устной форме речи. Темарематическая структура устного высказывания, выявление скрытых грамматических категорий (напр., категории определенности / неопределенности в русском языке), частеречная принадлежность лексем и многое другое – все это в устной русской речи подчинено просодии. В разных языковых системах весомость просодических средств разная, в русской речи она чрезвычайно велика.
Таким образом, устная речь использует три канала передачи информации – вербальный, просодический и визуальный (жесты, мимика), тесно связанные между собой и дополняющие друг друга.
Письменная и устная речь различаются не только по способам передачи информации, по содержанию сообщений и их адресации, но и по различному использованию языковых средств. Различия между двумя формами речи проявляются на разных языковых уровнях, но особенно ярко в синтаксисе и лексике. В многочисленных публикациях, посвященных исследованию разговорной речи, это неоднократно обсуждалось.
Следует различать подготовленные и неподготовленные аудиотексты. Разные жанры устной речи характеризуются разной степенью спонтанности vs подготовленности. Представленные в книге расшифровки аудиозаписей являются наглядной иллюстрацией этого положения: выступление по радио, произнесение («чтение»!) лекции, доклад перед коллегами, беседа с аспирантами, беседа с друзьями[8] могут быть расположены по определенной шкале уменьшения подготовленности и нарастания спонтанности. Повторы, паузы хезитации, самоперебивы, паузация – все это в гораздо большей степени свойственно неподготовленной устной речи.
Согласно У. Чейфу, при восприятии спонтанной речи «различия в порядке слов несущественны» т. к. оперативная память человека не превышает пяти секунд, и за это время слушающий успевает обработать отрезок речи «как единый объект, а не последовательность отдельных звуков»[9]. Это заключение, основанное на экспериментальных данных американских психологов, позволяет предположить, что «нарушения порядка слов», свойственные устной речи, являются ее имманентной характеристикой.
Устная речь может быть монологической, диалогической и полилогической. В нашей книге представлены в основном записи монологического характера. Вспомним, что под монол огом понимается такой вид речевого общения, когда коммуникативная активность принадлежит только одному из собеседников, и в процессе коммуникации не происходит мены ролей «говорящий – слушающий».
Делая письменные расшифровки записей устной речи, мы совмещаем несовместимое: сиюминутное превращаем в долговечнное, спонтанное в постоянное, континуальное – в дискретное. Сложную стереоскопическую структуру устной речи мы проецируем на плоскость. Публикуя эти записи, мы меняем и адресатов сообщений. Это обстоятельство объясняет, почему в записях известных филологов, блистательных лекторов, представленных в данной книге, так много «шероховатостей», «неправильностей» с точки зрения исследователей письменной формы речи.
Проиллюстрируем сказанное примерами из помещенных в книге расшифровок аудиозаписей. Случаи аутокоррекции: Это не было учение о звуковом составе слова, а это было мировоззрение, это было миросозерцание (из доклада Р. И. Аванесова); Концепцию строить из анализа или хотя бы просмотра, пересмотра самих фактов (из лекции С. М. Бонди); И у нас получилось, получались очень тяжеловесные описания; Вот такие десять заповедей, десять заповедей культуры речевого поведения; Вот мы сейчас сказали о вреде многословия, а оно, чаще всего, одновременно есть и пустословие, суесловие. Это начало, интродукция, вступление в общение (из выступления на радио Т. Г. Винокур); Академическая наука, т. е. та филология, которая преподается, излагается на университетских кафедрах (из доклада В. В. Виноградова).
Примеры повторов: Я почему об этом говорю, и не раз говорю, потому что у нас принято считать, так сказать, похлопывать по плечу этих самых классиков (из лекции С. М. Бонди); Он имел образование, так сказать, общее; общее такое образование – Школа правоведения. Это был талантливейший человек, острейший, остро воспринимавший все. Это был один из самых острых умов, который я вообще в жизни когда-нибудь встречал (из доклада Р. И. Аванесова).
Нарушение порядка слов: Это то, что называется классицизм, которого задача была именно такая (из лекции С. М. Бонди); Ну, система поэтического языка и система практического языка, это, значит, должно было разрабатываться (из доклада В. В. Виноградова); Мама заносила поднос, на котором в подстаканниках обязательно, непременно совершенно, подстаканник-стакан, чашки не подавались (из беседы Т. Г. Винокур); Я пришел в аудиторию, где Петерсон, Михаил Николаевич – ну вы их тоже, почти все, не знаете; ну, может быть, кто постарше, немножко знает – значит, введение в языкознание. Он на десять-двенадцать-тринадцать лет старше был нас (из доклада Р. И. Аванесова); Конечно, вопрос артикля в таком языке, как немецкий, да и похоже, что в английском тоже, хотя и не совсем тождественно, не такой уж простой, как это могло бы показаться на первый взгляд (из лекции А. В. Исаченко).
Имея дело с определенным адресатом и находясь в своем кругу, говорящий нередко прибегает к языковой игре: использованию диалектизмов, жаргонизмов, элементов просторечия, использует в речи стилистически чуждые элементы, играет с деформацией фонетического облика слов, расцвечивает свою речь «крылатыми выражениями» из латыни и греческого, инкрустациями из жаргона или других языков, занимается словотворчеством. Все это элементы языковой игры.
Просторечные формы: Мы слыхали о Соссюре, но вообще не читали, и впервые о Соссюре мы услышали из лекции Михаила Николаевича Петерсона (из доклада Р. И. Аванесова); Самое было счастье, если он на колени посдит (из беседы Т. Г. Винокур); Там хотя нету термина «фонема», но там дано первое, краткое описание фонологической системы (из доклада Р. И. Аванесова); Казалось непонятным, зачем нужно-то огород городить, так долго говорить (из доклада В. Н. Сидорова).
Молодежный жаргон: Как сейчас говорят?.. Ну?.. «Ваще тащусь!» Круто, да; «ваще», «ваще тащусь» (из беседы Т. Г. Винокур).
Окказионализмы: У нас возникли научные связи и так далее; то есть окололингвистика, а не сама лингвистика (из доклада Р. И. Аванесова); Она была самая главная уже сидельщица на коленях у Дмитрия Николаевича (из беседы Т. Г. Винокур); Мокропрозрение; попарадоксировать, разворошить все pro и contra (из пародии В. Д. Левина).
Использование иноязычных выражений: Академик Веселовский… <…>, затем уже переходя, так сказать, на то, что тогда называлось privatissimo, т. е. на домашние занятия (из выступления В. В. Виноградова). Этот дом имел cour d’honneur (из беседы А. П. Евгеньевой), в том числе латинских: eo ipso, sapienti sat, suum cuique, in vino veritas (из пародии В. Д. Левина); casus Levi (из лекции А. В. Исаченко).
Надеемся, что представленные в книге тексты будут интересны не только специалистам-филологам, но и самому широкому кругу читателей.
Р. Ф. Касаткина
Р. И. Аванесов
О МОСКОВСКОЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ
ДОКЛАД НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА АН СССР
Очень трудно говорить о Московской фонологической школе, потому что говорить о Московской фонологической школе – это надо говорить о всей жизни (ну, кроме детства), с юных лет, с того дня, как я поступил в университет. С другой стороны, говорить о московской фонологии трудно один-полтора часа, можно – целый год, каждую неделю говорить, продолжать читать курс, как в университете читали. Поэтому я даже и не знаю, как мне построить свою беседу: я взял кое-какие материалы, случайно у меня оказавшиеся, но скорее это будет не раскрытие основных положений московской фонологической школы, потому что вы и сами хорошо все это знаете по работам представителей этой школы, сколько вот та атмосфера, в которой она создавалась, как мы встречались друг с другом, как постепенно у нас возникли научные связи и так далее; то есть «окололингвистика», а не сама лингвистика.
Я дважды поступал в университет: один раз – только что кончив школу, в девятнадцатом году. Надо было подать заявление: «Прошу принять меня на филологический факультет»; причем не важно было, кончил ли я среднюю школу или что... Я проходил мимо университета, я увлекался Достоевским, не лингвистикой, хотел писать работы о Достоевском, подал заявление – «Прошу принять меня в университет». Через три дня я пришел, на стене увидел, что я принят в Московский университет <смеется>, но так больше ни разу не был. Не был, потому что это трудные годы, голод и так далее, начал работать – в общем, прошло три года. И вот я уже имел трудовой стаж два-три года, работал в желескоме Московско-Киево-Воронежской железной дороги, это «Железнодорожный лесной комитет». Наша организация готовила дрова для паровозов. Угля не было, ничего не было, значит, дровами топили паровозы. И я получил направление от профсоюза деревообделочников в университет, и меня тоже не спросили, ни что я кончил, ни почему я иду в университет, а просто зачислили, потому что этому профсоюзу было дано несколько мест. И вот первого сентября тысяча девятьсот двадцать второго года я пришел в аудиторию, где Петерсон, Михаил Николаевич – ну вы их тоже, почти все, не знаете; ну, может быть, кто постарше немножко знает – значит, <читал> введение в языкознание. Я сел на скамеечку, и рядом со мной подсел молодой человек, очень такой гривастый, черноволосый, скуластый, губастый – это оказался Владимир Николаевич Сидоров <смеется>. Мы с ним разговорились, и..., ну, с этого дня началась, собственно, совместная жизнь, дружба, совместная работа, которая продолжалась очень долго. Ну, до начала войны можно считать, что мы, собственно, все делали вместе. И порознь даже никто ничего не сделал.
Вот я думаю, если говорить о зародыше, так сказать, того, что у нас началось, то вот это тогда, когда мы встретились в университете. Но надо сказать, что наше, вот, направление складывалось постепенно, из разных мест и разными путями. Как отдельные ручейки складываются в речку, или в реку, или в реку, лучше сказать, так и мы. Одна из этих тропинок, которая вела к Московской школе, это была совместная работа, моя и Владимир Николаевича. Надо сказать, что это были годы, когда наша наука очень сильно была отгорожена от западноевропейской науки, потому что начиная с четырнадцатого года и в послереволюционное, в особенности первое десятилетие, да и не только первое, не было таких крепких связей, которые установились потом, в наше время, с западноевропейской наукой. Мы слыхали о Соссюре, но вообще не читали, и впервые о Соссюре мы услышали из лекции Михаила Николаевича Петерсона. Причем в такой доморощенной, я бы сказал, редакции, что... Михаил Николаевич очень подчеркивал, что нельзя изучать отдельные особенности языка, а надо изучать язык в целом, «как систему», он говорил. Это первое, что мы услышали. Мы очень рано приобщились к диалектологической работе, потому что мы оба учились у Афанасия Матвеевича Селищева и Дмитрия Николаевича Ушакова, которые направили наши интересы в области фонетики, в области диалектологии. Уже в первые студенческие годы мы участвовали, вначале порознь, в диалектологических экспедициях. И первые мои работы, и работы Владимира Николаевича были посвящены отдельным говорам. В 1927 году мне было сделано сразу два предложения участвовать в диалектологических экспедициях. Одна – с Петром Саввичем Кузнецовым, с которым мы были более далеко связаны (об этом я скажу), а другая с Владимиром Николаевичем Сидоровым. И я колебался, в какую экспедицию поехать: с Петром Саввичем и Андреем Николаевичем Колмогоровым, втроем, на лодках, на Мезень мы собирались поехать, и я с ними уже договорился, но в последнюю минуту я изменил решение, поехал с Владимиром Николаевичем на Ветлугу1. И вот я думаю, что наш интерес к описанию фонетической системы языка во всей сложности его функционирования относится ко времени, когда мы стали заниматься диалектологией. Мы хотели все осознать в целостности. Диалектологи обычно записывали то, что, как им кажется, отличает данный диалект от литературного языка. Мы же старались ухватить все. И у нас получилось, получались очень тяжеловесные описания, в которых очень многое было таким же, как в литературном языке, и в них тонули отдельные элементы диалектной речи. Немножко предвосхищая дальнейшее изложение, я скажу, что в двадцать восьмом году, кажется, наш учитель Михаил Николаевич Петерсон предложил вместе с нами, то есть мной и Владимир Николаевичем, поехать в диалектологическую экспедицию. Говорит: «Я у вас поучусь, вы уже опытные диалектологи», – а Петерсон уже пожилой профессор, но он никогда в диалектологических экспедициях не был. Мы поехали в село Дороеево, Шатурского района, Московской области и собирались написать коллективную монографию: я фонетику, Владимир Николаевич морфологию, а он хотел синтаксис описать. Мы там побывали, составили, но мы ничего не напечатали, напечатал один Михаил Николаевич Петерсон в трудах ИФЛИ2, в сороковом году, перед войной, в сороковом или сорок первом году3, а наши материалы, как вообще значительная часть моих диалектологических материалов и материалов Владимира Николаевича, остались ненапечатанными. И вот в Московской диалектологической комиссии4, наверно в двадцать восьмом году, я делал доклад: «О фонетической системе говора села Дорофеева Шатурского района Московской области». Этот доклад – не знаю, как он был: хорош, плох – но после доклада подошел (вот это характерно для представителей старой, младограмматической индоевропейской, так сказать, школы) Григорий Андреевич Ильинский. Он был очень вежливый человек, пожал мне руку (делал доклад я, от имени нас обоих): «Я очень Вам благодарен за Ваш очень интересный доклад. Но мне было бы интересно: почему Вы так много говорили о том, что является общим с литературным языком? Может быть, следовало бы выделить собственно диалектное?». Значит, хотя он сказал, что очень интересный доклад, но основная идея доклада как раз заключалась в том, чтобы дать систему диалекта, а не то, чем отличается диалект от литературного языка. Тем более, что я описывал – или мы описывали – подмосковный говор, прекрасный говор, в общем, очень близкий к литературному языку. Отличия там были минимальные. Но мы старались и чередования дать, и так далее. И для Григория Андреевича казалось непонятным, зачем нужно-то огород городить, так долго говорить, когда можно бы очень кратко выделить те особенности, которыми характеризуется этот диалект. И так мы с Владимиром Николаевичем пришли к понятию системы языка применительно к его звуковой стороне, через диалектологию. Другие товарищи наши иными путями приходили к этому же. Например, Александр Александрович[10] Реформатский, которого я тоже знал с университетских лет (кстати, я скажу, что мы ведь хотя и погодки, но разных лет, и кто был помоложе курсом, кто постарше курсом; но в то время в университете не было курсовой системы; была система предметная, и могли первый и пятый курс встретиться на любом семинаре, выбирали просто лекции и курсы, которые слушали). Реформатский был старше нас и годами, и по курсам, но мы довольно рано встречались, хотя в первые годы особенно близки не были. Реформатский рано стал работать в издательствах, он был техредом, как говорится, техническим редактором, а потом даже работал по оформлению книг и написал прекрасную большую книгу, не знаю, видели ли вы ее или нет, уже в тридцатых годах, где обобщил свой опыт техники оформления книги5. Но там были и вопросы графики, вопросы орфографической системы, вообще, общие вопросы семиотики и так далее. Вот и из таких прикладных изучений графики, орфографии, оформления книги он постепенно тоже приходил к вопросам фонологии.
Из самых ранних моментов в организации нашей группы и нашей работы в области фонологии относится объединение, которое, наверное Реформатский, назвал ДАРС. ДАРС – это было объединение четырех лиц. Первое лицо, вам как раз неизвестное, Сергей Иванович Дмитриев, наш товарищ по университету – Д, А – это Аванесов, Р – это Реформатский, С – это Сидоров. Значит, мы наметили писать какую-то большую книгу, вроде «Основы языковедения», где я должен был написать опять-таки фонетику, Реформатский – морфологию, Сидоров – синтаксис, а Дмитриев – лексику. Ну, из этой книги у нас ничего не получилось, но мы собирались, обсуждали, какие-то материалы готовили и больше всего наши интересы сходились вокруг вопросов фонологии. Говоря о развитии нашей Московской фонологической школы, я не могу не упомянуть еще одного человека, относящегося к поколению наших учителей, который непосредственно не был связан даже с Московской школой, но с которым мы были, в особенности я и Владимир Николаевич, связаны, – это Николай Николаевич Дурново. Дурново вернулся после длительной командировки, поездки из Праги; он там был четыре-пять лет, кажется, и был членом Московс кой диалектологической комиссии. Мы с ним стали встречаться. Это был удивительный человек. Человек, который не считал зазорным, так сказать, учиться у своих учеников. Дурново был до революции приват-доцентом Московского университета. У него учился Роман Осипович Якобсон. В Праге Дурново встретился с Романом Осиповичем, и когда он приехал, он нам, тогда еще только что окончившим университет, говорил, что он многому научился у своего ученика Романа Якобсона. Он так тогда этим загорелся также, идеями фонологии. И вот, в конце, наверное, двадцатых годов, мы с ним, втроем, наметили писать книгу – грамматику русского языка, где я должен был написать фонетику, Сидоров морфологию, а Дурново – синтаксис. Ну, как вы знаете, тоже из этого ничего не получилось, хотя должен сказать, что это был первый, так сказать, намек на будущую нашу книгу с Владимиром Николаевичем «Очерк грамматики современного русского литературного языка. Часть первая: фонетика и морфология»6, без синтаксиса. Дело в том, что в конце тридцать третьего года Дурново был арестован, и знакомство с ним и вообще эти связи дорого стоили Владимиру Николаевичу, который также через месяц был арестован, и, значит, эта работа осталась только начатой и незавершенной. Но мы с Владимиром Николаевичем связь установили очень быстро, через год после его ареста, потому что ввиду болезни ему назначили жить в Казани. И я летом тридцать пятого, тридцать шестого года к нему ездил, мы обсуждали разные вопросы, и мы все-таки сумели в это время – благодаря тому, что я был в Москве, были связи с издательством, – написать учебник по русскому языку для педтехникумов7. Там нету, кстати (он вышел в трех-четырех изданиях, в тридцать пятом, до сорокового, не помню, в каких годах), там хотя нету термина «фонема», но там дано первое, краткое описание фонологической системы русского литературного языка и даже там главка об орфографии, теория орфографии в свете фонологии.
Это, значит, Дурново. Теперь, важное значение для нас имело объединение многих из нас в работе над вопросом о реформе русской орфографии. В тридцатом – тридцать первом году была организована при Наркомпросе комиссия по реформе орфографии. В тридцать первом году мы стали ее обсуждать в научно-исследовательском институте языкознания; такой был НИИЯз при Наркомпросе, при Министерстве народного просвещения, помещался на улице Кирова. Там мы встретились с еще одним человеком, который оказался для нас очень ценным приобретением, как в нашей личной товарищеской жизни, так и в нашей научной работе. Это Алексей Михайлович Сухотин, о котором вы, может быть, слышали. Значит, было заседание, посвященное вопросам реформы орфографии. И вот какой-то пожилой человек уже; ну, мы совсем молодые были, а он на десять-двенадцать-тринадцать лет старше был нас, одетый в такую какую-то гимнастерку, такой, необычного очень вида, сказал, что вы вот тут говорите о реформе орфографии, а вы знаете, говорит, вот есть какие-то Аванесов и Сидоров, которые написали в «Русском языке в школе» статью – про реформу орфографии и проблемы письменного языка8. Вот там совершенно правильно подчеркивается то-то, то-то, то-то, что буква обозначает не звук, а фонему, что-то, какие-то такие вещи. А мы тут рядом сидим, и кто-то нас показывает. Мы тут познакомились с ним.
Ну, я не знаю, много ли вы слышали о Сухотине. Кстати, вот Панов – знает его, учился в Городском педагогическом институте, где преподавал, между прочим, и Алексей Михайлович Сухотин (о Городском пединституте я скажу). И, кстати, Сухотин первый заметил Панова и мне сказал. Говорит: «Рубен Иванович, вот очень хороший студент». Так вот, значит, Сухотин. Сухотин – это сын Сухотина, мужа одной из дочерей Льва Николаевича Толстого. Имение Сухотиных рядом с имением Толстого, и Алексей Михайлович Сухотин (в нашем кружке он назывался «Феодал», это Александр Александрович его назвал), он из дворянской среды; Алексей Михайлович Сухотин в детстве сиживал на коленях у Льва Николаевича Толстого. Он кончил аристократическое учебное заведение, Училище правоведения, и пошел по дипломатической линии. Он был нашим советником царского посольства где-то в Черногории и в Сербии; война застала его на дипломатическом посту, он был переведен в Париж, кажется; видел многих государственных деятелей Франции того времени, я не помню, Пуанкаре, Мильерана и так далее. Ну, в общем, когда он приехал в Россию – до революции или сразу после революции, – не знаю; но я видел его анкетные данные – я вот не сказал, я его принимал на работу в Городской педагогический институт, у него написано там шестнадцатый, четырнадцатый или шестнадцатый год – советник посольства в Париже; восемнадцатый год – член ревтрибунала Тамбовской губернии. Как это получалось, я не знаю. Но у меня была тысяча и одна неприятность с ним на работе, так сказать; потому что анкета такая, что она никуда не годится вообще. Значит, вот появился Сухотин. Сухотин, как я уже сказал, собственно, по годам относился к поколению наших учителей; восемьдесят девятого года рождения. Да. Но он стал нашим, если хотите, младшим другом, потому что он имел образование, так сказать, общее – Школа правоведения; я не знаю, это значит, вроде юридического факультета, но такого аристократического склада. Но в начале двадцатых годов он был аспирантом Николая Феофановича Яковлева. Изучал турецкий язык; тюркские языки, и в частности непосредственно турецкий язык, и был учеником Яковлева. Это был талантливейший человек, острейший, остро воспринимавший все. Это был один из самых острых умов, который я вообще в жизни когда-нибудь встречал. Но он, повторяю, был вроде нашего ученика даже, потому что русистики он не проходил, вообще филологического образования у него не было, но он самоучкой доходил до того, до чего многие из нас не могли дойти путем профессиональной многолетней выучки.
Я не сказал, но вы это сами знаете, что в стороне от нас был Яковлев, который, собственно, и во многом является предтечей всей московской фонологии. Еще в двадцать третьем году вышла его «Таблица кабардинской фонетики»9, кажется, где некоторые очень ясные фонологические положения остаются, сохраняют свою ценность до нашего времени. А немножко позднее, во второй половине двадцатых годов, у него превосходная статья «Математическая формула построения алфавита»10; где, собственно, дано краткое описание фонологической системы в связи с ее отображением русской графикой и орфографией. Я думаю, что эта статья является этапной статьей вообще в истории развития фонологии. Таким образом, наши «дяди», так сказать, это, с одной стороны, Николай Феофанович Яковлев, с другой стороны, в какой-то мере, Дурново, который, во всяком случае, направлял нас в эту сторону, хотя сам этим не занимался; и наконец, наше постепенное объединение.
Итак, мы встречались в кругу, так сказать, «домашнем», потом, значит, в связи с реформой орфографии, наконец, с самого начала тридцатых годов постепенно стали мы встречаться в Московском городском педагогическом институте. В тысяча девятьсот тридцать втором году я был приглашен в Московский городской педагогический институт, который только что образовался, заведовать кафедрой русского языка. Кстати, в то время у нас никаких званий, степеней вообще не было. Значит, меня пригласили профессором; ну почему профессором, я не знаю. Значит, меня пригласили заведовать кафедрой и быть профессором этого университета. Я помню, когда через месяц или два оттуда позвонили домой: «Будьте добры, профессора Аванесова». А моя жена Лидия Моисеевна [Поляк. – Прим. ред.] расхохоталась прямо в трубку: «Какого профессора Вам?». Она даже вначале не поняла. Ну, потом я сказал, что я стал профессором. Значит, я сразу стал организовывать кафедру. Ну, естественно, что первым делом я пригласил Владимира Николаевича, а потом постепенно вообще всех; вот тут я держу перед глазами, товарищи, не свою какую-нибудь рукопись, а чужую рукопись. У меня рукопись Реформатского, похожая на что-то о московской школе11. Тут он перечисляет всех, кто был на моей кафедре. Значит, я организовал кафедру русского языка, ну я не знаю где, неважно. Бог с ним, в конце концов. Значит, в эту кафедру сразу я пригласил в разные годы все, что было в Москве вообще с моей точки зрения ценного. Это был Сидоров, это был Кузнецов, это был Реформатский, это был Сухотин, это был Григорий Осипович Винокур, о котором я еще отдельно скажу, это был Абрам Борисович Шапиро, Афанасий Матвеевич Селищев – он очень быстро вернулся из ссылки; потом, в середине тридцатых годов в Москву переехал из Ленинграда Сергей Игнатьевич Бернштейн, ученик Щербы, очень тонкий фонетист и глубоко интересовавшийся фонологией, – словом, все, что вообще могло быть. И надо сказать, что кафедра русского языка Московского городского педагогического института в тридцатых годах стала, собственно, основным центром лингвистической мысли, во всяком случае, в области фонологии русского языка, в Москве.
В 1939 году Сидоров вернулся в Москву. И мы с ним продолжили нашу общую работу. В тридцать девятом – начале сорокового года мы написали книгу «Очерк грамматики современного русского литературного языка», где я написал раздел фонетики, а он написал раздел морфологии. Мы здесь использовали частично и наши старые работы – учебник для педтехникумов, где иное распределение работы было; ну, мы использовали некоторые материалы этой книги и в сороковом году сдали в печать. Наша книга вышла в сорок пятом году. Она была набрана в конце сорокового – в сорок первом году, но не успела выйти до начала войны. Но она была заматрицирована, и матрицы сохранили случайно в типографии, где это печаталось. В сорок четвертом году их обнаружили, матрицы готовые, и в сорок пятом году напечатали. Таким образом, эта наша работа, в сущности, относится к сороковому году.
Какие были первые печатные сведения о новом направлении фонологии в Москве? Я думаю, что едва ли не самым первым будет (если не считать работ Яковлева, который организационно с нами не был связан, но идеи которого были чрезвычайно близки нам и идеи которого мы по мере того, как с ним познакомились, конечно, использовали); если оставить Яковлева в стороне, то, я думаю, что одна из первых заметок – это была наша с Владимиром Николаевичем статья «Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка»8, вышедшая, кажется, в тридцатом году, если не в двадцать девятом. Затем в тридцатых годах фактически фонологические краткие описания, популярные, в нашем учебнике по русскому языку для педтехникумов. И вот следующим крупным уже, пожалуй, явлением – ну, в нашем масштабе этой работы, – это была наша книга «Очерк грамматики современного русского языка»6. Одновременно к этому времени под моей редакцией вышли труды Московского городского педагогического института по кафедре русского языка, где напечатаны были две – а я сам заболел в это время, вот я потерял слух, и моя статья там не оказалась – важные статьи, которые рядом с книгой моей с Владимиром Николаевичем послужили основой дальнейшего. Это статья Кузнецова о фонологической системе французского языка12 и статья Реформатского о американских фонологах, не помню точное название.13
Вот к этому времени можно считать, что основные наши положения были уже высказаны. Значит, все это, можно считать, сложилось так вот в предвоенные годы, хотя наша книга вышла в сорок пятом году. У меня работа Реформатского. Я вчера ему позвонил по телефону, хотел спросить, могу ли я процитировать его, где я захочу. Ну, у него не отвечали. Но я думаю, он не посетует на меня, если я раза два процитирую. «Мы все шли разными путями. Основы этой школы – (нашей) – заложили Рубен Иванович Аванесов и Владимир Николаевич Сидоров, учившиеся вместе в Московском университете и разрабатывавшие фонологию на диалектологическом материале». И так далее; ну, я это рассказывал, да. Далее он указывает на очень важное значение статьи Яковлева для нас, двадцать восьмого года, «Математическая формула построения алфавита»10. И дальше пишет: «Ядро московской фонологической школы образовали Сидоров, Аванесов, Реформатский и я14. Основные положения ее отразились еще в статье Аванесова и Сидорова “Русский язык в школе”, тридцатый год. Тогда же возникла мысль о более крупном объединении всех, “кто по-московски верует” (это Реформатский). Это осуществил Рубен Иванович Аванесов, возглавив кафедру в Московском городском педагогическом институте, куда он пригласил Селищева, Бернштейна – (Бернштейна другого тоже, Самуила Борисовича), – Сидорова, Сухотина, Шапиро, Кузнецова, Зарецкого, Винокура, Реформатского, Ильинскую, Орлову». Ну, это он не совсем точен: Ильинская, Орлова, значит, ну, по крайней мере, Орлова, она моя ученица, вначале, в тридцатых годах, она была студенткой, а потом она была аспиранткой, и действительно, она попозже была приглашена, вместе с Ильинской, которая была параллельно ученицей Григория Осиповича Винокура, к нам. Так сказать, это все-таки второе поколение. «Не правда ли, блестящий ансамбль лингвистов!». Ну, я так бы не выразился, но это стиль Реформатского, не мой. «И здесь в практической потребности преподавания мы еще раз объединились… На наших заседаниях бывали очень многие: здесь бывал и Ушаков, и Щерба (Щерба не один раз у нас делал доклады), Булаховский, Лев Иванович Жирков, Розалия Осиповна Шор и многие другие». Мы в тридцать пятом году провели дискуссию на тему о фонеме, в которой выступил докладчиком Реформатский. Ну, а оппонентами были многие другие. Горнунг приходил к нам, но с Горнунгом и тогда казалось, у нас нет совершенно общего языка, потому что в то время как вот и другие инакомыслящие, как Сергей Игнатьевич Бернштейн, с которым мы могли спорить, с Борисом Владимировичем Горнунгом спорить трудно было, потому что у него какой-то был совсем не лингвистический аспект. Он, конечно, прекрасный, блестящий филолог, но лингвистического мышления нет. Вы знаете, я не сказал вот о чем: хотя мы говорим о московской фонологической школе, но, собственно говоря, фонология для нас – это не было учение о звуковом составе слова, а это было мировоззрение, это было миросозерцание. И чем бы мы ни занимались: грамматикой, лексикой.
С. М. Бонди
О ЛИТЕРАТУРЕ КЛАССИЦИЗМА
ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
Нужно все понятия, все термины употреблять объективно, научно, чтоб не приходилось подгонять факты под готовую концепцию, а наоборот, концепцию строить из анализа или хотя бы просмотра, пересмотра самих фактов. И если эта концепция не совсем совпадет с тем, что мы видим, так нужно бросить концепцию и создавать новую, придумать такую, в которой бы это все уложилось. И на прошлых лекциях я, как мне кажется, постарался убедить вас в том, что единой задачи не только у всех искусств от архитектуры до балета, но и даже у литературы, основной из искусств, не существует. А потому как язык существует для выполнения самых разных задач, обслуживает человека в самые разные моменты и для самых разных целей его жизни, то и поэзия, и художественная литература также осуществляют самые разные задачи. Задачи перечислить все, написать в учебнике теории литературы список всех задач, которые литература выполняет или может выполнять, – это тоже не научно, потому что литература – это жизнь, психология и так далее. И заранее мы не можем сказать, что будут делать писатели в XXI веке или в XXII веке. Какие задачи встанут перед человечеством, которые понадобится так или иначе решать или участвовать в их решении писателям, поэтам. Так что мы можем говорить только о тех задачах, которые выполняет литература, говоря о прошлом и настоящем. Просто так пересмотреть – для чего была литература, что она исследовала в человеческой деятельности? И все время оглядываться на то, как это связано с нашей основной темой. Так вот, я говорил, помните, относительно того, что в давние времена одной из самых важных функций литературы была чисто религиозная, магическая, заклинательная, мистическая задача, которую писатели… не писатели, а поэты, которые и не писали еще, они чудесно выполняли, используя для этого все средства художественного воздействия. И в состав их произведений... и даже при выполнении этих задач им приходилось конечно частично решать и то, что мы можем назвать реалистической задачей, т. е. рассказывать о том, что в действительности есть, а не только выдумывать то, чего нет, что на том свете. Это значит, что элементы реалистические и в этой религиозной магической литературе были. Это одна задача. Нам слово «реализм» понадобится для другого. Дальше я начал в прошлый раз говорить об очень важной во все времена активно встающей задаче – это воздействие словом на действия человеческие. Это задача пропагандистская, агитационная, воспитательная, дидактическая. Какие угодно слова говорите. Это не познавательная задача и уж тем более не магическая. Я говорил вам в прошлый раз о том, что целиком этой задаче посвятил всю свою деятельность такой замечательный писатель, как Маяковский.
В XVII–XVIII веках в Европе целое литературное направление развивалось по-разному, вызывало к действию целый ряд талантов самых первоклассных для своего времени. Это то, что называется классицизм, которого задача была именно такая. Почему я хочу на этом подробно остановиться? На других литературных направлениях я не собираюсь подробно останавливаться. А здесь… Потому что, во-первых, это очень уж характерно, очень помогает понять самое основное положение, которое я хочу вам внушить, которое говорит о том, что в разные эпохи, в разных исторических обстоятельствах разные задачи ставятся. Объединять все в одну задачу, как бы она философски ни была привлекательна и нам бы ни была близка, ни в коем случае нельзя, это разные задачи. И, во-вторых, потому что как вот такая задача, которая, может быть, сейчас нам кажется не очень нужной, то есть в том виде, как она тогда была, сейчас я вам скажу, исторически… ну, как вот такая исторически важная, исторически прогрессивная, как вы увидите, задача воспитательная, как она мобилизовала самых талантливых людей и помогла, стимулировала создание самых первоклассных произведений, которые и сейчас, хотя эта задача давно уже устарела, но их художественные качества сохраняются и до сего времени. И классицизм это не… Ну, словом, это такое явление в европейской, мировой… Ну, мировой я не знаю, Китае или Индии, это сложный вопрос; скажем так, в европейской литературе это такое важное явление, которое мы должны, так сказать, в паспорт занести – есть такая вещь, была, потому что я вам расскажу, какие они были умные, эти самые и теоретики, и практики классической иностранной литературы. Это одно из замечательных изобретений человеческого ума. Я почему об этом говорю, и не раз говорю, потому что у нас принято считать, так сказать, похлопывать по плечу этих самых классиков – ну, мало ли что, ошибались там, три единства, зачем, например, единство времени, Чехов мог прекрасно обходиться без этого, мало ли что – это был XVIII век. Ничего подобного! Это было необычайно умно все. Так вот я говорю, что возникло это направление – классицизм – во Франции, как вы знаете. И сразу же выяснилось, если подумать, выясняется, что причина, отчего оно возникло, чисто социальная и даже политическая. Так бывает. Это не подтягиваю я, а так оно реально. В это время в XVIII веке во Франции, самом передовом государстве Европы, происходило очень важное событие: то есть феодальная Франция, разбитая на отдельные мелкие и крупные самостоятельные государства, которые находятся в разных взаимоотношениях к королю. Король, герцог, граф, бароны, и все они самостоятельны и могли даже воевать один против другого, и ничего подобного, измены никакой Франции не было. И эта старая разрозненная феодальная страна превращалась в единое государство, национальное французское государство, единое. И это как-то исторически и экономически объяснять не нужно, вы это все учили, но это несомненно было очень важным прогрессивным моментом, когда разрозненность уничтожалась и вся эта страна превращалась в единую Францию, а раз единая, то это должно быть единое правительство, единый король, а в ту эпоху это значит, что это не просто король, который царствует, но не управляет, как это в Англии было, а король, который управляет, то есть диктатура настоящая и исторически прогрессивная. Там это происходило, как вы знаете, Ришелье это делал, а потом Людовик XIV закрепил, а потом началось понемногу разрушение. И в эпоху, когда этот процесс происходил в истории, на помощь ему пришла литература. Лучшие, талантливейшие писатели того времени… не все, а только группа этих писателей, они пришли на помощь своими средствами, поставили задачу пропагандировать, проповедовать именно вот эти идеи единства Франции, отказа от раздробленности, разрозненности, таких частных и таких областных интересов, подчинение их, этих всех интересов, единому государственному политическому интересу населения Франции. Целый ряд писателей: Корнель, Расин, Буало, Фенелон, Мольер, все имена я называю знаменитые, которые и сейчас живы, никто их силком не заставлял это делать, они сами, именно так, как это и бывает в важные исторические моменты, самые талантливые и самые чуткие представители искусства приходят и включаются в этот исторический, а на самом деле политический процесс. Вот они и создали целое литературное направление, задачей которого было помочь в самой общей форме, помочь этому положительному, прогрессивному процессу. А конкретней сказать: обслуживать французское государство, французское автократическое, и не только, а даже диктаторское французское государство, которое ведет Францию вперед в прогрессивном направлении. Помочь этому делу своим художественным словом. Перевоспитать читателей грамотных, не крестьян, конечно, а главным образом это были дворяне, которые сами большие или малые феодалы или участники этого всего феодального строя или образованная и богатая буржуазия, которая, как вы знаете, во Франции колоссальную роль играла. Так вот буржуазия – разговор другой, с ними нетрудно было, у них и не было феодальных иллюзий, а это самое основное, вот господствующий-то класс, дворянство, нужно было с помощью художественного воздействия перевоспитывать их, вызвать в них такие чувства, которые были им совершенно чужды. Ну, например, то, что можно назвать патриотизм, французский патриотизм. У него патриотизм своей области был, своего герцогства, и потом ему ничего не стоило выступить даже воевать с французским королем.
Только одно действие, один сюжет, один конфликт должен быть. Казалось бы, это такие капризные правила строгие, которые совершенно ни на чем не основаны. Тем более, когда они сами, эти теоретики классицизма, пытались обосновать, у них было так, как вы знаете, что в основе должно быть правдоподобие. Неправдоподобно, если занавес открылся, дело происходит в какой-то атмосфере, в какой-то комнате, занавес закрылся, через пятнадцать минут занавес открылся, смотришь – я сижу на том же месте, в том же кресле, смотрю туда, здесь уже совершенно другое. Это неправдоподобно. И буквально так они это рассуждали. И то же самое со временем. Как прошло… Идеально было бы конечно, чтобы… Сколько? – Два часа, три часа длится спектакль, вот и все действие должно в три часа уложиться. Ну, давайте растянем немножко. Но так, чтобы только что пошел, погулял в этом самом фойе, вернулся, открывается занавесь – уже это год прошел, это неправдоподобно. Вот это оправдание правдоподобия, оно, в сущности, неудачно. Конечно, здесь они ставили под удар эти очень умные правила. И поэтому все, кто боролись потом против классицизма, и Лессинг, и Пушкин, который писал… чудесно говорил: «О каком правдоподобии может идти речь в театре, который представляет собой зал, разделенный на две части, причем одни делают вид, что они не видят целые массы других, то есть, это те, которые на сцене. Они же действуют так, как будто на них никто не смотрит. Самое неправдоподобное из всех искусств…» Только нынче не точно процитирую его, он короче и умнее…1 Ну, конечно, он прав. Это самое доказательство, обоснование правдоподобия этих событий, оно не лучшее. Для нас гораздо важнее существо этих событий. Если подумать – действительно, а зачем это нужно – эти три единства?
И как люди, не думая о них, другие драматурги сами вводят такие же свои практики. Ну, в самом деле, если вы вспомните, вот будет у меня трагедия, а не комедия, проще, то же относится и к комедии. Вот вспомним основу трагедии. Это конфликт какой-то. Конфликт между двумя… двумя… Не то, что между двумя людьми борьба, нет, главным образом, между двумя системами чувств, системами мыслей, двумя чувствами долг государственный, скажем, и частный. Или внутри этого может быть какой-нибудь долг совести и личное чувство, все равно, вот первое, вот задача наиболее сильно, наиболее убедительно, наиболее волнующе зрителям представить этот конфликт.
Так вот, спрашивается, нужно ли показывать, предположим, к какому-нибудь сюжету перейдем. Ну скажем, условно возьмем такой сюжет: я… нет, не я, а герой этот самый влюбился в дочку короля, так предположим, и знает, что жениться на ней нельзя, а между тем без этого он жить не может. Вот уж самый простенький такой сюжет. Нужно ли для разрешения этого, развития этих бурных чувств и для того, что происходит, событий, нужно ли показывать, как постепенно он пришел к этому чувству? Как он ее в первый раз увидел и обратил внимание, потом постепенно его любовь развивается и так далее. Не нужно, это само собой разумеется. Долг государственный есть государственный долг. Задача совершенно не в том, чтобы проследить, как в действительности такого рода события происходят, это не задача… Или как изменяется психика человека, возьмите «Три сестры» Чехова, как в каждом действии эти самые три сестры немножко меняются, и в то же время что-то сохраняется, это не та задача. Задача в том, что известно одно чувство, одна система идеологии, и известно зрителям другое чувство, другая система идеологии, они сталкиваются, и происходит взрыв. Чем короче это будет, если это можно было бы в одном действии все показать, то это был бы страшный взрыв в художественном смысле, взорвались бы стены театра, это то, о чем мечтал бы сам драматург, чтобы так сильно подействовало. Это невозможно. Поэтому приходится немножко растянуть, постепенно, чтобы показалось и это, и это, и какие-то разные колебания, и немножко в одну сторону, и немножко в другую сторону, и потом, наконец, эта страшная, чаще всего страшная, а иногда и не страшная, иногда и благополучная развязка. Вот задача острый конфликт, причины которого зрителям совершенно ясны, система психологии этих конфликтующих деятелей видна или внутри одного персонажа, или двух разных психологических систем, все это знакомо и близко зрителям. Вопрос только – показать, как это короткое замыкание происходит. Но согласитесь сами, что растягивать эту вещь на несколько дней, на несколько месяцев, на несколько лет так это к делу никакого отношения не имеет. Наоборот, чем короче, чем мгновеннее все, тем это лучше в художественном отношении.
Единство действия. Если еще попутно мы, увлеченные, завлеченные автором, вот этим конфликтом, еще будем интересоваться тем, как слуга влюбился в служанку или у них все параллельное это дело, так это отвлечет нас от самого главного. Это не нужно, не нужно. Это он другую пьесу об этом напишет с единством действия. Единство действия, единство времени это эстетические категории, они нужны для боле сильного эстетического и, значит, всякого изобретательного идейного и т. д. воздействия.
То же самое относится в меньшей степени к единству места. Конечно, отвлекать зрителя, отвлекать, развлекать нужно чем-то. Открылась ах, батюшки, уже берег моря видно! Тут не до берега моря, не до этого. А он, может, говорит, что же с героем случилось, что же, как же сейчас он будет себя вести. Кстати сказать, это менее всего соблюдалось. И разрешалось вот какие-то… Ну, скажем, если дело происходит во дворце, в разных комнатах дворца или во дворе дворца, это можно сделать или даже переместиться на берег, это не наиболее строго соблюдалось, и правильно, потому что здесь такого разрыва между целью и исполнением не может быть. А в остальном это совершенно верные правила, которые точно соответствуютосновной цели этого произведения. И тут тоже нужен мне контекст, а между тем, мне хотелось бы привести два примера. Один пример я приведу, а следующий отложу до следующего раза.
Как я уже говорил, когда драматург уже вне классицизма и может перед ним встать такая же задача, когда он должен изображать, такое может быть и у современных драматургов, какой-то конфликт такого типа, то он инстинктивно, не думая ни о каком классицизме, будет тому следовать. Один пример это «Горе от ума» Грибоедова. Конечно, вы скажете, что там все происходит в одной квартире и происходит в один день, и уж, тем более, там единство действия. Вы скажете, что пережитки классицизма довлели над ним, тяготел он к классицизму. Ну, хорошо, тогда возьмем другое. «Ревизор» Гоголя. О «Ревизоре» я в следующий раз буду. А «Горе от ума» я вам напомню. Высокохудожественно построено по этим правилам трех единств. Ну, скажите, пожалуйста, начинаем с чего там, в чем конфликт? Вот существует Москва, московское общество. Это Фамусов, Скалозуб и Софья, которая воспитана этим обществом. И существует совершенно другая идеология, другой подход к жизни это единственный человек во всей пьесе это Чацкий. Он падает просто как ракета с неба туда, в это самое общество. И что же нам интересно, чтобы посмотреть, как он, верный, приехал из-за границы, разбирает свои вещи, чемоданы, вспоминает о Софье, колеблется – нужен ли ей? Это неинтересно, совершенно не это интересно. Или показать, как дошел до жизни такой Фамусов, показать его, как он в молодости был таким-то. Это все может и интересно. Это уже будут в середине XIX века или в конце XIX века. А тут нет, что такое фамусовское общество – все зрители знают, они сами участвуют в этом. Что такое вот этот самый, прилетевший откуда-то из-за границы, они слышали уже о таких, видели таких молодых людей. И вот это происходит: он является туда, и действительно происходит взрыв, и зачем же растягивать это надолго, довольно одного дня. А ведь результат какой! Он обратно улетает: «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок!», «Искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок…» Молчалина теперь выгонят, потому что осрамили Софью. Софью к тетке «в глушь, в Саратов». Лиза, ее, значит, в свинарницы сошлют. А Фамусов хватается за голову: «Боже мой! Что будет говорить княгиня Марья Алексевна!». Вся его репутация потеряна. Вот это самое, это образец. Эта задача была Грибоедовым выполнена по строгим правилам трех единств. А попробуйте-ка их изменить, предложить ему: «Ты прими это или перемени, переведи в другое место! А еще расскажи, там намек-то есть: «А как не полюбить буфетчика Петрушу!». Вот там и Петруша «вечно ты с обновкой», может, и это побочное действие? Так это вы смеетесь, потому что это испортить всю пьесу. Такие пьесы были все пьесы классицизма. Всякого рода отступления от этих правил испортят всю пьесу.
В. В. Виноградов
РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ ПОЭТИКИ И СТИЛИСТИКИ В 20–30-е ГОДЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ИРЯ АН СССР 28 МАРТА 1967 г.
В прошлый раз Виктор Давыдович Левин задал мне такой вопрос: «Что же, так не было никаких конфликтов, столкновений, хотя они, может быть, в какой-то степени нашли отражение даже в печатной продукции наших, ленинградских филологов двадцатых годов?». Что на это я мог бы сказать… Борис Михайлович Эйхенбаум в одной из своих книжек, которые он мне подарил, написал такие стихи:
- Враги былые, мы состарились и стихли.
- Не так уж важно: проза, драма, стих ли.
- Живем не столь идеей, сколько сбытом;
- Вы языком питаетесь, я – бытом.
То есть он говорил о том, что он в это время занимался вопросами литературного быта. Так вот, это стихи, правда, в другой книжке, он написал – по-моему, чересчур пышно – о наших отношениях в истории литературы. Вот я и хотел бы подчеркнуть и с этого и начать беседу, что он писал в тридцатых годах, когда еще мы все-таки не так и состарились, «не так уж важно: проза, драма, стих ли». А тогда эти вопросы в первое время для нас были основными. Это и то, что часто разделяло нас. В самом деле, вы просто представьте себе обстановку конца десятых, потому что это уже конец десятых годов и начало двадцатых годов нашего столетия. Академическая наука, то есть та филология, которая преподается, излагается на университетских кафедрах (а между тем, мы могли получать, может быть, даже не меньше зарубежных книг, чем в настоящее время), нас она не удовлетворяет, особенно после ухода, отъез да Бодуэна де Куртенэ и смерти Шахматова. А почему? Потому что, казалось нам, что преподается нам не тот предмет, которым мы хотели бы заниматься. Не тот предмет – почему? Потому что преподавание языковедческих дисциплин свелось, главным образом, к изложению грамматической, шаблонной, стандартной схемы с историческими иллюстрациями или, поскольку эта сторона была самой сильной, к изложению исторической фонетики. Даже в тех случаях, когда был отход от этих традиций и когда ставились проблемы синтаксиса (после Шахматова иногда это бывало), такого изложения синтаксиса, которое давало бы историческую перспективу и было бы связано с разрешением вопросов изучения движения самих, скажем, синтаксических форм в пределах художественных произведений, литературных произведений разных типов, – для этого материала не было. В истории литературы и Шляпкин, профессор, занимавший тогда кафедру, и Дмитрий Иванович Абрамович, и, временно, Кадлубовский, который тогда прикреплен был к Ленинградскому (или Петроградскому) университету и который больше известен тем, что по его имени сформировалось отчество Леонида Арсеньевича Булаховского, которому он был крестным отцом. Кадлубовский занимался житиями святых, но тоже в плане, скорее, такого, культурно-исторического и, отчасти, религиозно-мистического обзора. Но я не буду давать полную картину. Это все-таки нас не удовлетворяло. Нас привлекали иногда случайные, уезжавшие потом за границу преподаватели и доценты университета, скажем, Боткин, который занимался изложением теории Фосслера и критиковал ее, применительно к романской филологии, к романскому материалу, и так далее. Это все можно было делать, потому что в университете ведь не было обязательного посещения тех или иных лекций. Каждый выбирал то, что ему нравилось. Привлекали курсы историков, очень интересные. И Данилевского [А. С. Лаппо-Данилевского. Прим. ред.], и академика Платонова, и Середонина с его исторической географией, и так далее, и так далее. Но в пределах своей специальности мы все-таки не находили полного удовлетворения для тех новых задач, которые перед нами возникали в процессе более широкого ознакомления и с языковым, и с литературным материалом. А как я уже сказал и в прошлый раз, ознакомление с этим материалом было обязательно. Почему? Потому что и те, кто были оставлены при университете и готовились к магистрантскому экзамену, дававшему право на чтение лекций в университете, занимались не только языковедческими дисциплинами, но параллельно и самостоятельным исследованием целого ряда литературоведческих тем. И вот первый вопрос был такой, что самый предмет истории литературы пока еще не определен в полном смысле этого слова. Это говорили даже непосредственные ученики академика Веселовского, традиции которого были сильны в университете, но они все-таки сосредоточились в отдельных личностях, потому что академик Веселовский вообще считал, что задача университетского руководителя состоит в том, чтобы отобрать себе наиболее талантливых учеников. Он никогда не рассчитывал на широкую аудиторию. И первые его лекции были настолько сложны, что после них оставалось, как мне говорили (сам я не слушал никогда лекций Веселовского, но мне говорил Владимир Федорович Шишмарев), не больше десятка студентов, с которыми он продолжал дальнейшую работу, затем уже переходя, так сказать, на то, что тогда называлось privatissimo, то есть на домашние занятия; читались лекции уже на дому, где он свободно из своей библиотеки мог иллюстрировать свои лекции и непосредственным разбором, анализом текстов, и все это у него было под рукою. Чем мы хотели заниматься? Мы хотели выяснить специфику самой художесвенной литературы. В чем состояла эта специфика? Вот возникло еще во внеуниверситетских кругах противопоставление поэтического языка языку практическому. Говорилось так: противопоставление системы поэтического языка системе практического языка. Это то, на что опиралось такое собрание людей, которое получило название (и затем они сами дали себе это название) «Общество изучения поэтического языка»1. Это был довольно пестрый состав людей, среди которых большим филологическим образованием обладал только Лев Петрович Якубинскиий. Ну, система поэтического языка и система практического языка, это, значит, должно было разрабатываться. Но вот дальше перед нами возник вопрос, и это первый вопрос: что такое поэтический язык? Определение не было найдено, были очень неясные, я хотел даже процитировать несколько таких определений. Говорилось о том, что поэтический язык – это установка на выражение, что здесь самые структурные функции очень важны, но при этом все-таки это было довольно уклончивое определение. Вот, Якубинский писал, что если говорящий пользуется своим языковым материалом с чисто практической целью общения, то мы имеем дело с системой практического языка, в которой языковые представления (это психологическая такая терминология, а потом начнется борьба с психологизмом), звуки, морфологические части и прочее самостоятельной ценности не имеют и являются лишь средством общения. Значит, язык выполняет чисто коммуникативную функцию, ну, если хотите, несет какую-то информацию. Но мыслимые существуют и другие языковые системы, в которых практическая цель отступает на задний план, и языковые сочетания приобретают самоценность. Ему вторит Якобсон: «поэзия управляется имманентными законами», – пишет Якобсон2. Функции коммуникативные присущи как языку практическому, так и языку эмоциональному (потому что он еще эмоциональный язык выдви гает). Значит, вот этот дуэт практического и поэтического здесь сводится к минимуму. Так как минимум определить? Поэзия индифферентна к предмету высказывания. Поэзия есть и оформление самоценного, самовитого, как говорит Хлебников, слова. Дальше, естественно, возникал целый ряд вопросов, на которые мы, собственно, нигде не могли найти непосредственного ответа. Почему? Все бросились совсем в другую сторону, изучали трактаты по эстетике: «Философия искусства» Христиансена3, «Эстетика» Гамана4, Мюллер-Фрейенфельс тогда был переиздан, издан в переводе с предисловием Белецкого5 и т. д., и другие трактаты соответствующие, они не давали никаких образцов. Легче, конечно, изучать явления эвфонические, т. е. легче изучать стих. Но является ли стих исчерпывающим воплощением поэтического языка? Вопрос сразу получал противоречивые ответы. Противоречивые ответы в двух планах. Прежде всего, естественно, возникал вопрос: «А проза художественная, она же исклю чается из пределов поэтического?». А с другой стороны, все ли стихи, всю ли стихотворную речь можно отнести к поэзии? Я должен об этом сказать прежде всего, потому что этим определяется часть выбора самого предмета изучения. Сразу возникла проблема Некрасова, которая очень остро была поставлена и в работах Эйхенбаума, и в работах Тынянова, и в работах целого ряда других исследователей, вот Шимкевич такой был. Он писал даже целую работу «Некрасов и Пушкин»6. Почему? Потому что вы знаете, что современники Некрасова, многие, начиная с Тургенева, они не считали стихи Некрасова поэтическими. Для этого не нужно даже большого количества примеров, надо знать, что Тургенев прямо заявлял, что поэзия тут и не ночевала. Андреевский7 в своих критических статьях, которые имели в свое время очень большое распространение, прямо так и давал сначала почти буквальное изложение прозой стихов Некрасова, например, из «Русских женщин» он приводил пример: «Старик говорит: ты о нас-то подумай, ведь мы тебе не чужие люди. И отца, и мать, и дитя, наконец, ты всех нас безрассудно бросаешь. За что же?
– Отец, я исполню закон.
– Но за что ж ты обрекаешь себя на муку?
– Я там не буду мучиться. Здесь ждет меня более страшная мука. Да ведь, если я, послушная вам, останусь, меня разлука растерзает. Не зная покоя ни днем, ни ночью, рыдая над сироткой, я все буду думать о моем муже да слушать его кроткий упрек».
А потом рядом с этим приводились стихи Некрасова:
- Старик говорил: «Ты подумай о нас,
- Мы люди тебе не чужие:
- И мать, и отца, и дитя, наконец, —
- Ты всех безрассудно бросаешь,
- За что же?» – Я долг исполняю, отец!
- «За что ты себя обрекаешь
- На муку?» – Не буду я мучиться там!
- Здесь ждет меня страшная мука… и так далее.
Получалось вообще, что разницы никакой нет, и, естественно, возникал вопрос, почему Пушкин пишет, скажем, «Бесы», и там: «Мчатся тучи, вьются тучи…», а Некрасов пишет:
- И откуда черт приводит эти мысли? Бороню,
- Управляющий подходит, низко голову клоню,
- Поглядеть в глаза не смею, да и он-то не глядит,
- Знай накладывает в шею. Шея, веришь ли, трещит.
Сопоставляете, с одной стороны, стихи, тот же самый ритм и так далее, тот же размер, он уже воплощается, наполняется другой лексикой и пр. Значит, возникает проблема поэзии: всегда ли стихотворная речь и только ли стихотворная речь может служить средством для изучения поэтических категорий, категории поэтического? Это с одной стороны, а с другой стороны, естественно, возникает вопрос: а что же делать с художественной прозой? Конечно, стихотворную речь легче изучать, и с нее, в общем, и началось изучение поэтического языка. Вот тогда возникли другие проблемы, в первую очередь – что можно изучать? Можно изучать звуковой строй, эвфонию, как будто имеющую специфическое качество для поэтической речи. Изучать ритмику, метрику, мелодику лирического стиха. Вот в эту сторону, так сказать, и направилось изучение, но это, конечно, не могло еще разрешить проблемы поэтического в целом. Почему? Потому что здесь, естественно, возникал вопрос: все-таки как изучать средства? Изучать их в чем? В стихотворении? Т. е. в каком-то, как тогда принято было выражаться, целостном эстетическом объекте? А внутреннее единство к чему приводит? К пониманию чего? Какого-то переживания или, все-таки, внутренней какой-то сущности? Или оно будет все время скользить по поверхности? Это одна сторона, а другая сторона, естественно, возникала в отношении изучения прозы. Появляется целый ряд работ о Пушкине, о его пути от поэзии к прозе. И делаются заявления, что проза и стих – это понятия соотносительные. Вот, я вам приведу еще одну цитату, в этом отношении очень характерную, которая как будто даже не к месту. Это я беру цитату, эту из книги Бориса Михайловича Эйхенбаума «Молодой Толстой». Толстой начинает писать стихи, потому что думает, что, занимаясь упражнением в стихах, он лучше будет писать затем прозаические произведения. Вот что пишет Толстой в своем дневнике: «Ездил верхом и приехавши читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я думал, что это мне будет очень полезно для образования слога». (Интересно, что тем же занимался Руссо, как видно из его исповеди: «Иногда я писал посредственные стихи. Это довольно хорошее упражнение для развития изящных инверсий и для усовершенствования прозы».) Теперь по этому вопросу начинает рассуждать уже Борис Михайлович Эйхенбаум, рассуждает он так: «Проза и стих – отчасти враждебные друг к другу формы, так что период развития прозы обычно совпадает с упадком стиха. В переходные эпохи проза заимствует некоторые приемы стихотворного языка, образуется особая музыкальная проза, связь которой со стихом еще заметна. Так у Шатобриана, так у Тургенева (недаром он начал со стихов). Потом эта связь пропадает – воцаряется самостоятельная проза, по отношению к которой стих занимает положение служебное, подчиненное»8.
В. В. Виноградов
БЕРЕГИТЕ РОДНОЙ ЯЗЫК
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАДИО
«Надо вдумываться в речь, в слова, – говорил Чехов. – Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, хорошей музыке». Чтобы воспитательная работа в области культуры русской речи была действенной и плодотворной, надо определить, с чем бороться, что признать языковыми ошибками и неправильностями, типичными для современности, и главное – надо выделить именно ходовое, типичное, а не развлекаться анекдотами, уродствами индивидуального словоупотребления. Не претендуя на исчерпывающую полноту, можно распределить трудности и неправильности, широко распространенные в современной русской речи, по нескольким группам, или категориям.
Во-первых, самая сложная и разнообразная по составу – группа небрежностей и «неправильностей» в речи, вызванная недостаточным знанием стилистических своеобразий или смысловых оттенков разных выражений и конструкций, а также правил сочетаемости слов. Тут, прежде всего, выделяются случаи нарушения или неоправданного разрушения старых устойчивых словосочетаний и неудачного образования новых. Например, в разговорной речи львиная часть вместо львиная доля, играть значение вместо играть роль или иметь значение; одержать успехи вместо добиться успехов или одержать победу; носить значение вместо носить характер или иметь значение и тому подобное.
Во-вторых, к границам разговорной литературной речи приблизились и иногда беспорядочно врываются в сферу литературного выражения слова и обороты областного или грубого просторечия ложить вместо класть, обратно вместо опять обратно дождь пошел; крайний вместо последний; взади вместо сзади; заместо вместо вместо и так далее.
Третье. Еще одно явление в жизни современного русского языка, особенно в разговорной речи, вызывающее у многих тревогу и беспокойство, – это широкое и усиленное употребление своеобразных вульгарных, а иногда и подчеркнуто манерных жаргонизмов. От них веет и специфическим духом пошлого мещанства, и налетом буржуазной безвкусицы. Таковы выражения оторвать вместо достать, приобрести – оторвать туфли с модерными каблуками; что надо, сила в смысле ‘замечательный’; звякнуть по телефону; законно, законный для обозначения положительной оценки; газует в смысле ‘бежит’; категорический привет и даже приветствую вас категорически вместо здравствуйте; дико в значении ‘очень’ – дико интересно; хата вместо квартира и тому подобное. Всех, кто ратует за чистоту русского языка, особенно смущает и возмущает распространение этого вульгарно-жаргонного речевого стиля. Многие готовы квалифицировать его, и вполне справедливо, как осквернение языка Пушкина, Толстого, Горького и Маяковского.
Четвертое. Не менее тяжелым препятствием для свободного развития выразительных стилей современного русского литературного языка является чрезмерное возрастание у нас употребления шаблонной канцелярской речи, ее штампованных формул и конструкций. В этой связи нельзя не вспомнить об ироническом отношении Владимира Ильича Ленина к «канцелярскому стилю с периодами в тридцать шесть строк и с “речениями”, от которых больно становится за родную русскую речь». Жалобы на засилье штампов, канцелярско-ведомственной речи в разных сферах общественной жизни раздаются со всех сторон. Неуместное употребление казенно-канцелярских трафаретов высмеял писатель Павел Нилин в своих «Заметках о языке»:
«В дверь кабинета председателя районного исполкома просовывается испуганное лицо.
– Вам что? – спрашивает председатель.
– Я к вам в отношении налога…
Через некоторое время в кабинет заглядывает другая голова.
– А у вас что? – отрывается от всех бумаг председатель.
– Я хотел поговорить в части сена…
– А вы по какому вопросу? – спрашивает председатель третьего посетителя.
– Я по вопросу собаки, в отношении штрафа за собаку. И тоже в части сена, как они».
Пятое. Естественно, что отсутствие прочных и точных литературных языковых навыков, влияние областного говора и просторечия особенно часто обнаруживаются в произношении, в воспроизведении звуковой формы слов. Сюда относятся и колебания в ударении, а часто – и просто нелитературные ударения в отдельных словах как разговорного, так и книжного происхождения, и в их формах: средства вместо средства; общества вместо общества; облегчить вместо облегчить; документ вместо документ; ходатайствовать вместо ходатайствовать.
Можно закончить эту краткую беседу о русском языке и о некоторых неправильностях в его современном употреблении теми же словами, которыми закончил свою статью о любви к русскому языку покойный советский поэт Владимир Луговской: «Относитесь к родному языку бережно и любовно, думайте о нем, изучайте его, страстно любите его, и вам откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка».
Т. Г. Винокур
УШАКОВСКИЕ МАЛЬЧИКИ
БЕСЕДА С М. В. КИТАЙГОРОДСКОЙ, Н. Н. РОЗАНОВОЙ И Л. К. ЧЕЛЬЦОВОЙ
Я рассказывала, как каждый вечер собирались ушаковские мальчики. Что такое «ушаковские мальчики»? Конечно, не только они собирались, и не только именно вот мальчики; мальчики эти были, как говорил папа в сорок втором году, когда умер Дмитрий Николаевич [Ушаков. – Прим. ред.] и было заседание, посвященное его смерти; публикация была потом, стенограмма; он говорил: «Мы уже все старые, лысые, мы уже все больные, мы все невоеннообязанные», – вот это мальчики. Так что мальчики, конечно, здесь условно…
Собирались все авторы словаря, коллектив словаря1, и еще приходили другие люди, которые тоже, – так или иначе, были ушаковские мальчики, не знаю. То есть, скажем, Абрам Борисович Шапиро, который никакого отношения к мальчикам словарным не имел, но он тоже был учеником Дмитрия Николаевича и тоже он принадлежал к этой среде, и очень многие другие люди. Потом уже, позже, Высотский приходил, и Панов отчасти, и так далее; все было.
Это был такой длинный-длинный большой стол… Была столовая. Столовая была, собственно говоря, очень большая комната, но казалась маленькой из-за того, что ее занимал стол, длинный, длинный стол. Угощение было самое скромное, почти что символическое; но все-таки всегда что-то было. Не нужно забывать, что это были годы изобилия. Тридцать девятый год, вы понять не можете, что это такое было, как тогда было в магазинах, почти как в супермаркетах в вашей – и в нашей – Америке.
Это было довольно смешно, потому что мама говорила: иди в диетический, купи то-то, то-то, то-то, то-то; я шла-приносила огромное количество всяких продуктов… Она говорила: «Почему ты купила ранет? Папа ранет не любит, а любит бельфлер», – яблоки. Это вам не понять, голбки мои. Но все равно, угощение было очень скромное, потому что, в общем… жили они очень скромно и внешнему никакого значения не придавали, но все-таки Александра Николаевна [Ушакова. – Прим. ред.][11], хотя она говорила сама, что она плохая хозяйка, но она всегда что-то или пекла, или было какое-то печенье, в общем, что-то было, бутерброды, чай... Никогда никакого спиртного. Тогда вообще не считалось даже не то что пристойным, а просто не было такого узуса – никакого не было спиртного. Люди приходили друг к другу, и угощение было – стакан чаю, с чем-то к чаю: печеньем там, домашним или покупным, это, в общем, не играло роли; и я, между прочим, помню, как – уже это было, году, наверное… Когда же? До – наверное, в сорок девятом? Да, когда Костя Богатырев вернулся из Германии, он рассказывал мне, как его позвали в гости – к его будущей жене: «Представляете? Я пришел в гости, подают чай. Кто, – говорит, – подает теперь чай?!». То есть, без бутылки вина – потом – ведь правда, после войны... Это считалось просто – просто оскорбление. А тогда, наоборот, тогда не было, и я очень хорошо помню, как к папе приходили гости; каие гости, вы знаете, я вам рассказывала, что гости все моей младшей сестрой назывались «студенты-аспиланты», потому что она ничего здесь не понимала; говорила, что «из всех папиных аспилантов я больсе всего люблю Усакова»; все были только такие – и то – подавался, значит, меня посылали, там – потом, когда я была старше, то мама заносила поднос, на котором в подстаканниках обязательно, непременно совершенно, подстаканник-стакан, чашки не подавались, чай, крепко заваренный, душистый, хороший, и какие-нибудь… даже не бутерброды, обычно какое-то печенье…
Но у папы были такие индивидуальные приемы, либо к нему приходили студенты заниматься, аспиранты; тогда это был вообще другой совершенно стиль; в столовой просто занимались за круглым столом, читали рукописи, либо приходили аспиранты поодиночке, их обязательно кормили-поили чем-нибудь, чаем угощали, это у папы в кабинете было, а у Дмитрия Николаевича была вот такая система, так сказать, вечеров этих; причем разговорам таким, гостевым, хаотическим, меньше всего уделялось тогда; конечно, это было, без этого не существует наше общение, – но обычно бывали дела. Дела бывали, с одной стороны, словарные; хотя я говорю, что далеко не всегда были словарные люди там; и обычно бывало так, что папа шел с каким-то материалом туда: сейчас бы мы сказали «наработали», да? Мы говорим «наработать»; то, что они делали за день. Причем первую половину дня обычно – одно время так было, то папа ходил к Виноградову, то Виноградов ходил... Да, то, что они сделали вот за день; значит, в первую половину дня, вообще; в первой половине дня работали или отдельно, или вдвоем. И был период – первый том – когда, например, папа работал с Виноградовым. И он работал, значит; ну, приходил, или Виноградов к нам, это когда я совсем маленькая была еще, или папа ходил к Виноградову; хотя у Виноградова был совершенно роскошнейший кабинет, элегантнейший, он такой пижон был, а у нас было поскромнее, одни книжки, но тем не менее… И я вам уже рассказывала, это я повторила, наверное, у вас есть, как булочки я туда носила... И вот они работали вдвоем, допустим. И то, что сделано в первой половине дня (потом были другие дела, все уже преподавали, работали), вечером у Дмитрия Николаевича непременно обсуждалось. Папа брал конвертик или карточки, или что-то и шел. Но почти всякий раз, несколько раз на неделе, было так, что папа звонит и говорит: «Танька, там на левом, с левой стороны на письменном столе лежит вот такой-то конвертик или такая пачечка – принеси, пожалуйста». А это рядом ведь совсем. И я шла. Для меня это было – праздник, наслаждение было; я скакала туда, обожала я Дмитрия Николаевича безумной страстной любовью, значит, и прийти туда к ним в дом, и там покрутиться, повертеться, это только вот, кроме вообще наслаждения – ничего. Я несла. И иногда вдруг говорили, оставайся, вот чай… Обычно я уходила, потому что это вечером было, и мама говорила – сейчас же иди домой обратно, уроки надо делать, то да се… Но бывали и другие посещения; конечно, днем ходили, катались на собаке, я вам это все рассказывала. И Дмитрий Николаевич мне… Самое было счастье, если он на колени посодит (sic!), тут уже вообще… Как сейчас это говорят, как Лена мне вчера, моя внучка, сказала… Как сейчас говорят?.. Ну?.. «Ваще тащусь!» Круто, да; «ваще», «ваще тащусь». Значит, что? Общение с ним было счастьем действительно. Я, конечно, ничего не понимала, я была маленькая. Потом Надька[12] уже выросла. Надька родилась в тридцать пятом году, и она была самая главная уже сидельщица на коленях у Дмитрия Николаевича, потому что это вообще… бороду ему трогать – это вообще все было – ну… кайф!
Так. Теперь, когда вот, я вам рассказывала, по-моему, это только записали, вы потом мне будете… по-моему, вам лишняя это только пленка… Значит, когда Виноградов к нам ходил… И моя была роль такая: они все-таки работали много, и вот пили чай. И у нас внизу была булочная, где продавались очень вкусные, свежие, горячие булочки; вам тоже, девочки, этого не понять, такие совершенно необыкновенно сдобные, стоили, по-моему, пять копеек, если я не ошибаюсь. Вот обычно с этими булочками или с печеньем. Значит, поднос, опять-таки подстаканники, и нужно было идти. ...Все это была такая действительно удивительно интеллигентная среда, где – по сравнению с нашим речевым обиходом – это как, я не знаю, святые звуки музыки и какие-то заоблачные дали, потому что вся речь этих людей, общающихся друг с другом и в общем-то любящих и уважающих друг друга...
– Кстати говоря, музыки ведь много. Вы говорили, что они все очень музыкальны были, исключительно…
...Как раз вот – ну, во-первых, в этом же доме, в этой же квартире, если это можно назвать квартирой, это огромный первый этаж, жил Игумнов, Константин Николаевич, это вам уже может что-то… Интересно то, что Игумнов одновременно был крестником Сережиного отца (моего мужа, Сергея Владимировича), и там такая связь. И маленьким, оказывается, Сережа там бывал. Это была огромная комната, где… совершенно пустая, какая-то аскетическая, где два стояли огромных рояля, где он занимался с учениками и где тоже он меня сажал за рояль и что-то меня учил и так далее; музыка была все время, по-всякому; ну, а кроме того из самих мальчиков-то, например, Рубен Иванович [Аванесов. – Прим. ред.], папа мой и Александр Александрович [Реформатский. – Прим. ред.] частично, были меломанами страстными и действительно тут музыка… Как раз вот – именно он был – Дмитрий Николаевич был, слух-то у него был вообще абсолютный и в речи, но вот эту сторону, этих вкусов я его не знаю; и Наталья Дмитриевна[13], кстати, не знает; а то, что он был живописец, акварелист – вы замечательно знаете. И не чужд он был вообще любому виду искусства. Он был человек – вот прямо нельзя сказать, как говорят – «человек театра», «человек науки», «человек искусства». Он был человек общения. И дальше вы прочтете там… Ну, эта публикация будет, я стенограмму дам, буду публиковать; потом в книжке, которую я сейчас – там вы видели ее, «Винокур – педагог»[14], там о Дмитрии Николаевиче написано, что он писание научных трудов как самоцель вообще не признавал. Он считал, что лучше научить одного человека, студента или аспиранта, даже не науке, а правильной речи, чем писать книги. Потому что… и это вот – человек общения, и учил он через общение. И вся его лингвистическая сущность выражалась через устное общение, скорее чем… Ну, Вы знаете, Нина[15], библиография его ведь очень скупая… Поэтому кто… я не буду говорить всякие пошлые слова, «прикасался», там…, но кто вообще так или иначе входил в эту среду (инче надо сказать), то это потом незабываемо, это какая-то точка отсчета, потом все кажется плохим; это просто несчастье. Надо привыкать, а там я с детства купалась в какой-то такой… Я потом… я-то все только растеряла и забыла, в войну, в жизнь эту собачью всю, в общем, во все это; но какая-то, вот то, что Люся[16] называет «культура раннего детства» – это, конечно, каким-то необычайно, совершенно таким мерилом… действительно образчиком остается на всю жизнь: или печаль, что ты не можешь следовать, или радость, что ты это имела. Я, кстати, все ищу и не могу найти, хотя мне моя редакторша помогает, по радио, Татьяна Ивановна Абрамова, я хочу найти папину запись. Есть одна запись. Он… И никто сейчас не помнит, было это в сорок пятом или в сорок шестом году, и как я в архив туда они не… Вот – одна запись. На радио он выступал. Я не знаю, с какого боку – мы писали заявку в архив, там что-то сказали, что послевоенный архив только есть, а довоенный – а это вообще должно быть именно в первый послевоенный год, как я понимаю, или сорок пятый там, или сорок шестой. Я не помню сейчас. Когда он ходил и выступал, и потом мы все слушали… И я не знаю, как приступиться к этому. В ЦГАЛИ2 там, это я все понимаю, а вот в этих архивах – понять невозможно. Ну Дмитрия Николаевича все-таки, слава Богу, мы слышим, а паа вот… А в ИРИ действительно было удивительно, и все те, кто его слышал, просто оставались под таким обаянием; хотя у папы не было такого чисто московского старого произношения. И уже потом, как-то рефлективно я заметила, что я не только папе, но и Дмитрию Николаевичу подражаю. Я все… так сказать, вот это все – просто чисто подражательные инстинкты… Но все равно: когда, как помню, Сан Саныч [Реформатский. – Прим. ред.] сказал: «Таня, все хорошо», – мы выступаем по телевидению. «Ну, скажем там, “бряца” – ну это я Вам разрешаю, разрешаю, ну ладно» (что здесь «борются» я не сказала). «Ну, разрешаю; это, в конце концов, можно». В общем, все хорошо. Но все-таки, когда эти изысканности московские, типа «жыра» и так далее, все-таки, конечно, если я так говорю, это я играю. Естественно, что этого уже, наверное, нету; хотя всякие [шн] соблюдаются, и вот, например, на днях я по радио записывалась, я никак не могла сказать, что-то было, не «яишня», что-то было… подождите, что-то такое, что в общем [ч’н] может звучать, что же это было, а? Но я все-таки сказала [шн]; что же это было за слово, я сейчас теперь, думаю, будут писать эти слушательницы. – Песо[ш]ница.
Вот такого типа какого-то слово, и я думаю, Господи, ведь это ж пойдет пятьсот писем: что же она нам, сама говорить не умеет, это же вечно…
– Так что для Вас выбора не было, куда идти? Как Вас с такой судьбой…
Нет. Был, как ни странно, был, и очень большой, и тут Рубен Иванович… По-моему, вам тоже это рассказывала. Потому что значит я, как… и действительно… это не вторая профессия, это вторая жизнь была; я росла в музыкальной среде. Все были – либо вторая профессия, либо несостоявшиеся музыканты, либо безумные меломаны; слово хобби никто понятия не имел, и вообще, даже смешно, но у всех это хобби было притом. Значит – причем тут смешно: Томашевский был замечательный музыкант, он замечательно играл на рояле. И… у него был очень тонкий слух, и… но это все он как-то загубил-забросил, так жизнь его складывалась; а когда он приезжал… Сергей Михайлович Бонди – это нет слов, какой это был музыкант! И какой тонкий ценитель музыки, и сколько он всего на свете знал. Папа мой был… Да, у нас еще был такой Филипп Матвеевич Вермель, который был арестован, это, в общем, из близких, самым близким был, собственно говоря, у папы один; его как троцкиста арестовали, он был замечательный музыкант, и он аккомпанировал, мы с папой дуэтом пели; он поэт был, хотя вообще он просто в каком-то учреждении работал. Вот они «Чет и нечет» издавали на свои деньги, альманах. Значит, Сергей Михайлович… Ну, про Рубена Ивановича я вообще не говорю, потому что он и композитор, и все на свете, и эта трагедия, когда он в тридцать девятом году потерял слух, это… после дифтерита, который он перенес во взрослом состоянии, и эта история с абонементами; все это все знают, я просто, мне сейчас некогда. Когда он купил – мы с ним ходили на концерты, и последний он купил, на тридцать девятый год, в тот год абонементами бетховенские симфонии все были, и у нас с ним абонемент, и мы должны были ходить. И вдруг я получаю конверт, и там написано: «Дорогая Танечка, вот абонементы, ты ходи с кем-нибудь другим, мне они больше уже никогда не понадобятся». Ну, потом-то этот аппарат, и потом уже, когда я здесь работала, у нас же были бетховенские вечера, у Рубена, каждую пятницу. Он ну у него был особый, очень строгий вкус, для него Бетховен, для него Моцарт; он не очень хорошо знал русскую музыку, он обожал Рихарда Штрауса; он написал оперу, Рубен, уже в последние годы, и как-то уже в восемьдесят втором году, это было перед самой его смертью, то есть, может быть в восемьдесят первом; я вам рассказывала ведь, как мы встретились внизу в коридоре, и он вдруг меня тащит и: «Ты знаешь, – говорит, – я вот; ты помнишь такую-то оперу Штрауса?»; а я уже не помню даже, о чем речь. Я говорю: «Я не помню, я не знаю». Он мне стал громко-громко петь. «Так вот, ты знаешь, у меня ведь была мелодия, которая очень похожа на это», и все прочее… У меня есть романс, подаренный мне и посвященный мне Рубеном Ивановичем, замечательный совершенно. Это была страшная трагедия. Папа мой – неудавшийся певец; то есть не неудавшийся, а ему вот в футболе сломали: он был вратарь, голкипер, мой папа; несмотря на то, что… И они играли в футбол в Сокольниках, и ему мячом засадили в нос и сломали перегородку; у него была сломана перегородка, ему делали операцию гайморовой полости, почему-то оказалось, что это ушло куда-то в лобную па<зуху>, короче говоря, это все отразилось на его слухе: так плохо сделали, что я так и толком не знаю; он на одно ухо не слышал. У него был замечательный тенор, такого собиновского плана, и был итальянец учитель, который у них пел все время. «Не хорошо ты поешь», там, я не помню это имя совершенно, он мне постоянно рассказывал: «Надо петь вот – ты поешь так-то, а надо петь так: Прасти-и-ня…». «Какая простыня?» – а оказывается, это было «прости меня». Такой замечательный совершенно итальянец. Папа учился на первом курсе Консерватории. Ну, значит, <нрзб.> очень плох, я лучше его; и поэтому такие были вечера. Приходили – это у Реформанчика[17] есть немножко, что, значит, а у Маши[18] даже есть, как аккомпанировали, кто пел; мы с папой – дуэт у нас было любимое дело, причем я пела второй… Что пели? Татьяну, Ольгу3, Малека и Лакме из «Лакме»4; Лиза и Полина5, ну мало ли, Господи… Потом дивные дуэты, которых сейчас никто не знает; там изумительные совершенно; папа русскую музыку, наверное, она ему… тем не менее все же почему-то была ближе, хотя я не знаю, все он любил и все он на свете знал. И музыка составляла часть нашей жизни, поэтому я решила, что буду заниматься музыкой профессионально. Я поступила в училище при Консе<рватории>; я кончила Гнесинскую школу, потом поступила в училище при Консерватории, но тут началась война. Пианистки из меня, естественно, никакой и не вышло бы, хотя я и не собиралась, а я хотела учиться на таком историко-теоретическом отделении, преподавать историю музыки. Это была моя мечта. Я писала хорошо. Мне не хватало слуха. У меня слух не абсолютный. Хороший слух, но не абсолютный. Там ужасно было, потому что это отделение было объединено с композиторским, и у всех у них был абсолютный слух, и я сидела там полностью – не для записи – кое в чем, потому что у меня единственной был… не было слуха абсолютного, и мне трудно давалась гармония, а там был такой Способин – жесткий был мужик, очень известный теоретик музыки; но все-таки я училась и все такое прочее, а потом вот война. И вернулась я в училище, а не – еще не на филфак никакой, я не думала; еще экстерном не сдала за десятый класс, и вернулась я в училище и продолжала учиться, это был второй уже или третий курс. И, хоть у меня шло не очень хорошо, мне трудно было, мне не хватало музыкальных способностей. И я, видит Бог, человек не завистливый. Но чему я безумно завидую, черной завистью, не белой, – это, конечно, музыкальному дару. Я просто изнываю. И вот, мне не хватало, а потом еще и жизнь, и голодная жизнь, и мама с Надькой еще в Чистополе, и кормить папу, и бабушка умерла, и все мы несчастные, и как-то все ужасно; училась я плохо там, довольно лениво. А тут мне Рубен Иванович говорит, что вот ты пошла, тем более вот ты говоришь (но он, правда, не верил, думал, что я плюю), что у тебя такие средние способности, ты просто мало занимаешься, но вообще, говорит, я тебе скажу – из любимого дела нельзя делать профессию. Никогда. Должно быть самое любимое дело, и оно не должно быть профессией. И давай, вообще, бросай все это, и будешь у меня диалектологом; он же на меня жутко оскорбился, что я не поехала в экспедицию, что у меня какая-то там стилистика есть… Просто это было возмущение жуткое. И это тоже повлияло. И я пошла на филфак; сдала экстерном за десятый класс и пошла на филфак. Тогда экзаменов-то даже не было. Так что никакого ни блата, ничего, только все очень удивлялись, что Таня Винокур пришла. Конечно, на мне всегда… Этого не надо было елать, потому что на мне всегда было это – что я папина дочка.
Т. Г. Винокур
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НА РАДИО С Т. И. АБРАМОВОЙ
Т. Г. Винокур: Я заранее свела все главные вопросы в такие вот группы, и получилось, что именно из этих групп можно вывести главные правила культуры речевого поведения. Я назвала эти правила заповедями, и они у меня здесь сформулированы. Вот такие десять заповедей, десять заповедей культуры речевого поведения. Не сочтите это название нескромным, ведь автор этих заповедей не я одна. У меня много очень соавторов: наши радиослушатели, другие информанты – все те, чью речь я исследую, с кем я советуюсь. Одним словом, это наши коллективные выводы. И, если помните, Татьяна Ивановна, я уже о них, так сказать, вчерне однажды говорила.
Т. И. Абрамова: Да, конечно, я помню. И тогда эта передача вызвала очень много вопросов, много интересных писем. А с чего бы Вы сейчас хотели начать и какую из названных Вами заповедей Вы считаете самой важной?
Т. Г. Винокур: Ну вот именно начать удобнее всего с того, что наиболее понятно и очевидно и о чем нам очень много пишут. А пишут о неумении говорить кратко, говорить по делу. Поэтому первую заповедь я сформулирую, пожалуй, так: избегай многословия. Старайся это делать во всех случаях жизни. И в официальной, публичной речи, например. Ведь как оратор вредит себе, когда он говорит больше и дольше, чем того требует тема или чем в состоянии воспринять слушатели. Но и в бытовой, домашней речи то же самое. Ведь сколько ходит анекдотов о болтливой теще, о том, как муж пропускает мимо ушей трескотню жены там, и так далее…
Т. И . Абрамова: То есть Вы считаете, что это черта женского характера?
Т. Г. Винокур: Представьте себе, что нет. Английские ученые, психологи английские, доказали, что даже наоборот. Мужчины в общей сложности, оказывается, говорят больше, но, правда, они говорят всегда на определенную тему, а женщины любят просто так болтать, как будто ни о чем. И вот на этом примере я хочу как раз сформулировать сразу и вторую заповедь: всегда знай, зачем ты вступил в разговор, какова цель твоей речи. Вот мы сейчас сказали о вреде многословия, а оно, чаще всего, одновременно есть и пустословие, суесловие. Чем меньше в нем содержательности, тем больше слов, болтовни. А помните у Пушкина, в «Домике в Коломне», есть строчки: «А кто болтлив, того судьба прославит / Вмиг извергом…». Ведь, наверное, у каждого из нас есть среди знакомых или близких такой вот «изверг», правда? Какая-нибудь, например, подружка, которая… Ну вот я сейчас попробую сымитировать. Приблизительно так она рассказывает: «Ну, значит, вот я сегодня утром просыпаюсь так, смотрю, будильник. Господи, будильник-то! Рано еще как-то. Думаю, покемарю еще. Встану, говорю: ой, Миш, вставай, говорю. Ему к десяти, знаешь, сегодня арбитраж, ну, во вторник всегда арбитраж. Ну, ладно, пока завтрак, туда-сюда, конфорочку зажгла… Так, ну что, ну, яишенку, что ли, сделать? Ох, смотрю в это время колотят опять в дверь… Ну, думаю, ладно, пойду сейчас в ЖЭК1, по вторникам там у них нет никого, правда, до двух. Ну, ладно, до двух, думаю…». Представляете, сколько она до двух наболтает вот так ничего ведь, ни из чего.
Т. И . Абрамова: Заметьте, по телефону. Ну, конечно, у всех есть такие собеседники. Это ведь как раз классический пример пустословия, классический еще и потому, что непонятно, зачем все это говорится и кому говорится.
Т. Г. Винокур: Вот насчет «зачем» я с Вами как раз согласиться не могу, Татьяна Ивановна. В том то все и дело: зачем? Мы должны помнить, что без причины никто никогда ни о чем не говорит. Другое дело – что это за причина? Что она может не осознаваться, превращаться в привычку, в потребность, которая реализуется чисто автоматически, – это так. Но какая же это потребность, какая цель у этой, такой, на первый взгляд, бесцельной болтовни? Очень простая: это общение, сам процесс общения. Желание вступить в контакт или поддержать сложившиеся отношения, тут много вариантов. Выказать расположение к соседу, наконец, или что-нибудь в этом роде. А попутно здесь ведь еще одна цель, одна задача – высказаться.
Т. И . Абрамова: Высказаться – значит поделиться с кем-то своими мыслями. А поделиться – значит вступить в общение. Так что круг замыкается.
Т. Г. Винокур: Ну, конечно. Мы сейчас говорим о речевом поведении, а значит, об общении при помощи речи. Конечно, общаться можно и без слов: можно движением, жестом, взглядом очень много сказать. И все-таки, общение и речь неотделимы друг от друга в нашем сознании. Вот, я думаю все и Вы, конечно, помните дивные стихи Тютчева «Silentium!» – «Молчание» по-русски. Там есть такие строки: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?». Это, конечно, вопрос риторический. Ясно, что легче всего высказаться при помощи слов. Правда ведь? Или подобные строчки есть у Фета. Помните? «О, если б без слова сказаться душой было можно…»2 Но мы и на это знаем про себя вполне прозаический ответ. Как высказаться? Конечно, при помощи слов. Но вот что важно: слова-то ведь имеют смысл только тогда, когда они обращены к кому-то. Причем этот кто-то может быть не обязательно конкретным живым лицом, человеком. Это может быть воображаемый адресат, может быть, наконец, сам говорящий, обращающийся к самому себе. Вот, у еще одного замечательного поэта, раз уж мы пустились в цитаты, у Гумилева, есть очень интересное замечание в одной из статей о поэзии. Он так пишет: «О своей любви мы можем рассказать любимой женщине, другу, на суде, в пьяной компании, цветам, Богу»3. И вот видите: цветам, Богу. Это, конечно, по сути дела, речь, обращенная к самому себе. Потом еще разговоры с животными… Вы знаете их специфику. Это очень интересно ведь, такой разговор с животным, живым, но бессловесным, однако понимающим тебя.
Т. И . Абрамова: Я как раз хотела напомнить пример из чеховского рассказа «Иона». Помните? Извозчику необходимо поговорить, излить душу. У него умер сын, и он ищет сочувствия, но не находит ни одной отзывчивой души. И тогда он все рассказывает своей лошаденке, а она жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. Помните?
Т. Г. Винокур: Так не только помню, но признаюсь Вам, что я вот эти последние слова всю жизнь не могла читать без слез или, во всяком случае, большого душевного волнения. И как раз эти слова очень хорошо показывают: важен сам процесс речи как процесс общения. И вот, Татьяна Ивановна, что получается: для такой речи многословие не обязательно выступает как отрицательное качество. Вот Ионе, как я помню, хочется поговорить с толком, с расстановкой. Этим же часто отличаются наши любые разговоры по душам, разговоры для разговоров, просто чтобы поговорить. Без таких разговоров ведь общество не существует.
Т. И . Абрамова: То есть, Вы имеете в виду, например, разговоры в гостях, на прогулке, в очереди, в поезде, где-то в общественных местах, да?
Т. Г. Винокур: Не только в общественных местах, но вообще разговоры там, где встречаются люди. Это могут быть и друзья, могут быть и просто случайные встречные. Вот именно такими разговорами мы вообще отличаемся, общество людей отличается от иных живых существ. Сообщество людей, оно без таких разговоров для общения не существует. И в такой речи очень много вариантов, очень большая амплитуда колебаний. Например, ее начальная, простейшая точка, так называемый речевой этикет: обращение, приветствие, прощание, благодарность – мы о них много говорили. Это начало, интродукция, вступление в общение. А вот усложненная, высшая, что ли, точка – это беседа уже. Иногда бывает прямо беседа как искусство. Причем есть такой тип беседы, который, наверное, не без оснований считается особенно характерным для нашего общества и для русского национального характера, то есть, например, за обедом мы можем обсуждать сложные философские вопросы, заводить политические споры, аж до хрипоты.
Т. И . Абрамова: А вот, я читала, американцы очень этому удивляются, у них это не принято. За обедом, в гостях – только какой-то светский разговор о новой машине, о погоде, но не о делах.
Т. Г. Винокур: Может быть даже о делах, но о таких, обычных, не о серьезных, не о проблемах, и это правильно. А вот Вам, пожалуйста, у нас. Я уж тут прямо процитирую опять, чтобы не быть голословной, процитирую очень рассказ хороший. Он называется «Маленькая печальная повесть» Виктора Некрасова. Наверное, Вы читали. Я приведу маленький отрывок: «Уже третий или четвертый час шла их беседа. Нет, это не то слово. И вообще оно почему-то до сих пор не придумано. У Даля сказано: “Беседа – взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их общение, размен чувств на словах”. Но что это за определение, да простит меня великий Даль? В нем нет главного – души. О каком размене чувств и мысли может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, Терек, Кура, камни, водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья?». Видите, какой тут накал страстей? Здесь трудно требовать соблюдения нашей первой заповеди – немногословия, потому что хоть, может быть, и много слов произнесено здесь, но не пустых ведь! Значит, важность первой заповеди – «избегай многословия» – зависит от цели речи. А знать эту цель, вступать в разговор, отдавая отчет в том, зачем ты вступил в разговор, – это вот вторая заповедь. И вот теперь скажу о третьей заповеди.
Т. И . Абрамова: И она, эта третья заповедь, тоже будет зависеть от второй, да?
Т. Г. Винокур: Конечно, конечно. Ведь раз есть одна форма речевого поведения, одна его цель – общение, то значит, есть и другая. Эта другая цель и другая форма речевого поведения не общение, а сообщение, информация. И третья заповедь касается информативного речевого поведения. Поэтому она… Вот это как бы другой конец, подтверждение и продолжение первой заповеди. Если первая гласит: «Избегай многословия», – то вторая требует: «Говори не только кратко, но говори просто, понятно и, по возможности, точно». Понимаете, информативная речь в устах культурного человека категорически не терпит ни многословия, ни, тем более, пустословия. Давайте возьмем самый простой пример. Ну, спросите у меня что-нибудь.
Т. И . Абрамова: Ну, например, я хочу спросить у Вас: «Как пройти к метро?».
Т. Г. Винокур: Замечательный пример. Вы спрашиваете, как пройти к метро, а я Вам сейчас на это отвечу так: «Вам к метро? Ну вот так, значит. Пойдете, пойдете, пойдете, значит, увидите там прям налево, прям такой, знаешь, дом, ну, серый такой, ну, пойдете, за ним этот, ну, как его, ну, арка, обойдешь, туда не идешь, а идите за угол…».
Т. И . Абрамова: Это совсем как гоголевская девчонка, которая не знает, где лево, где право.
Т. Г. Винокур: Вот именно. И конечно… Ну а вот такие ответы на вопрос «Как пройти?», наверное, слышите ежедневно. И, конечно, так ведут себя люди, которые не владеют культурной нормой речевого поведения. Если мы имеем информативное задание в чистом виде, то есть что это? Вопрос – ответ, согласие – возражение, сообщение, поучение, разъяснение и прочее, то все содержательно дефектное: длинноты, неточности, логические просчеты, сложные формулировки – все это остается невостребованным, лишним для того, кому адресована речь. Ведь для информации, то есть сообщения, самым важным все-таки остается содержание речи, о чем идет речь. И наоборот, сам факт вступления в общение для этого вторичен. Это только средство для получения или отправления информации. Можно спросить, который час, и можно взглянуть на часы, если они есть. Можно сказать: «Как тебе не стыдно? Отдай!». А можно просто, укоризненно глядя, отобрать взятую без спроса вещь. Средство для сообщения или реакция на него, таким образом, могут быть и не речевыми, не так ли? И не нужно тогда было бы вообще говорить о речевом поведении и его культуре. А следовательно, речевое средство информативного поведения должно быть, если уж оно есть, оно должно быть, как говорит сейчас молодежь, по делу. То есть нужно говорить именно то, что требуется для действия, для дела. И с этим будет связана моя четвертая заповедь. Вот уже она готова, чтобы быть сформулированной.
Т. И. Абрамова: Да, пожалуйста.
Т. Г. Винокур: Она такова: «Избегай речевого однообразия. Выбирая речевые средства, сообразуйся с ситуацией речи. Помни, что положение обязывает, что в разной ситуации тебя слушают разные люди и что в разной обстановке нужно себя вести по-разному и говорить по-разному». Ну, здесь ясная картина: чем выше культура речевого поведения человека, тем большим количеством речевых ролей он владеет. Это относится и к постоянным ролям, как мы говорим, то есть: профессия – учитель, и к переменным: тот же учитель, но в школе и дома. Вот интересный, кстати, приведу Вам пример. Один мой коллега, лингвист, и хорошо чувствует язык, он вообще такой нытик, и его самое любимое выражение – на день по сто раз он повторяет: «Ох, я устал как собака». А вчера мы встретились, оказались вместе в поликлинике, и я очень отчетливо слышала, как он пожаловался врачу. Он так сказал: что у него быстрая утомляемость, то есть, не «устал как собака», а что у него быстрая утомляемость, одно и то же, это синонимическое выражение, но если он может в обстановке привычной, друзьям, сказать «устал как собака», то врачу он так не скажет, он пожалуется на быструю утомляемость.
Т. И. Абрамова: Мне кажется, это был удачный выбор выражения и эта заповедь очень мудрая. То есть тот, кто не умеет выбирать слова согласно обстановке, приближать к ней свой речевой опыт, приближать его к предмету, о котором он говорит, к людям, с которыми говорит, – тот, конечно, не владеет нормами речевого поведения.
Т. Г. Винокур: Знаете, почему особенно важна эта заповедь? Потому что у нас очень много развелось ревнителей чистоты языка, но неумеренно, таких унылых пуристов, которые часто ломятся в открытые ворота. Ну, мы с Вами знаем, что есть студенческий жаргон, молодежный, что не все говорят всегда одинаково, скажем, нормативно, литературно, чисто, но можно ли, например, возмущаться, что студенты между собой, в своей среде, пользуются так называемым молодежным жаргоном? Ведь если они говорят между собой, то, в конце концов, на здоровье. Это может быть не очень, там, эстетически полноценно, не всякий вкус удовлетворит, но они говорят между собой, и это, в общем, довольно их такой, приватный, частный диалог. А если тот же студент к своему профессору придет и скажет: «Здорово, шеф! Я сегодня сваливаю!» или «Отваливаю!», или «Зачет свалил!», или «Чао!», или что-нибудь подобное, – вот это будет и наглостью, и пошлостью, и вообще нелепостью. Так что пуризм, не знающий границ, нам здесь плохой помощник. Помните, Татьяна Ивановна, как в шестидесятые годы пуристы набросились на Солженицына, когда появилась его первая повесть «Один день Ивана Денисовича»? Вдруг, видите ли, выяснилось, что у нас есть тюремный жаргон, что есть зэки, упаси бог, есть параши, которые вряд ли уместно было бы назвать туалетной бочкой, согласитесь. Но, вообще, любой жаргон – это нормальное явление в обществе. Общество всегда неоднородно и не может не иметь социально-групповых особенностей употребления языка, употребление языка не может быть однообразным. Поэтому и надо избегать однообразия, как гласит четвертая заповедь культуры речевого поведения, чтобы всегда быть понятым и всегда понимать других.
Т. И . Абрамова: Когда Вы советуете избегать однообразия, Вы также, наверное, имеете в виду профессиональные языковые привычки?
Т. Г. Винокур: Ну, конечно. Ведь профессия тоже накладывает очень чувствительный отпечаток на речь человека. Об этом, кстати, замечательно сказал Бернард Шоу: «Профессия есть заговор для непосвященных». Музыканты называли себя лабухами, ученики называют лекцию парой: у меня сегодня две пары, фигуристы говорят: мы катали или откатали номер, программу – это все понять постороннему не всегда легко. Или даже не постороннему. А скажите, что это, общая речь или профессиональная? Я вчера по радио слушала: «Необходимо просчитать потребительскую корзину с учетом индексации цен». Ну, в общем, мы приблизительно понимаем, и все же эта потребительская корзина, вот в нашем таком, обывательском, образе представляется, чисто так вот, с точки зрения зрительного ряда, большая такая корзина, чем больше, тем лучше, правда ведь? Это все ведь специфическая профессиональная речь. Знаете, я когда-то специально записывала язык артистов балета. Интересовалась этим, у меня картотека есть. Они себя сами называют «балетные»: «Мы балетные». Ну, это не каждый же поймет, что это значит, например: «Ножку, ножку сильнее вынимай!» Или там: «Спина должна давать апломб». Или вот такое, например, выражение: «Ну, она долго у воды плясала, а потом в корифейки вырвалась». Сами танцоры, скорее всего, не чувствуют ничего особенного, потому что это их рабочая повседневная жизнь, а для других эта речь воспринимается иногда как своего рода кокетство, такое подчеркивание принадлежности к касте, отгораживание от непосвященных.
Т. И. Абрамова: По-моему, если мы пропагандируем такое правило, как понятность, простота речевого поведения и считаем это культурной нормой, то мы должны следовать этой норме, должны все же стремиться к общему языку.
Т. Г. Винокур: Да. Но ведь этот общий язык надо уметь найти! И как раз следующая моя заповедь так и гласит: «Умей находить общий язык с любым собеседником». К этому умению непременно нужно хотя бы стремиться. Вопрос, вообще, о том, как этому научиться, очень сложный, и о нем нужно специально говорить, но скажу только сразу, что нельзя заранее враждебно относиться к чужому способу выражения. Это вызовет непременно так называемую коммуникативную неудачу, как мы говорим, то есть не состоится полное и настоящее взаимопонимание.
Т. И . Абрамова: То есть умей находить общий язык – это пятая заповедь. Здесь нельзя быть экстремистом, да?
Т. Г. Винокур: Вот совершенно верно, экстремистом. Вы хорошее модное слово сказали. В применении к языку и к общению при его помощи экстремист и есть пурист, вот этот, о ком я говорила. Он неоправданный такой запретитель. Причем таким неоправданным запретителем может быть человек ограниченный, то есть по модели: «Все вздор, чего не знает Митрофанушка»4. Гораздо лучше уж, когда собеседники (сейчас я Вам тоже вверну модное словечко), гораздо лучше, когда они стремятся к консенсусу. Вот и у нас с Вами проявляется попытка найти общий язык, со временем хотя бы. Ради этого иногда приходится поступаться личными вкусами. Но Вы, я вижу, с этим не согласны?
Т. И. Абрамова: Нет, не согласна. И потому, что модные штампы невероятно быстро набивают оскомину, и нужно ли, Татьяна Григорьевна, себя так ломать? Мне кажется, любое иностранное слово можно перевести сразу на русский и употребить именно его.
Т. Г. Винокур: Да, конечно. Видите ли, я сейчас говорю не только об иностранных словах и о штампах, в которые они успели превратиться, а о том, что, вообще, соблюдать культуру речевого поведения – это значит соблюдать норму. А норма, норма языка, норма поведения – это, само по себе, явление обобщающее и, в чем-то, усредняющее, оно не всегда совпадает с индивидуальными вкусами. И тот человек, чья культура выше и, следовательно, чей речевой опыт богаче и разнообразнее, такой человек легче найдет способ быть понятым и быть тактичным в случае несогласия с каким-либо способом выражения. Ну вот, например, меня бесконечно шокирует этот глагол взять в значении ‘купить’. Меня спрашивают на улице, например: «Вы апельсины где брали?». И я никогда не ленюсь, кроме самого необходимого в ответ «Там-то», сказать: «Я их купила на Арбате». Потому что я не могу согласиться с тем, что я эти апельсины «взяла». Я их не взяла, я их купила. Но учить постороннего человека не всегда ловко. Дома, детей – это другой вопрос. Но дома, если мать говорит «купила», а не «взяла», то вероятность того, что и дети будут говорить верно, наибольшая, и наоборот. А постороннему человеку я могу лишь намекнуть, что ли, что есть и другое слово, что оно мне кажется более правильным в данной ситуации, и скажу «я купила» в ответ на вопрос «где взяли?» Это такой пример своеобразного перевода с ненормативной речи на нормативную. Важно только при всем уважении к собеседнику, при всей благожелательности, которую мы все, по-моему, единодушно сейчас рекомендуем, все же не заигрывать с ним, не принимать предлагаемые им, навязываемые им способы общения, если вы их считаете не отвечающими культуре речевого поведения.
Т. И . Абрамова: Но ведь очень часто именно это и приходится делать. Например, в разговоре с детьми.
Т. Г. Винокур: Конечно, не только с детьми. Практически мы это делаем очень часто, жизнь заставляет. Вот помните старый роман, теперь уж он старый, шестидесятых годов, Василия Аксенова «Апельсины из Марокко»?
Т. И. Абрамова: Очень хорошо помню.
Т. Г. Винокур: Да, хороший роман. И там есть как раз прекрасные примеры того, о чем мы с Вами говорим. Там герой, инженер, так о своей работе судит сам: «Я мастер. Мое дело цемент, наряды, бетономешалка. Мое дело сизый нос и щеки свекольного цвета, мое дело “Мастер, скинемся на полбанки!” – “Давай, давай, не робей, ребята, фирма платит”, мое дело находить общий язык». Вот хороший пример, правда? Или еще, у него же: он в одном рассказе о писателе, который вживался в быт флотской команды. Там такие даже есть примеры: «Потом мы [то есть флотские ребята. – Т. В.] даже забыли, что он писатель, потому что он вставал на вахту вместе с нами и вместе ложился, да, честно говоря, и не верилось, что он настоящий писатель. И он, как все, говорил: “Здорово, Гера!”, “Талант!”, “Рубай компот!” и так далее». Это так называемый синдром подражания, который связан с желанием найти общий язык, – явление более широкое. И вот синдром подражания, о нем тоже следует специально сказать, потому что это необычайно прилипчивое свойство, особенно у детей или у людей впечатлительных.
Т. И . Абрамова: Ну, так, знаете, в детстве, действительно, подражаешь каждой новой подруге, актеру, который понравился по кино или в спектакле, учительнице, да и вообще, мало ли кому.
Т. Г. Винокур: Ну, Татьяна Ивановна, как это так «мало ли кому»? Вот здесь я Вам на это отвечу сразу следующей заповедью: «Следуй высоким образцам, умей их отличить», то есть отличить высокий образец от речи весьма средней, которой не следует подражать, ищи образцовую речь, ищи свой идеал культуры поведения. Вот такая вот заповедь. И тут я хочу предложить такой совет. Полезно видеть разницу между культурой самого языка и культурой речевого поведения. Для нашей заповеди, которую я сейчас назвала, это очень важно. Значит, первое, то есть культура языка, учит пользоваться правильным языком. Вот есть правильный нормативный язык, и культура языка учит им пользоваться. Что значит владеть культурой языка? Уметь склонять числительные: от пятисот – к пятистам, знать, что нужно говорить трты, что нужно говорить включт, что нужно говорить есть, а не кушать, что нужно помнить, что глаголы одеть и надеть имеют разные оттенки значения, что предложное слово благодаря управляет не родительным, а дательным падежом, что нужно быть в ладах с орфографией, и многое, многое другое. То есть это, конечно, основа основ. Я так и говорю в своей заповеди: «Владей культурой языка», это основа культуры речевого поведения.
Т. И . Абрамова: Облегчает эту задачу то, что по культуре языка, культуре речи, есть много учебных средств: и специальных руководств, и словарей, и грамматик, а также каких-то других изданий справочного характера. Мы о них говорили в предыдущх передачах. А ведь настоящей культуре речевого поведения никакой учебник не научит.
Т. Г. Винокур: Ну, с одной стороны Вы правы, но все же не совсем. Чему-то все-таки научит такой учебник, потому что некоторые вопросы здесь соприкасаются, они не могут не соприкасаться. Ну, допустим, есть стилистическое различие между словосочетаниями благодаря чего и благодаря чему. Я только что сказала, что современная норма – это дательный падеж, благодаря чему: благодаря плохой погоде, а не благодаря плохой погоды мы поехали или не поехали и так далее. И вот первое из них, благодаря чего, оно ненормативное сейчас, устарелое и специфически казенное. И это качество данного словосочетания указывается обычно во всех пособиях по культуре языка. А если указывается, что одно устарело, не годится, а другое годится и сейчас употребляется, то это уже указание, и благодаря таким указаниям можно продвинуться и к главной задаче культуры речевого поведения, т. е. не только пользоваться правильным языком, но уметь правильно пользоваться языком. Вот чувствуете, Татьяна Ивановна, разницу: пользоваться правильным языком и правильно пользоваться языком во всех обстоятельствах жизни? Второе вытекает из первого. Вот, например, знаменитый глагол кушать, мы сейчас говорили с Вами взять и купить, тот же самый знаменитый этот глагол кушать. Чем он сам неправильный? Сам по себе он совершенно ведь правильный. Так же как вот… Я могу взять подобные другие глаголы. Но ведь культурный человек, умеющий правильно пользоваться языком, далеко не всегда его употребит. Может быть, употребит этот глагол кушать культурный человек… ну, в обращении, допустим, к маленькому ребенку. Да и то ведь не всегда. Иными словами, успех общения целиком зависит от умения правильно пользоваться нашим бесценным богатством – языком. А культура это умение обеспечивает, помогает овладеть нормами речевого поведения. Без сомнения, наше повседневное использование языка объективно играет гораздо большую культурообразующую или же культуроразрушающую роль, чем это принято думать. Ну, разве это дело, что в современном обществе такие, с позволения сказать, нормы общения сейчас берут верх, как, например: «А ну, давай, бабка, или, в лучшем случае, бабуля, проходи, чего застряла!». Вот что такие формы и нормы общения взяли верх над «Будьте добры, разрешите пройти», разве это нормально?
Т. И . Абрамова: Вы, я вижу, хотите перейти к еще одной и, может быть, самой главной заповеди: «Помни, что вежливость и благожелательность – основа культуры речевого поведения». Я правильно сформулировала?
Т. Г. Винокур: Совершенно правильно сформулировали и выступили как мой соавтор. Эта заповедь настолько очевидна, что и комментировать ее, по-моему, не стоит. Хотя именно она предана сейчас полному забвению и нуждается не в нашем сегодняшнем разговоре, а во всенародном обсуждении, или тоже опять скажем, референдуме, так? Можно опять употребить модное иностранное слово. Конечно, это… для такого вопроса нужен референдум. Ведь у нас ни в чем не знают середины. Недавно один мой друг замечательный сказал: «У нас получилось пустое пространство: от хамства мы сразу хотим перейти к милосердию и минуем при этом обычную вежливость». Это слишком серьезная болезнь – невежливость. И лечить ее нужно кардинально, а лечить кардинально может нам помочь лишь изменение общей нравственной ситуации в нашей жизни. Изменение же это, в свою очередь, Вы знаете, зависит от слишком глубоких причин, о которых в нашей передаче говорить не место. Для этого есть другие передачи. Но, вообще-то, здесь надо говорить о несоответствии, которое навязано нам, именно навязано, навязано всеми обстоятельствами нашего бытия. То есть о таком соответствии нормам общечеловеческим, нормам вежливости, доброты, этикета, которые необходимы для общества, об этом действительно надо кричать во весь голос. Тем более, что все-таки положение здесь не совсем безнадежное. Потому что, вот видите, ситуация все же меняется, и меняется она не всегда к худшему. Помните, мы обсуждали вопрос об обращении? Мы начали это примерно года три или четыре назад уже. И за это время общественное мнение по поводу этого вопроса претерпело очень значительные изменения. Я могу даже такую периодизацию сейчас представить себе. Первый этап был, когда вообще критика современных принятых обращений абсолютно не поддерживалась. Однажды я в передаче сказала, что обращение товарищ стало носить несколько казенный, слишком сухой, что ли, оттенок и уже не удовлетворяет говорящих; и что тем более такой оттенок имеет слово гражданин. Так была буря возражений от слушателей. И в этих возражениях виделись такие посягательства, что ли, на наш общественный строй в целом. И тогда, например, другие предложения относительно сударь, сударыня солоухинских, помните, они отвергались, нельзя было их вообще пытаться вводить, одобрять, и так далее; то есть мы одобряли, но это оставался глас вопиющего в пустыне. Ну, уж о дамах там, господах, говорить и вовсе не приходилось. Потом уже второй этап постепенно стал как-то образовываться. Стало возможным хотя бы все это обсуждать. Мнения стали разнообразнее. Вот можем опять посмеяться и сказать, что возник плюрализм мнений. Действительно, мы тогда получали письма, помните, от молодых людей, от девочек из десятого класса, которые тосковали по вежливому, ласковому обращению, предлагали поддержать обращение сударь