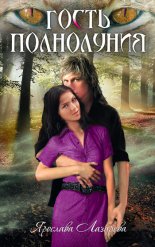Прокурор Никола Белоусов Вячеслав

– И переплыли Енисей, – поддакнул я.
– Да, ребята, деньги у них большие. Такие большие, что они боялись в милицию заявлять. Но тут не деньги, тут ценности похищенные значение имеют. К слову сказать, я думаю, бандиты и сами влипли с награбленным: не найдут покупателей, чтобы сбыть похищенное. Все ломбарды, лавки антикварные, малины[40] сыщики обложили, а цацек[41] нет. А там такие вещи значатся! Я сейчас экспертизу назначаю: и кельтский крест, и папский перстень…
– Неужели из самого Ватикана? – хмыкнул Шаламов.
– Представь себе, Михалыч, говорят, только там такие печатки водились! – Курасов глаза закатил от восхищения. – Теперь это огромная коллекционная редкость!
– А Михалыч, значит, тебя выручал по старой дружбе? – вернул я с небес на грешную землю восторженного рассказчика.
– Грохнули амаску[42] на Набережной, – хмуро пробасил Шаламов. – А может, и самого Каина[43]. Мне копаться там пришлось. Покойник, похоже, проблемы этих самых «санитаров» решать взялся с драгоценностями. Да сам подставился. Повесили бедолагу.
– Уже точно? – спросил Курасов.
– Точнее быть не может. Славик Глотов уже и заключение выдал. У жмурика, похоже, тайник искали, все перерыли в квартире, а он нам достался. С ожерельем. Моей Таньке и во сне не видать такой красоты. Но главное в другом. Стаканчик я там подобрал, вернее, то, что от него осталось, донышко.
Шаламов кивнул Курасову на рюмки.
– Наливай, везунчик.
Курасов спохватился, наполнил рюмки.
– Этим стаканом по голове били. Разлетелся вдрызг. А пальчики и кровь остались. Убийца пальцы повредил. Теперь отпечатки пальцев этого мокрушника[44] отпетого не только у меня есть, но и Николаю перепало.
– Не понял? – я действительно не разобрался в «бермудском треугольнике» криминалиста.
– У меня по делу «санитаров» накануне отпечатки пальцев нашлись по одному из эпизодов ограбления. Следователь молодой назначил экспертизу и забыл. Балбес и есть балбес, что с него взять. А когда дело передавать мне стали – хватились. Этот раздолбай за заключением к экспертам помчался, а там – действительно, только такому дурачку везет – там ему отпечатки пальцев выдали. Грабителя! Других там быть не должно!
– Ну? – у меня тоже дух перехватило.
– Вот по этому случаю и праздник, – закончив без эмоций, Шаламов поднял рюмку. – Отпечатки грабителя совпали с отпечатками пальцев на стакане. Этот поганец – «санитар» – убийца и есть.
– Михалыч! Ты у нас не иначе!.. – я вскочил с рюмкой, не мог найти слов от восторга.
– Бертильон[45]! – помог Курасов, чокаясь со мной.
– Бери круче.
– Видок[46]!
– Мало.
– Ну, я не знаю тогда.
– Гений сыска! – не нашел я ничего подходящего.
И мы все обнялись и выпили. На чердаке повеяло прошлым, прежним и уже невозвратным.
– А у тебя как? К Игорушкину таскали? – поднял на меня усталые глаза Шаламов, когда мы присели.
– Тарков, зараза, нервы поднял.
– От этого добра не жди.
– Я знаю.
– Помощь какая нужна?
– Прорвемся.
Свистать всех наверх!
Теперь она пила, не стесняясь, не прячась, в открытую. Порохов приходил под вечер, Ксения уже в пьяном отупении валялась на диване в чем мать родила. Спрашивать, убеждать, ругаться – все бесполезно, она не могла связать и слова. Глядела на него ничего не видящими глазами, молчала.
Порохов вывез все спиртное из дома, не помогло. Ей кто-то сердобольный притаскивал в его отсутствие, она прятала запасы. Порохов решился на хитрость, поймал злодея. К его удивлению, им оказался Тимоня; съежился весь, сник, хлюпал носом, только не ныл.
– Ты что же, сопляк? – отобрал он у рыжего шкета сумку с бутылками и саданул по физиономии. – Специально ее снабжаешь?
– Плакалашь… – зашепелявил тот.
– Чего?
– Прошти, Эд, приштала…
– Чего шепелявишь-то?
– А ты шабыл?
Порохову такое век помнить: рассказывал Тимоня, как били в Баку, сержант зуб вместе с фиксой вышиб. Тимоня тогда долдонил беспрерывно, а Рубик молчал, насупившись. Конечно, правы пацаны, могло все хуже обернуться. Отобрали деньги, икру – это пережить можно; Хабиба еще припрет, Хамзя новую шпаклевку состряпает, а вот явку и людей спалили, кого теперь ему в Баку слать? На верный год вперед дорожка туда заказана! Теперь в Одессу, в Киев… А туда особенно не наездишься. Не близкие края. И связи там не такие. В Баку – дом родной, а там?.. Все планы полетели! Какой провал!..
– Значит, ты молчал? – Порохов зыркнул на Тимоню глазом недоверчиво. – Тебя одного били, а ты…
– А щего говорить-то? Они вшо у наш шабрали. И не шпрашивали нищего.
– Здоровый сержант?
– Бугай, шука!
– А чего же Рубик цел?
– Рубик шам, кому хошь, башку швернет.
– Вставил бы уж давно, балбес! Фиксу-то потерял? – Порохов сказал и остолбенел от внезапной догадки, пронзившей его мозг, по-другому на Тимоню посмотрел.
Рыжий стоял перед ним, квасился, глотал слюни. «И фикса у того тоже желтая была? – будоражила, пугала рассудок внезапно появившаяся мысль. – Сбытчик тот, которому вещи сдали для продажи, он же рассказывал про убийцу! Рыжий и с фиксой из желтого металла!..»
Порохова захолонуло. Нет, не может тот рыжий его Тимоней быть! Малец этот совсем. Вон, дал ему по морде, он тут же едва не в плач. Какой из него убийца? Чтобы так измордовать бедного племянника Мизонбаха! Нет. Это не Тимоня. Но все сходится!..
– Ты щего? – испугался Тимоня его взгляда. – Щего ты?
– Ладно. Иди. И чтобы я тебя больше у нее не видел, – процедил сквозь зубы Порохов. – А к вечеру собери мне всех наших.
– Кого наших-то?
– Рубика, Аргентума, Жорика, Седого и Хабибу.
– Жорика?
– Плохо слышать стал после путешествия?
– Дак он же?
– Пока вы прохлаждались в гостях у бакинских ментов, я Жорика прощупал. Крепкий пацан. Наш.
– А я тебе шражу говорил, Эд.
– Значит, угадал.
– А Аргентума где ишкать? Его ш мещаш нет нигде.
– Пропал, что ли?
– Не шнаю.
– Найди!
Льет ли теплый дождь…
Сын как уехал, так затерялся; вроде в народе пословица ходит про дочь, что она отрезанный ломоть, а у прокуроров и здесь все не как у людей. Петруха в Нижнем как осел после института, так ни с места. Только в отпуск и приезжает, словно турист, даже со своими удочками. И женился там, и внуков сообразил, и на заводе его имя гремит, а все он за горами, за морями как был, так и остается для родителей. А Майка, вон она, напротив сидит, на пианино, знай, наигрывает.
Игорушкин полюбовался на дочь, закрыл глаза.
Любит он такие вечера. За окном тишина, ветка не шелохнется, луна в окошко загляделась. Аннушка на кухне секретничает по телефону со школьной подружкой, такой же пенсионеркой; он, как обычно, на диване при книжке в руках для важности, а Майка – с музыкой.
Чегой-то она там наигрывает? Незнакомая мелодия. Нет. Не классика. То обычно у нее Моцарт или Шопен, а последнее время все современное и незнакомое. Уж не этот ли?.. По телевизору показывали. Из молодых. Имя смешное, а молодежи нравится. Буль-буль оглы[47]! Точно. И надо же! Имечко. Не смотрел бы сам передачу, не поверил бы. А ведь красивое имя! Соловей. Так переводится. Подумать только. Азербайджанцы. Веселый народ! Все у них пляшут и поют. Как дети малые. Друг за друга стеной. В России все по-другому. Политика забивает. Других дел нет. Вот, даже до прокурорских добрались! С Ковшовым беда! Ему политику шьют! А какая там политика? Жулье поймал его прокурор! Хапуг и жулье! А ему приписывают чуть ли не против линии партии! Партию, видите ли, позорит! Партию оскорбил! На партию руку поднял!..
Наглый инструкторишка осетров ловил из колхозного невода. Вот и все дела. Не для себя, конечно. Машиной осетров полгорода накормить можно. Куда ему одному! Пусть для своих. И для себя тоже. В таких случаях без этого не обходится. Потом, конечно, они оформили все как надо. Пересчитали, специалисты хреновы, сколько в машине осетров. И сколько в каждом осетре килограммов. А сколько икры – забыли! Ковшов Таркову сказал, что вся рыба икряная была. А инструктор твердит, что сплошь яловая. Икряных тот, видите ли, не брал. Но народ-то живой видел! А прокурора выставляют за дурака! Да еще теперь к нему в область с петицией!.. Разберись!..
Игорушкин мрачно захлопнул книжку. Ковшов не тот человек, чтобы врать. И сейчас он сам не позволит в дерьмо носом его тыкать. Хайса, правда, напирает. Как же! С ним не посоветовался Ковшов! Его не поставил в известность, когда на тоню поехал! Сам разбирался! Без него!.. Да если прокурор у всех разрешения спрашивать будет, какой же он тогда прокурор? Подстилка. Ноги об него вытирать станет тот же инструктор! Кстати, что с инструктором? Он сам, когда говорил с Хайсой по телефону, сразу сказал, что поведению инструктора на тоне райком тоже должен дать оценку. Хайса пообещал… Надо будет Таркову подсказать, чтобы всесторонне отнесся к проверке, чтобы и о райкомовских мальчиках побеспокоился…
Игорушкин забылся, книжка выпала на пол.
– Ты чего, пап?
– Ничего, ничего, дочка. Играй. Что это за мелодия такая? Не слышал.
– Шейк, папа.
– Шейк? Что у вас за названия теперь? Сплошь зарубежные.
– Время, папа, время.
– Мы с матерью отплясывали, бывало. Танго. Хороший танец.
– Ну вот. Тоже не наш. Испанский.
– Я танго любил танцевать. Анна Константиновна от него в обморок падала. Лишь услышит мелодию…
– А как же ты? Танго – танец двух влюбленных.
– Ну уж и влюбленных. Другие девушки были. После войны их на танцплощадке больше стояло, чем нас, солдат.
– И мама тебе позволяла?
– Она мне верила.
– И не ревновала?
– Ну это ты уж у нее спроси.
– Ссорились?
– Не без этого. А ты что грустишь?
– Уезжаю я скоро, папка.
– Знаю, знаю, Анна Константиновна оповестила. Ну и чего грустить из-за этого? Кавалера здесь оставляешь?
Майя не ответила, совсем голову опустила к пианино, тихо заиграла, подпевая:
- Льет ли теплый дождь,
- Падает ли снег.
- Я в подъезде возле дома
- Твоего стою.
– Буль-буль оглы? – брякнул наугад Игорушкин, чтобы как-то развеселить дочку.
– Что ты, папка? Ободзинский!
– Все они на одно лицо. Вот и твой следователь. Чего ссориться? Ты же его с собой не возьмешь? Дети, право.
– Он здесь совсем ни при чем.
Игорушкин нагнулся, поднял книжку, сделал вид, что читает. Анна Константиновна все уши прожужжала этим Володенькой. А ему следователь милиции не приглянулся. Нет, ничего не скажешь, видный, высокий, помнил, видел его один раз, когда Кравцов приезжал, но после того как ветром сдуло. Давно встречаются они с дочерью. Люди взрослые. Ну взял, пришел, познакомились. Чин-чинарем! Как положено. Игорушкин во всем любил определенность и ясность. Чего мудрить? А то бегает от него, как мальчишка! Все ему некогда! Как будто у прокурора области дел меньше!.. Или Майка сама не допускает пока?.. Докопайся, что там у них…
– Слушай, пап, только не обижайся…
– Чего же обижаться-то? Я еще и не знаю.
– Ты прокурором так вот сразу и на всю жизнь?
– Ты как маленькая, Майя. Студентов сама учишь, а вопросики у тебя!
– Ну, не хочешь, не говори. Тебя ничего и спросить нельзя.
– Почему? Спрашивай.
– Вот и ответь.
– Я не скрывал никогда. И не мечтал, не гадал прокурором стать.
– Юристом?
– И юристом не думал.
– А как же?
– Учителем мне хотелось. Историю преподавать. Слышала про Соловьева, Костомарова, Ключевского[48]?
– Ты столько наговорил! Забыл? Я русский язык иностранцам преподаю. А историки все твои древние.
– Отчего же? Как раз все – русский народ. Карамзин что сказал? Чтобы знать настоящее, должны мы в совершенстве, прежде всего, знать свое прошлое.
– Значит, изменил своей мечте?
– Уже учителем истории работал, понял, что без юриспруденции не обойтись. Не было историков, чтобы юридическую науку не чтили. Вот и поступил вновь учиться. Собственно говоря, и не прекращал. А там война. Войне адвокаты без надобности. Прокуроры тогда больше требовались. А погоны надел…
– Владимир задумал тоже учительствовать.
– Что?
– Приглашают его преподавать в школу милиции.
– Это что же? Следователем без году неделя… И в побег?
– Ну как ты так можешь? Почему побег?
– Он еще следователем себя не почувствовал. Только же из штаба! И туда же, в преподаватели. Чему учить будет курсантов? По учебнику? Или как при штабе бегать надо?
– Ты сразу в штыки! Сразу осуждать. Вот уж действительно, мама говорит, – прокурор впереди тебя идет!
Игорушкин смутился, пожал плечами.
– Как есть. Теперь уж не переделать, дочка.
– Что у вас за спор, друзья мои? – в дверях появилась Анна Константиновна. – Давайте мировую чайком отметим. Поднимайтесь, поднимайтесь. У меня уже все на столе.
Одинокий волк
Арон Соломонович забыл старушек. Лизавета, как и просил он Виолетту Карловну, правда, прибегала; посуетилась, справилась о здоровье, подсобила, сготовила кое-что на кухне и убежала. И он забылся. Своих хлопот полно.
Не давала покоя тревожная мысль про неизвестного гостя в чудной шапочке. Арон крест передал, с перепуга ни имени, как говорится, ни адреса не спросил, и в ответ ничего не услышал. «А надо бы!» – задним числом жалил и ругал себя старый Арон. Грозный, конечно, мужчина его посетил, не случайный гость: все знает, ему и вопросы-то страшно задавать. Поди узнай, что у него на уме! Ружье-то как у него схватил! Арон и глазом моргнуть не успел, а тот вмиг и патрон вытащил, и крест с цепочкой в карман спрятал, как свой. Конечно, за ним и пришел. И все культурно, интеллигентно. А ведь если, к примеру, убить хотел? На что ему смерть Арона? И все же? И стрелять бы не стал. Без ружья обошелся бы. Ручищи вон какие! Придушил бы – и все дела. Нет, с незнакомцем все ясно. Он от главного пришел к Арону. Поэтому все и знал.
Арон сидел в кресле, дремал, раскладывал мысли по полочкам. Чего ж теперь думать-гадать? Теперь будь что будет. И все же не мешало бы их главного увидеть, он «товар» сдавал Арону, от него и слово последнее услышать не мешало бы. Тоже серьезный мужчина. Хотя на вид вертлявый. Но «товар» у него был такой, что у Арона тогда даже дух перехватило. Одно ожерелье чего стоило! Арон цену знает. И крест тот исключительной редкости! Арон даже отказаться хотел сначала, но увидел глаза вертлявого и язык проглотил. Понял, раз показали ему этот товар, отказаться уже не позволят… Хорошо, вернул он крест незнакомцу. С ожерельем промашка вышла. Там Левик подвел. Подвел и сам поплатился. А он, Арон, здесь при чем? Он крест вернул. Обязательств не исполнил? Покупателя не нашел? Но он сразу предупреждал главного, что найти покупателя на такие чудные редкости будет трудно. А его никто не слушал. Вертлявый как уставился тогда и фиксой блеснул… Ба!.. Старый Арон даже вздрогнул всем телом. У главного-то фикса ведь была из желтого металла на нижней челюсти! Чего же это он забыл! Как же он гостю-то, незнакомцу в шапочке, про это не сказал? Страх обуял тогда старого Арона. Себя не помнил, не то что про вертлявого. У него же фикса, как и у того, который за покойником следил!.. За Левиком убиенным! Левик же ему рассказывал!..
Арон Соломонович совсем потерялся, расстроился и сжался в кресле от нахлынувших мыслей.
Однако чего он перепугался, старый осел? Мало сейчас фиксы эти ставят? Да сплошь и рядом! Кому не лень. Кто покрасоваться, кто возомнил о себе черт-те что и хочет, чтобы другие тоже о нем думали… А с другой стороны? Зачем вертлявому к Левику лезть, да еще убивать? Он бы к Арону пришел. Они уже виделись. Знают, можно сказать, друг друга. Пришел бы к Арону, тот возвратил бы ему товар. Ну, конечно, попросил бы комиссионные… Хотя какие к черту комиссионные!
Нет логики в размышлениях! Запутался старый Арон. Голова разболелась. Одно к одному.
Сейчас бы Лизавету рядом! Хорошо с обеими, старушки его боготворили. Мирно с ними, тихо; разговоры, беседы разные. Виолетта Карловна, конечно, не того возраста, чтобы интересовать старого Арона. Ему бы помоложе. Чтобы подать могла, позаботиться, сготовить. Старый Арон чуял, пора кончать с одиночеством, приходит его время. Лизавета не подходила. На ноги, конечно, быстра и чай подавала душистый. До сих пор аромата не забыть. Но Лизавета не в его вкусе. Грубовата и проста. Что с ней Арону? Ни поговорить, ни вспомнить. У старого Арона отменный вкус на женщин. Сказать по правде, покойная хлопотушка его, Фаня, тоже не блистала, но с женитьбой тянуть уже смысла не было, и Арон махнул рукой, рискнул. Потом жалел, киснул даже, но со временем пригляделись – притерлись и прожили вместе – всем бы так. Конечно, имел Арон мелкие шалости, позволял себе, но все в рамках брачного союза, так и дожили до седин. Фаня заспешила, опередив его, грудная жаба съела его спутницу неугомонную, а Арону теперь хоть умирай самому…
Арон Соломонович пошевелился. Надо бы встать… Таблетки где-то были… Лизавета, когда гостила, давала ему от головы. После встречи с незнакомцем долго не мог в себя прийти, и головная боль мучила особенно, и сердце покалывало. Не к добру старому Арону такие волнения. И отошел ведь он давно от всех прошлых дел. А вот нашел его вертлявый. Кто сказал? Кто посоветовал? Как ни допытывался, тот ему не назвал подсказчика… Да что теперь вспоминать!..
Соломонович кое-как осторожно поднялся с кресла, сделал усилие – пошли ноги, понесли старого Арона, вот и шкафчик этот, сюда вроде Лизавета таблетки прятала… Здесь, здесь… желтенькие – от живота, беленькие маленькие – от температуры, а вот эти, побольше, – от головы…
Сзади, у двери, то ли скрипнуло, то ли треснуло. Он дверь-то на ключ запирал. С тех пор, как гость его незнакомый в черной шапочке посетил, не было такого, чтобы он не запирался на внутренний замок. Это что же? Кошка-паразитка! В дверь царапается, вернулась, проголодалась… Он задаст ей сейчас жару – его пугать!
Арон Соломонович повернулся шугануть проныру и оцепенел.
В замке еще раз что-то скрипнуло, и дверь отворилась сама собой. Осторожненько просунулась голова в кепке, и на пороге появился вертлявый!
– Здравствуйте вам, – сказал он.
– Вы ко мне? – спросил Арон Соломонович потому, что надо было что-то говорить.
– А я думал, подожду, – сказал вертлявый. – Шел к вам. И торкнулся. А она открылась.
Он ткнул пальцем на дверь.
– А я давно не выхожу, – ответил Арон Соломонович, его что-то знобило. – Голова вот что-то…
– У вас кто есть? – вертлявый шмыгнул в комнату, сунулся на кухню, шнырял быстро, словно мышь, вернулся. – Закрыть дверь?
– Отчего же? – Арон Соломонович искал, куда присесть, до кресла было далеко.
А вертлявый уже щелкнул ключом.
– Соседка обещала заглянуть, – попытался возразить Арон Соломонович и направился было к двери, схватившись за левый бок.
– Я не задержусь, – остановил его рукой вертлявый и присел в кресло. – А соседка подождет.
– Собиралась…
– Успеет, – отрезал вертлявый. – Я за товаром.
– Как? – оторопел Арон Соломонович. – Как же?..
– Я за товаром! – вертлявый подскочил в кресле. – Ты чего, старый козел? Забыл все с перепугу?
– Вы же взяли все, – Арон почуял, как выскакивает из груди его сердце.
– Кто взял? Кто был? – заорал вертлявый, в руках его появился нож, он бросился к Арону, но поздно; Арон Соломонович, вцепившись в грудь, сам свалился на пол; большое, но легкое тело его распласталось ниц и затихло.
– А, черт! – вертлявый нагнулся над телом, схватил за грудки, тряхнул раз, два – глаза старого Арона смотрели в потолок мимо него, стыли мертвым покоем.
В дверь стучали.
– Арон Соломонович!.. – послышался голос. – Откройте… Я как обещала…
– Чтоб ты сдохла! – выругался вертлявый и затих.
– Арон Соломонович!.. Заснул. Ну ладно, я через часик зайду.
Жиганы
К назначенному времени на даче собрались почти все. Тимоня загодя прибрался в домике, расставил на столе посуду, вилки, ложки выложил, батарее бутылок особое место выбрал – в центре. Постарался с закусью. Рыбу красную отварил в малосоле и хлеб ломтями накромсал тесаком – что еще надо под водку! Зная и соблюдая традиции Порохова: водку если пить – вдоволь, а жрать – так тоже с пользой для организма, поэтому полулитровую стеклянную банку черной икры дачной закатки открыл. Ну и обычный их фирменный стандарт – балык из селедки сварганил и картошку в чугунке отварил. Воду слил наполовину, оставил на легком огне, чтобы не особо разваривалась, пока остальные подгребут.
Ждали Порохова.
Серебряный, с тяжелого похмелья злющий, как собака, шатался по углам, задевал, задирал одного, другого, не выдержал, заорал:
– Рыжий, налей по одной! Совсем картоха сгорит! Что зря прохлаждаться?
– Шам такой! – огрызнулся Тимоня. – Еще рыжей меня будешь. Фамилию только кто тебе дал? Ошибша поп.
– Нехристь я, дурак!
– Оно и видно – некрещеный. Куда гряшными лапищами к штолу лешешь! – Тимоню, хоть и возрастом, и ростом уступал всем, слушались. Ему и повиновались: как же – при Порохе правая рука, адъютант, попробуй слово скажи!
Серебряный, ругаясь про себя, отошел в угол, присоединился к Рубику, Хабибе и Седому, раскинувшим картишки.
Порохов задерживался. Картошка, снятая с огня, остывала.
Заявился Жорик, глянул на стол, хмыкнул:
– Всегда у вас такое пиршество?
– По ошобым шлучаям, – залихватски подмигнул Тимоня. – Чапай речь держать будет.
– Ты язык бы свой поганый прищемил! – хмуро сплюнул Серебряный из угла, покосившись на Одоевцева; остальные тоже оживились, увидев Жорика, впервые он среди них здесь нарисовался.
– Брешешь почем зря! – закончил Серебряный. – Я не посмотрю, что возле Пороха отираешься. По харе заработаешь мигом. Мало зуб выбили? Небось, тоже трепался в ментовке-то у азеров?
Тимоня, ни слова не говоря, ринулся с кулаками к обидчику, но тот только легонько ткнул его – и пацан отлетел, охнув.
– Кошел! Я Эду вше шкашу! – поднимаясь, прижался Тимоня к стене, заозирался, ища защиты, но тщетно.
– Сладил? – Одоевцев заслонил подростка.
– Ты кто такой? – отставив карты, Серебряный вылез из угла, надвинулся на пришедшего. – Откуда взялся, красавчик?
– Не знаешь?
– Я-то знаю, – с вызовом ответил Серебряный и повел рукой в угол. – Ты вон им объясни.
– Это наш, – высунулся из-за спины Одоевцева Тимоня. – Георгий Победоношец. Его шам Эд велел пошвать. Жорик.
– Победоносец, говоришь? – Серебряный подошел ближе к Одоевцеву, схватил за грудки. – А вот посмотрим. Может, броненосец, а может, бедоносец, а? Бабу-то тоже делишь с Порохом?
Серебряный хмыкнул, оглянувшись на дружков, но ни Рубик, ни остальные не поддержали его веселья.
– Кончай, Аргентум, – наоборот, нахмурился здоровенный Рубик и сделал к нему шаг.
– Стоп, Рубон! – остановил его тот. – Это мое дело. Не лезь. Не советую.
Он развернулся к Одоевцеву и, не опуская рук, приблизил свое лицо к нему.
– Хороша баба-то? На двоих? – процедил он сквозь зубы. – Как же ты бабу сдал?
– Ты шам-то! – не удержался Тимоня из-за чужой спины. – От тебя она на швадьбе шбежала!
– Заткнись, гаденыш! – рявкнул Серебряный и плюнул Тимоне в лицо. – Тебя не спросили!
– Отпусти! – сверкнул глазами Одоевцев. – И шкета не трожь.
– А что будет? – прошипел Серебряный. – Ты у нас девок…
Договорить он не успел, охнул, внезапно скорчившись от удара, а от второго отлетел от Одоевцева, едва не свалив стол.
– Ах ты мразь! – заорал он, приходя в себя, и в руке его сверкнул нож. – Сейчас я гляну, какого цвета твои кишки!
Рубик, Седой, Хабиба бросились было к Серебряному успокаивать, но тот полоснул ножом воздух перед ними и истошно выкрикнул:
– Прирежу любого, кто сунется!
Ноги смельчаков приросли к полу. Одоевцев побелел лицом, но с места не сдвинулся, лишь присел слегка, как перед прыжком, ноги расставил, ожидая нападения. Тимоня пятился, умирая за его спиной от страха.
– А ну замерли! – обрушился на всех крик с порога.
В дверях стоял Порохов.
– Дай нож!
Серебряный не успел двинуться, как Порохов оказался перед ним, выбил нож, двинул локтем в лицо.
– И ты пошел! – зыркнул глазами Порохов на Одоевцева. – Чего уставился?
– Это вще Аргентум! – Тимоня ткнулся к Порохову. – Плевалша на меня.
– Сядь! – осадил и его Порохов и оглядел всех суровым, злым взглядом. – По делу собрались. Нечего собачиться.
Тимоня сунулся к столу, засуетился, начал поправлять посуду; остальные, понурившись, переминались с ноги на ногу, угрюмо молчали.