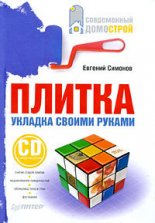Человек с французскими открытками Сароян Уильям

Уильям Сароян
ЧЕЛОВЕК С ФРАНЦУЗСКИМИ ОТКРЫТКАМИ
From «THE DARING YOUNG MAN ON THE FLYING TRAPEZE AND OTHER STORIES»
by William Saroyan
Перевел Григорий Анашкин
Он выглядел, когда того хотел, как грешная копия Иисуса Христа, он походил на человека, жившего как праведник так долго, что это свело его с ума, и он внезапно решил покончить с праведностью, причем весьма быстро. Его обычными словами были: «Да какая разница», «Плевать». Было очень трудно понять, к чему это он. Временами он был опрятен и внутренне спокоен; лицо — чисто выбритым, а в густых усах с рыжиной проглядывало чтото библейское; он грустно улыбался, просматривая сетку забегов, произнося вслух имена разных лошадей: Мисс Вселенная, Святой Дженсан, Мерри Чаттер и тому подобное.
Я думаю он был русским, хотя какое мне было до этого дело — мне и в голову никогда не приходило задавать ему такого рода вопросы. Он вечно был на мели и всегда в поисках сигареты; у меня обычно были при себе самокрутки, или пачка. Он никогда не обращался за сигаретой к другим и, вообще говоря, он и у менято никогда не просил. Я просто протягивал ему пачку или мешочек с самокрутками, и вот такимто вот образом мы и сошлись. Он выглядел очень печальным, чаще всего, таким иногда рисуют Христа, впрочем это относилось к тем случаям, когда его лицо была выбритым. Потом, внезапно, он переставал бриться и объявлялся вот в таком виде с пробивающейся бородой недельной давности, иногда двух.
Его бедственное положение болезненно задевало меня, и я надеялся хоть както помочь ему. То и дело мы ходили в дешевый ресторан на Третьей улице за Ховардом, где хороший ужин со стэйком в качестве главного блюда обходился в двадцать центов, это включая пирог. А еще я ставил на лошадей, которые ему приглянулись, и, если они выигрывали, я мог отдавать ему часть денег не оскорбляя его. Они редко выигрывали, вообщето, и это едва не сводило его с ума, заставляя бормотать чтото на родном языке, русском или словенском, и ходить взад вперед по комнате в доме номер один по Оперной аллее, где мы делали ставки.
Ему было лет пятьдесят, но он выглядел моложавым; был довольно высоким, подвижным, по своему изысканным, утонченным. Дела у него шли совсем неважно, но отчегото его манеры наводили на мысль о том, что падение его было случайным и произошло в результате какойто игры случая, ошибки, и что в действительности он был человеком внушавшим уважение и восхищение. Иногда я мог видеть, что прошлой ночью он остался без ночлега и, если его лошади проигрывали, я потихоньку выскальзывал из букмекерской конторы и бежал через улицу в карточный салон, где играли в рамми, и садился за стол. В карты мне везло немного больше чем с лошадьми и, если я выигрывал, то спешил назад, чтобы сунуть ему в ладонь пол–доллара так, чтобы никто не видел; он ничего не говорил мне, и я тоже молчал. Казалось необычным, что он понимал, что это деньги не на ставку, и на следующий день я мог убедиться, что этой ночью он спал и спал в кровати.
Каждый день на протяжении нескольких месяцев я виделся с ним, мы говорили о лошадях. Я знал с десяток других, похожих на него персонажей, это было секретное братство людей, где никто не знал никого по имени, и никто не спрашивал имен. Про себя я звал его высоким Русским, и этого было вполне достаточно.
Дела шли из рук вон плохо. Длинная полоса неудач застигла всех посетителей дома номер один по Оперной аллее, и мне тоже досталось. Я помню тот день, когда пришел в контору с последними пятьюдесятью центами, и стал слушать, как высокий Русский рассуждает о лошадях, которые, по его мнению, имели шансы на выигрыш. Я поставил на лошадь по кличке Темное море и сел рядом с высоким Русским, куря свой «Булл Дурэм». Я поставил на выигрыш и моя лошадь пришла второй, отстав лишь на кончик морды, я думаю, что это был единственный раз в моей жизни, когда я по–настоящему переживал. Мне было почти также не по себе, как и Русскому, мы оба вскочили, матерясь себе под нос, глядя друг на друга и матерясь. «Эта лошадь, — сказал он, — ты подумай, бежала всю дорогу так хорошо и вот проиграла на голову». И он начал ругаться по–русски. Через некоторое время я успокоился и сказал, что может быть завтра все будет по–другому — бородатая хохма всех игроков на скачках. Светлый день всегда приходился на завтра. В ту ночь я сидел в карточном салоне через улицу, голодный, до двух часов ночи. После двух ушел и бродил по городу и к девяти утра явился в дом номер один по Оперной аллее. Я пришел первым, меня знобило, и мучительно хотелось кофе.
В десять пришел Русский. Я както пытался скрыть свое состояние, но по–видимому, у меня ничего не вышло, я увидел, что Русский понял, что со мной; он вошел через качающиеся двери и как только он оказался внутри, я двинулся к выходу, только чтобы размяться, както проснуться, тут он увидел меня, лицо его отразило боль, которую я никогда раньше не видел, будто это была его вина, не моя, а его, как будто то, что я провел всю ночь на ногах являлось его прегрешением, как будто я остался голодным изза него.
Тем ни менее он ничего не сказал и стал смотреть, что твориться на скачках. Ему до смерти хотелось курить, но у меня не было ни сигарет, ни самокруток, и я не знал, что тут поделать. Наконец, он вышел так и не сказав ни слова и вернулся через пол часа, куря самокрутку. Он протянул мне кисет, и я свернул себе сигарету и закурил. Эта сигарета разбудила меня и голод утих на мгновение. Я подумал, что он вышел и стоял попрошайничал, что должно быть было унизительно болезненным для него, но он считал, что должен был это сделать, и я вдруг ужасно разозлился на себя.
Весь день мы говорили о лошадях, каждый знал, что у другого нет денег, и когда все заезды окончились, мы вышли на улицу. Я не знаю, куда пошел русский, но я вернулся в карточный салон и сел там. Поздно вечером один мальчишка, которому я както раньше помог, подсел ко мне за стол и сказал, что ему сегодня немного повезло. Перед тем как уйти, он оставил мне пол–пачки сигарет и четвертак, ничего не сказав, и я смог неплохо поесть и покурил. Сидя в салоне под ярким электрическим светом я умудрился коекак поспать с открытыми глазами, а вернее оцепенеть, и к двум часам ночи я уже не чувствовал себя таким усталым.
Я опять бродил по улицам до девяти утра, а когда вернулся в контору, Русский был уже там, ждал меня, чтоб узнать, что со мной. Видно он тоже не спал, и на его лице была четырехдневная щетина. Он выглядел злым и несчастным, исполненным отвращения к самому себе. Я подал ему пачку и мы закурили.
Около десяти он ни слова не сказав ушел и, когда вернулся через полчаса, я увидел, что его чтото беспокоит. Ему хотелось както вытащить нас из этого дерьма, где мы оказались, у него была какаято мысль, несомненно, но онато его и беспокоила. Я надеялся, что он не думает о попытке чегонибудь украсть, но я мог с уверенностью сказать, что эта мысль, какой бы она не была, не доставляет ему удовольствия. Наконец он подозвал меня, и тогда я в первый раз с начала нашего знакомства понял, что это был человек некогда пользовавшийся огромным уважением, человек с положением. Я увидел это по той вежливой манере, с которой он попросил меня уединится с ним за пределами конторы. Мы вышли на Оперную аллею, и он достал конверт из внутреннего кармана своего пальто. На конверте была французская марка. Он выглядел подавленным, больным, испытывающим отвращение.
«Я хочу поговорить», — сказал он с акцентом. — «Я не знаю, что делать, а это единственное, что у меня есть. Вам решать. Я сделаю все, что смогу, и может быть у нас будет немного денег».
Он сказал это не глядя мне в лицо, и я почувствовал себя нечистым. «Это все, что у меня есть. Эти грязные картинки», — сказал он. — «Грязные французские картинки, черт побери. Если хотите, я попробую продать их по десять центов каждя. У меня их две дюжины».
Я чувствовал отвращение к самому себе и жалость к высокому Русскому. Мы пошли по Оперной аллее в сторону Мишн–стрит. Я не мог придумать, что сказать. В самом деле, я хотел сказать чтото, чтоб дать ему понять, что больше всего мне хотелось, чтоб он сохранил свое достоинство; я хотел, чтобы он не делал ничего против воли, ничего такого, чего бы он точно не сделал, если б не знал, что я на мели, голодный и бездомный. Мы стояли у края тротуара на Мишн–стрит. Я не мог говорить, и должно быть выглядел потерянным, наконец он сказал: «Спасибо, я вам очень благодарен». На углу стояла урна, и я видел как он отвернулся от меня, улыбаясь как сам Христос, такой улыбкой, как его изображают на картинах, и пошел прочь. Когда он поравнялся с урной, он поднял крышку, и я видел, как он бросил конверт внутрь. Потом он пошел быстрее, думая про себя, как мне показалось: «Ну во всяком случае я предложил ему помощь, хотя бы вот такую, и теперь я свободен». Я наблюдал, как он спешит прочь, двигаясь среди неопрятно одетых людей, оставаясь собой, все еще не до конца сломленный.