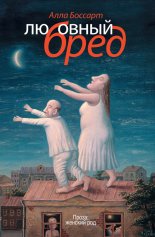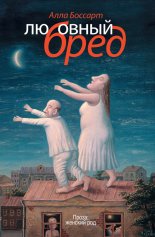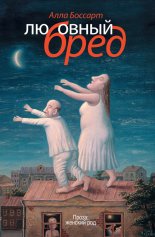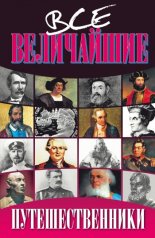Рассказы вагонной подушки Зеленогорский Валерий

Из дверей комнаты Лейтмана выходила пара супругов с тазом для умывания с мыльной пеной и жирными клоками волос парализованной тетки, принявшей водные процедуры.
Лейтманы жались к стене и, виновато смущаясь, тихо ползли через комнату и пугливо, но с любопытством смотрели на праздничный стол. Они боялись толстого Романа, но старуха в задней комнате никого не боялась, лежа неподвижно на своей кровати.
Еще через час старуха навалит полный горшок, и его понесут через праздничную трапезу, в минуту раздачи фасолевого супа, а потом во время торта она начнет выть и отравит людям праздник, в ее комнате, где когда-то она обедала и ела рыбу, сделанную старухиной мамой, ушедшей туда, куда она никак не попадет.
Роман вскоре пропадет, упадет на жернова своей кровавой мельницы: во время осмотра камер в тюрьме НКВД комиссией из Москвы проверяющий спросил в переполненной камере, где люди могли только стоять, о жалобах, какой-то несчастный крикнул, что не дают помыться, и толстый Роман угодливо пошутил: «У нас не каждый колхозник моется» – и тут же был арестован за клевету на колхозный строй и пропал навсегда. Он перестал целовать Каплуна, бабушка Рая не плакала, а ее дочь жалела толстого Романа, но недолго. Вскоре она вышла за его начальника Захарова и стала Захарову настоящей женой, и начала готовить борщ и рубленые котлеты, забыв о фаршированной рыбе.
Воробьи клевали крошки, Старый Каплун задремал, и, когда очнулся, оказался в 21-м году, в рассказе своей мамы, поведавшей десятилетнему сыну, как она училась у Шагала.
Ей было двадцать лет, когда из голодного Петербурга в город приехал Марк Шагал и стал комиссаром по изобразительному искусству.
Она увидела его на улице Дворянской (впоследствии переименованной в улицу Свободы) с группой молодых людей, среди которых она заметила свою подружку Милу, дочку зубного врача Гуревича.
Подруга махнула матери Каплуна, и когда та подошла, горячим шепотом выпалила, что это знаменитый художник из Питера, он рисует летающих евреев и делает сценографии и костюмы к балетам Дягилева.
Теперь он в городе, ему поручили подготовить оформление города к годовщине Октябрьской революции, он еще преподает в художественной школе, и Мила у него учится. Все это Мила сказала второпях и убежала в стайку, окружившую рыжего человека – нелепого и смешного, как и его герои. Только его глаза были грустными, типичные еврейские глаза, видящие то, что другим пока не видно.
Это сверхзрение дано им не от бога, это навык, приобретенный в вековой борьбе за выживание, просто инструмент, как рога у лося, против тигриных зубов и львиных когтей.
Мама хотела познакомиться с этим Шагалом и пошла в его школу писать натюрморты с сухими цветами, пыльными бутылками, аптечными склянками из немецкой аптеки и фруктами из воска.
Он учил странно, ничего не показывал, просто стоял за спиной и говорил коротко, тут добавить, там убрать – и все становилось ясно и получалось, как он хотел.
Они почти три месяца рисовали панно на холстах, где летали матросы и буржуи висели на штыках у солдат, похожих на богатырей. Все это освещало квадратное солнце, а река, разделяющая город, на холстах синела, как Черное море.
За одну ночь все это развешали в людных местах, часть работ ехала на дребезжащих пожарных автомобилях. Город сошел с ума, такого еще никто не видел.
Обыватели стояли толпами и смотрели на все изумленными глазами, кто-то крестился, кто-то плевал, кто-то узнавал на картинках знакомых и соседей. Троцкий оказался похож, как родной брат, на часовщика Фрейдзона, Рыков – на начальника тюрьмы Зверева, а Коллонтай и Лариса Рейснер вместе походили на двух проституток из гостиницы «Губернская» (ныне «Советская»). Где жили сам Шагал, Малевич и другие питерцы, приехавшие подкормиться и поработать на новую власть.
Через год Шагал уехал и больше никогда не был в городе, который всю жизнь рисовал. Мама Старого Каплуна преподавала в художественном техникуме, а потом и в институте. Долго еще ходили темные слухи, что студенты рисовали на работах Шагала и Малевича свои этюды, были люди, которые искали следы этих шедевров, но след их растаял во времени, как дым реактивного самолета в ясный день. Ушло время, от которого не осталось ничего.
Но однажды в 75-м году все могло быть иначе. Старому Каплуну это рассказал наборщик типографии Басс, самый культурный человек из окружения Каплуна.
Шагал уже стал всемирно знаменитым, его работы стоили, как у Пикассо и Модильяни, он расписал Гранд-опера в Париже, витражи в Тель-Авиве знал весь мир.
Художник приехал в Советский Союз на свои персональные выставки – в Третьяковке и в Питере в Русском музее. Министерство культуры танцевало перед Шагалом, ожидая, что он подарит им всю выставку, – хотели на халяву получить букет шедевров.
Маэстро попросил за полгода до выставки сфотографировать его дом в городе его детства. Простенькая просьба великого маэстро оказалась огромной проблемой. Министерство поручило агентству ТАСС, те передали своим в Минск, минские поручили своему корреспонденту на месте, тот поленился и попросил местного фотографа снять дом Шагала.
Фотограф выпил в день съемки, прошел пару остановок от редакции и снял дом, который, по его мнению, подходил великому мастеру, снимки отослал, скромный гонорар пропил.
Когда Шагал получил фотографии, он увидел чужой дом и все понял – его дома на Покровской, ныне Дзержинского, уже нет, и не приехал в город, который был для него музой.
Обиделся мастер на свою историческую родину, не понимал он, слишком долго прожил на Западе – так Старый Каплун подвел итог этой истории, рассказанной ему наборщиком Бассом за пивной стойкой в летнем садике им. Фрунзе.
Тогда еще многие были живы, а теперь только Каплун и воробьи сторожат память о тех временах.
Он опять задремал и увидел маму. В белом платье, с лакированной сумкой с фотографии на набережной Ялты, где она была один раз по профсоюзной путевке.
Старый Каплун вспомнил свою маму, как он любил ее, никто не знает, он любил ее за двоих.
За папу, которого зарезали бандиты в поезде через год после явления Каплуна в этот мир. Кому помешал маленький фотограф, никто не знал, его золотые карманные часы стали причиной, эти часы отсчитывали время папиной семьи двести лет, передавались по мужской линии и остановились в тамбуре товарного поезда Орша – Барановичи в далеком 22-м году отмененного коммунистами Рождества Христова.
Никогда в жизни Старый Каплун не носил часы, не мог, только кусочек цепочки от них достался ему на память – застрял в брюках отца, когда его убийцы оторвали часы, забрызганные его кровью.
Десять сантиметров золотой цепочки с пятнышком отцовской крови и крохотная фотография мальчика-гимназиста – вот и все, что связывает Каплуна с папой, которого он не знал.
Он опять задремал, предварительно шуганув ворон, которые совсем обнаглели. Бедные воробьи, его единственные друзья, дрожали на ветках, грустно наблюдая, как наглые вороны поедают их горький хлеб отчаяния, но их защитник Старый Каплун восстановил статус-кво, вороны улетели, и все встало на свои места.
Вороны-захватчики полетели на помойку в детский сад, там начинался обед, и там же начиналась битва за помои, которые выносила нянька после трапезы детей, благодарных родине за счастливое детство.
Воробьям там делать было нечего – отходы счастливого детства делили в неравной борьбе кошки, собаки и вороны. Воробьи знали свое место, оно было у ног Старого Каплуна. Он тоже не любил помоев, хоть крошки, но всегда свои.
Он поднял глаза на дерево, под которым сидел. Причина посмотреть вверх была уважительной: на его правом валенке сияла лепешка, подарок от птички, не успевшей улететь. Старый Каплун не удивился: ему срали на голову птицы и покрупнее, всю жизнь ему срут на голову в этой стране, даже одного глаза хватало, чтобы увидеть это.
Сколько Каплун себя помнил, так было всегда, не было дня за все его девяносто лет, чтобы он этого не почувствовал. Он всегда был в напряжении, в школе и потом в кинотехникуме, он знал, что каждый день его ждет испытание.
Маленький заморыш не мог противостоять остальному миру, он бы и не выходил из дома, где бабушка и мама защищали его, но под юбкой не просидишь, как говорила ему баба Циля, надо действовать. Она знала, что говорила – старая Циля, без мужа вырастила маму, трудилась, зачеркнув свою личную жизнь. Циля твердо говорила Каплуну: «Надо терпеть, ты скоро останешься один, и ты должен быть сильным и жить долго». И он выполнил ее волю и стал сильным, и живет долго, только не знает зачем.
Он хотел снимать кино, как Эйзенштейн, обожал движущиеся картинки. Хотел снять кино про папу, рассказать миру, как он любил папу и как ему его не хватало.
Всего один год счастья в 37-м был у него, один год он учился в Ленинграде на кинооператора, а потом его забрали в армию на войну с финнами, и там ему выбили глаз и убили мечту снимать кино – оператор с одним глазом ничего не снимет.
Всю жизнь он делал все не так, как ему хотелось. После мамы и бабушки он никого не любил, первая женщина – горбатая санитарка – любви не вызвала.
После войны он женился на Доре, единственной жене, которой нет уже пятнадцать лет. Дети хорошие, но когда ему было их любить, если он сутками был на работе. Нет – они хорошие, и внуки хорошие, но остались только воробьи и воспоминания.
Ему никогда не снилась Дора – мать его детей, сорок лет они прожили вместе, она была тихой еврейской женой, незаметной и несварливой, она жила с ним по закону и традиции, никогда не спорила, но жара от нее не было, может быть, этого жара у нее от природы не было.
Есть люди, способные любить, а тот, кто не может, живет по совести и по закону. У всех свой удел. Старый Каплун тоже живет по закону и по совести, но иногда жалеет, что не было шанса пожить в огне и пеплом разлететься после огненной страсти в небе ясном…
Дора тихо ушла, не побеспокоила его жалобами и болезнями, но не снится она Старому Каплуну. На кладбище к ней он тоже не ходит, дети ходят, а он нет, не знает, что сказать камню, под которым она лежит. Каплун и в жизни нечасто говорил с ней, так что уж теперь скажешь. Он помнил лишь одно: когда они только начали жить вместе, он забыл, что не один, вынул на ночь свой глаз и положил его у лампы, на столик возле кровати. Жена упала в обморок. Вот и все, что осталось в памяти о женщине за сорок лет плена, в котором Каплун находился.
Не нашлось для него женщины, которая, как Моисей, вывела бы его на свою землю. Он до сих пор в плену.
У каждого человека свой плен, у каждого свой Египет, и не только фараон держит человека в плену, сладостный плен тоже бывает, плен добровольный – тем более…
Всю жизнь Старый Каплун стоял в молочном магазине. Там у него был порядок, и Каплун пользовался уважением от людей и начальства.
От холода у него заболели ноги, там же из-за нервов он заработал диабет и больное сердце. Денег не заработал, до смерти боялся тюрьмы, помнил толстого Романа и его жуткие рассказы о том, как там живут люди.
Старый Каплун не любил власть, хотя слышал от бабушки, что вся власть от бога. Это он слышал от нее, самой авторитетной для него носительницы житейской мудрости. Какую власть имела в виду бабушка, он не знал, но подозревал, что она имела в виду всякую власть, а она их повидала немало – в раннем детстве жила у тетки в Германии, потом с родителями в Польше, при царском режиме, а умерла при большевиках.
Власть для нее всегда была огромной силой. Бабушка знала, что ничего хорошего от нее ждать нечего и близко к ней подходить не надо, да и судьба толстого Романа была наглядным примером: он прильнул к большевистской власти, надеясь на взаимность, и она ответила на его любовь так жестоко, как может подлый соблазнитель растоптать безгрешную девушку.
Толстый Роман не был безгрешной девушкой, он даже не был безгрешным мальчиком, но убивать человека за неосторожное слово, даже не самого хорошего человека, тоже не обязательно.
Власть рядом не была страшной для Старого Каплуна. Секретарь горкома Михельсон, толстый мужчина с животом, висящим через ремень, однажды заходил к нему в магазин и хвалил его за порядок, пожал своей пухлой рукой его морщинистую лапку и сказал ему: «Спасибо, товарищ!»
Потом, когда были трудности с продовольствием в хрущевские времена, тот же Михельсон горячо выступал, просил народ затянуть пояса и поправлял свой ремень, опоясывающий его неохватное пузо. Люди видели это, поглаживали свои тощие животы и понимали: придется затянуть, никуда не денешься.
Другим примером власти был Перцов, до сих пор валяющийся у винного, как все последние десять лет.
Старый Каплун наблюдал за Перцовым почти сорок лет, он жил в их дворе, учился с его сыном в школе, пошел по комсомольской линии, потом стал председателем райисполкома, пересел на черную «Волгу» и стал смотреть мимо людей.
Столько рабского внимания он получил сразу, что сошел с ума; его везде приглашали и наливали, а он пил и не отказывался, а потом упал на пленуме горкома прямо в президиуме.
Дело тогда замяли, вынесли Перцова из зала, как больного, но с должности поперли, перевели руководить райпищторгом.
Там Перцов совсем спился и теперь спит в пыльных кустах возле винного, власть в кустах валяться не может, ее всегда подберет более трезвый, не дело власти валяться, она тогда совсем не страшна, а какая она власть, если она не пугает, не внушает уважения…
Старый Каплун опять задремал.
Кто-то дергал его за рукав. Старый Каплун открыл глаза. Перед ним стояли сын и внук – значит, пришло время обеда; они взяли его и вместе со стулом понесли домой. За столом он слушал их басни про эту жизнь, на обочине которой он уже лежит, как улитка на склоне у писателей Стругацких.
Внук, когда был мальчиком, читал ему, Каплуну, книгу, и он помнит про улитку на склоне, но не признает этих братьев с выдуманной фамилией, если ты Рабинович, так будь им, не хера предавать род, давший тебе жизнь.
Всегда есть довод поменять фамилию, для успеха или ради карьеры, но Старый Каплун этого не одобрял, за это голову тогда не рубили, вот и не надо менять свое имя.
В его семье тоже было такое дело.
Когда его сын надумал жениться на русской девочке, они с Дорой спорить не стали, решили не мешать ему, чтобы он не сказал им потом, мол, вы влезли и мне помешали.
Они не помешали, но Старый Каплун всегда считал, что смешивать сметану и молоко не надо. Он сам никогда не разводил сметану молоком, хорошо понимая, что сметана перестает быть сметаной – так и люди, если их смешать, то хуже всем, разные продукты в общем котле меняют вкус и цвет, получается другой продукт. Так и случилось.
В день свадьбы Дора потеряла сознание, ее отвезли домой, и свадьбу доиграли до финала.
Ее плодом стала внучка, которую Дора полюбила со всей силой недолюбленной женщины. У нее самой не было девочки, и она вгрызлась во внучку с неистовостью сумасшедшей бабушки.
Когда внучке пришлось идти в музыкальную школу, другая бабушка титульной нации решила поменять девочке фамилию, якобы для ее же блага.
Когда Дора повела свое чудо на первый урок и увидела в расписании свою внучку под другой фамилией, она упала без сознания еще раз и потом уже болела постоянно и скоро умерла.
Сын тогда твердости не проявил, от родителей скрыл, и скоро его брак скис, сметана закончилась, на дне ничего не осталось, кувшин раскололся, черепки брака никто не собирал.
Внучка давно живет в какой-то Австралии. Старый Каплун не сразу находил на карте далекий материк. Неужели уроки музыки важнее живой бабушки? Пианино давно стоит мертвым памятником Доре, на нем никто не играет, да и как играть на памятнике, раздавившем своей тяжестью целую жизнь Доры.
Перцов, когда был начальником Каплуна, тоже намекал, что в фамилии Каплун есть неудобная буква, если вместо «У» поставить «И», то Перцов сможет рекомендовать Каплуна в КПСС, и тогда он сделается начальником. Но Каплун не дрогнул. Папа, убитый бандитами, был бы убит еще раз, какая должность стоит памяти папы, которого он никогда не видел.
Толстый Роман для лучшей жизни взял и поменял фамилию на Протасов, а умер как Фейгельсон, и даже Достоевский ему не помог, и фамилия его героя не защитила, и своя не спасла, попранная и забытая.
Фантазии братьев-писателей в сравнении со своей жизнью Каплун считал арифметикой, высшей алгеброй они не владели. Зачем переселять людей в другой мир, чтобы сказать, как плохо в настоящем?
Все книги, которые читал старый Каплун, а их было не так много, не отвечали на его вопросы. Он даже ходил один раз на урок талмуда, который проводил один молодой человек в семидесятые годы. Тогда многие учили иврит и пытались читать Тору, чтобы понять, кто они есть.
Старый Каплун ничего не учил, но тот урок Торы запомнил. Пришел он тогда к своему товарищу, который уезжал в Израиль, попрощаться навсегда.
В доме уже было пусто, стояли огромные ящики с барахлом, которое везли за три моря, цена этому старью была три копейки, но за него держались, надеясь, что оно не даст утонуть при кораблекрушении на новом месте.
В дом к товарищу знакомые не ходили, боялись запятнать себя контактами с предателями Родины.
Уезжающие евреи все понимали, ждали выезда и учили иврит, а тот молодой человек в тюбетейке приехал из Питера к сыну товарища и увлеченно рассказывал о земле обетованной, где сам ни разу не был.
Он привез письма счастья, которые все тогда читали, о жизни там, о том, что там дают стиральные машины и телевизоры, что можно купить на пособие, а также разные полезные советы уезжающим на историческую Родину.
Старый Каплун писем не читал, он знал, что никуда не поедет, нет покоя нигде, нет рая и ада, наверное, он где-то есть, но никто еще оттуда не возвращался, и верить Каплун мог только своим глазам, а его единственный глаз ничего подобного не видел.
В комнате на поломанных табуретках сидели товарищ с сыном и молодой человек. С огнем в глазах он читал им главу из Торы о том, как исполнить мицву (заповедь): «О четырех растениях в самый радостный для евреев праздник Суккот. В эти дни евреи живут семь дней в шалаше, построенном из свежих ветвей, они переходят из своих домов и квартир в суккот (шалаш) и празднуют и веселятся. Особую важность для праздника имеет заповедь четырех растений».
Мальчик читал, что Тора предписывает взять нераспустившийся побег финиковой пальмы, цитрусовый плод этрог, похожий на лимон, веточку пахучей мирты и ветви скромной ивы, связать их в пучок и произнести особую молитву, смысл ее следующий.
Этрог. Как этрог сочетает приятный вкус и чудесный аромат, так и среди народа Израиля есть люди, глубоко изучившие Тору и выполняющие все заповеди. (Вкус здесь символизирует наслаждение и удовольствие от изучения Торы.)
Лулав. Как финики имеют приятный вкус, но лишены запаха, так и в народе Израиля можно найти тех, кто изучает Тору, не совершая при этом добрых дел, в то время как изучение Торы должно вести к соблюдению заповедей.
Хадассим. Как мирт обладает чудесным ароматом, но не вкусом, так и среди народа Израиля есть такие, кто ведет добропорядочную жизнь, но не учит Тору.
Так три этих редких растения и простенькая речная ива описывают весь народ Израиля, и они в оном пучке смогут построить второй храм и дождаться прихода Мошиаха.
Старый Каплун слушал мальчика внимательно, это он слышал во второй раз. Когда ему было десять лет, они с Фрейдзоном и Звонкиным были в детском лагере и жили в палатках. Однажды мальчики ушли в лес и построили шалаш. И тогда Фрейдзон, дед которого был раввином, рассказал им про праздник Суккот. Они славно повеселились, купались целый день, Каплун нахлебался воды, и все смеялись. Он тогда узнал, что это праздник черпания воды, а вода – источник сил. Так сказал маленький Фрейдзон, маленький мудрец. Уже нет Фрейдзона, Звонкин живет в Тулузе с внуками, детьми и математикой, которая поселилась в его голове с малых лет и не отпускает до сих пор.
Старый Каплун вспомнил этот урок Торы в далеком 75-м, когда его друг Флом покинул его и родину и пропал, как умер на просторах пустыни Негев. Нет, друг жив, но Каплун его не видел с тех пор, а значит, его нет. Те два письма, полученные тридцать пять лет назад, не в счет. Правильно говорил «усатый», нет человека – нет проблемы. Он устранил много проблем, но и сам оказался проблемой и остается ею до сих пор, хватая своей железной рукой из гроба сегодняшнее время.
За обедом внук Марик поведал, как сегодня водил в музей Шагала своих американцев, которые приехали строить бизнес. Бизнес они, конечно, не построят, как можно построить капитализм в первобытно-общинном строе, где рынок–это барахолка, где одни граждане продают турецкие тряпки, а другие только смотрят или тоже продают свои старые? Покупателей нет, где бизнес, где бульон, как в старом анекдоте про еврея, продающего и покупающего яйца.
Каплун опять вспомнил про Шагала. Музей, в который внук водил американцев, не видел ни одной настоящей работы маэстро – только копии, подаренные когда-то Надеждой Леже, женой поклонника коммунистов Фернана Леже, друга СССР.
Каплун вспомнил своего Марика, маляра, который всю жизнь махал кистью по колхозам и зарабатывал этим на хлеб.
Марик как раз жил в доме, который ленивый фотограф снял для Шагала. Этот старый красный дом стоял в глубине двора. Дом Шагала стоял прямо у дороги и сгорел от прямого попадания бомбы. Никто не знал этого, а маляр Марик знал, но помалкивал до поры до времени.
В восьмидесятые годы в дом к нему зачастили аспиранты из Польши и ГДР и спрашивали про Шагала. Марик плел им всякую лабуду, аспиранты не удивлялись и только успевали записывать эту абракадабру. Марик считал себя тоже художником.
Аспиранты поили его, давали ему мелкие деньги. Иногда он рассказывал факты из парижской жизни художника о ом, как он пил с Модильяни и Синьяком. Это маляру рассказывали другие аспиранты, и он уже считал эти истории своими. Он даже верил, что был в Париже, хотя на самом деле он даже в Минске не был, что делать маляру в Минске, зачем ему Минск, что он там забыл.
Тайный замысел маляра знал только Старый Каплун. Марик хотел, чтобы их дом взяли под музей, а всем им дали квартиры с теплой водой и центральным отоплением. Маляр еще хотел пол с паркетом.
Марик видел такую квартиру у профессора Линшица, когда белил ему стены.
Бездомный человек не может считаться евреем – так сказано в Талмуде. Марик хотел свой дом, в коммунальной квартире он чувствовал себя бездомным.
После обеда потомки Старого Каплуна опять вынесли его во двор, и он снова стал сторожить время. В кармане его лежали новые крошки для его воробьев, еще он взял немного крупы, чтобы побаловать своих слушателей, наполняющих его эфир смыслом.
Они прилетели к ногам старого Каплуна, и он стал кормить их, как отец. Они благодарно чирикали, соблюдая приличия. Один очень смелый даже сел ему на плечо, и картинка стала почти библейской.
Утром солнца во дворе не было, а после обеда оно на час заходило во двор, и тогда наступало лучшее время для Старого Каплуна, самые теплые мысли посещали его в этот час. На этот раз он вспомнил одну девочку из кинотехникума в Ленинграде в благословенном для него 37-м году.
Каплун учился на первом курсе, ему было 16 лет, и он желал кого-нибудь полюбить, просто так, не на всю жизнь. Молодое тело желало любви, и Каплун тогда не сопротивлялся своим желаниям – это случилось потом, когда он понял, что ему ничего не положено из хорошего, ему положено одно говно. Но тогда все было по-иному…
Он жил тогда в общежитии на Обводном, и они поехали на залив с палатками на выходные. Компания была маленькая, он с Лерманом и Кочерыжкин да две девочки, которых захватили усилиями и талантом Кочерыжкина, известного на курсе сердцееда.
Тот знал подход к женскому полу, а Каплун с Лерманом знали только, что так бывает в теории. Они недавно прочитали «Пышку» Мопассана и подготовились основательно.
Палаток было две, и девушек было двое, одна точно доставалась Кочерыжкину, а вот за вторую Каплун желал побороться с Лерманом, худым и в очках с толстыми стеклами, как в керосиновой лампе.
Весь день они купались и загорали, потом играли в города и волейбол, Каплун в подвижных играх мастаком не был, но в городах и кроссвордах был чемпионом.
Тут Лерману ловить было нечего, а мяч с такими очками он и так не ловил, сидел под кустом и терял очки в борьбе за девушку, он даже нырнул рыбкой с вышки и потерял очки, а девушка нырнула и нашла.
Без очков Лерман проиграл бы Каплуну, но очки нашлись, и схватка продолжалась – так казалось тогда погрязшему в гордыне Каплуну.
После ужина все сидели у костра, и Лерман стал побеждать, он начал читать стихи. Нужно было переломить ситуацию, Каплун стал ломать сучья для костра и разрушил атмосферу.
Он ломал сучья, как витязь, ломал их для общего тепла и все бросал и бросал сучья в костер, распаляя девушку природным жаром. Она сбросила с себя свитер Лермана и села рядом с Каплуном. И тогда он запел. Он знал от мамы много русских романсов. Мама пела их иногда вечерами, подыгрывая себе на гитаре с алым бантом по моде угара НЭПа. Каплун запомнил многие и пел без гитары, он не умел, но пел неплохо, девушка уже склонила голову на его плечо, и он даже подумал, что он в дамках.
Но под утро он, надеясь пересидеть Лермана, стал бросать в костер свежие ветки. Повалил дым. Каплуну показалось, что так он выкурит Лермана, но все случилось наоборот.
Девушка сбросила его куртку, взяла Лермана твердой рукой и увела его в палатку. Каплун проиграл недооцененному противнику. Он потом все утро маялся у костра и не понимал, как же он проиграл нелепому Лерману, где он совершил ошибку. Но все оказалось проще.
Лерман попал в дамки, а он оказался пешкой в руках судьбы.
Просто девушке понравился Лерман, тихий очкарик, которого Каплун не взял в расчет. Он долго думал об этом, а потом понял, что не все усилия твои вознаграждаются, чаще всего они тщетны, можно было вообще ничего не делать, твое будет тебе, а чужое – никогда.
После войны ему рассказали, что они поженились, к старости Лерман ослеп и у него отказали ноги. И эта девушка носила его на четвертый этаж, одна до самой смерти, а Старого Каплуна носят дети и внуки, и он, слава богу, еще не ослеп и даже неплохо слышит.
Он слышит так хорошо, что даже трамвай, который стоит на круге, слышен Старому Каплуну, слышен скрежет всех колес, искрящих при выезде на маршрут.
Его трамвай уже уехал, уехал с мальчиком, прильнувшим носом к стеклу, за которым прошла жизнь. Он еще помнит того мальчика с носом, прилипшим к окну, но трамвая уже не видит за поворотами судьбы.
Лермана нет, а Каплун сидит под душащим белой ватой тополем, тень от него спасает от зноя, но пух лезет в глаза и беззубый рот – так всегда, баланс во всем, получишь как бы свое, а потом заплатишь втрое. Но потом, когда от радости нет уже следа, так было всегда в его жизни. Так будет, когда его не будет, лишь бы не было войны.
«Ни сыновья, ни внук не переживут того, что мне досталось, – горько подумал Старый Каплун. – Как надоели этот Буш, Хусейн и все прочие, империи, супердержавы, почему им нет покоя, ведь так просто раз и навсегда договориться, но они не хотят, все никак не поделят мир, а разве важно, кто главный, вот я прожил жизнь и никогда не был главным, да и не хотел я быть главным».
Его однажды хотели сделать главным заведующим двумя магазинами, так он даже заболел. Второй магазин был на железной дороге, там всегда было грязно от паровозов – ну и как можно продавать молочные продукты в пыли и грязи? Каплун отказался тогда и не жалел никогда, а им мало одной страны, весь мир должен быть у них в кармане, чтоб они сдохли со своими амбициями.
Вчера вечером старый Каплун одним глазом смотрел телевизор. Там евреи решали русские вопросы, они с жаром давали русским советы, как обустроить Святую Русь. Самыми рьяными и неистовыми были трое: писатель, обозреватель и особенно один многостаночник-писатель-телеведущий, борец против буржуев, но не против всех, а только против тех, кого власть не любит.
Писатель с лицом настоящего инквизитора знал ответы на все вопросы, говорил нудно и долго, его перебить было невозможно. Он каждый день выступал по всем каналам и радиостанциям, и было непонятно, когда он пишет свои многотомные творения.
Вторым был обозреватель, он профессионально рвал жилы за Россию, клял Америку и другие страны – особенно ему не нравился Израиль.
Обозреватель, как плохой Нострадамус, уже двадцать лет предрекает смерть Америке, смерть доллару, но сам их получает и складывает в американском банке. Обозреватель очень гибкий, если вечером он с жаром стоял за повышение налога, а утром в Кремле резко поменялся курс, так обозреватель с таким же жаром отстаивал точку зрения, противоположную вчерашней. Когда его тыкали мордой в его колебания вместе с линией правящей партии, он зверел, плевался и с пеной у рта клеймил оппонентов как врагов России. Сам он считал себя главным хранителем Империи, особенно любил военных, сам был ястребом и империалистом, хотя в армии не служил и в жизни был мелкой пичужкой, клюющей крошки с чужой руки.
Третий в еврейской троице был самым неистовым, мнение о себе имел значительное, а как же, у него было свое евангелие от самого себя, он даже написал свой Апокалипсис, его откровения о мире, о себе, о Вселенной.
Какое ваше собачье дело до русских проблем, русские сами разберутся, куда им идти и что делать…
Эту лекцию о международном положении Каплун прочитал воробьям. Они клевали тихо, понимая остроту момента.
День заканчивался, по двору начали шастать люди, возвращающиеся с работы, и тут у Старого Каплуна испортилось настроение. Он увидел Шакалова. Крепкого старика с лысой, как колено, башкой, который резво трусил в молочный, где много лет царил Старый Каплун. Шакалов шел за простоквашей.
Шакалова он ненавидел как личного врага, все знали, что в войну он был полицаем, были люди, которые помнили, как он топил лодки с евреями, переплывающими реку, направляясь в гетто. После войны его судили, он отсидел свои двадцать пять, не сдох и вернулся в город, где творил свои подлые дела.
Он ходил по улицам, где жили потомки его жертв, глаз не прятал, бегал трусцой, пил простоквашу и очень заботился о своем здоровье, видимо, желал дождаться новой оккупации и довести свое дело до конца.
Каплун не мог его видеть, его наглую рожу, его свинячьи глазки, поросшие рыжими волосиками руки, которыми он ловко бросал детей и старух из лодок в холодную реку. Пуль ему, как хозяину, было жалко, детей он бросал, а старух добивал веслами. Пули берег для мужчин. Немцы удивлялись жестокости своих помощников. Шакалов был из них самым лучшим и старательным.
Когда Старый Каплун был помоложе, он желал убить Шакалова, просто ударить его гирей по голове, когда он придет за простоквашей, или насыпать мышиного яду.
Старого Каплуна останавливало одно: у Шакалова был внук, и Каплун не хотел, чтобы мальчик попал в детский дом: родители мальчика бросили, не могли жить рядом с папой-душегубом, сами уехали, а мальчика оставили дедушке, и тот его воспитывал.
Особенно горько было смотреть на Шакалова в День Победы. Он никогда не прятался в этот день, надевал костюм и стоял в пивной в парке и слушал рассказы фронтовиков. С ним никто не пил, но он не грустил, выпьет и пойдет домой.
Каждый день он ходил рвать траву для кроликов, он держал кроликов много лет, диетическое мясо ему было необходимо для длинной жизни, да и держать кого-то в клетке ему нравилось. Это был его личный концлагерь, Шакалов не хотел терять квалификацию.
На работе до пенсии Шакалов был на хорошем счету, он руководил складом, у него украсть было невозможно, его ценили и даже дали медаль «Ветеран труда». Он ее носил, пионеры отдавали ему честь как ветерану, и он даже имел льготы, как ветеран, и не платил за телефон.
Мальчика, внука полицая, звали во дворе Шкурой. В играх детей в войну он всегда был фашистом. С фашистами проблем тогда не было, в их дворе еще жили дети, мамы их родили от немцев, и эти дети тоже всегда были фашистами в играх. В жизни их, совсем несладкой, своими никто не считал, они несли свой немецкий крест, а уж потом, в перестройку, они легко уехали в Германию, и им даже завидовали те, кто раньше ненавидел.
Встреча с врагом омрачила светлый вечер. Враг своими ногами прошел мимо Каплуна, а Старый Каплун, прикованный к стулу, сидит сиднем.
Ноги Каплуна уже не ходят, он уже никогда не дотянется до глотки врага и уже не сомкнет руки на его бычьей шее. Годы не берут эту тварь, видимо, кровь убитых младенцев до сих пор гоняет его сердце-насос, он живет их жизнью, питает себя убитыми душами и коптит свет, а их уже нет, и детей у них никогда не будет, и внуков не будет.
Скоро и Каплуна не будет, а он – последний враг Шакалова. Когда Каплун умрет, никто уже не будет укором этому Шакалову. Старый Каплун уже стал замечать, что Шакалов расправляет спину, может быть, он скоро станет героем и как борец с большевиками получит медаль, и ему даже поставят памятник, и новые дети будут туда, на его могилу, носить цветы.
«Мир сошел с ума», – так думал Старый Каплун, провожая слезящимися глазами ветерана оккупационного режима, любителя кроликов, простокваши и долгих прогулок для обогащения легких чистым кислородом.
Каплун видел по телевизору таких старичков в Германии и Аргентине, они выжили и неплохо себя чувствуют, такие чистенькие и благостные. Старый Каплун видит своим одним глазом, затянутым катарактой, пятна крови на их рожах. Они проступают на их пиджачках и теннисках, и ее не смыть ни временем, ни химчисткой, ни признанием грехов, ни покаянием.
Но баланс есть баланс, и к старому Каплуну спешил Яша, старый товарищ на все времена.
Яша был буржуем, пенсионером со своей израильской пенсией и неплохим доходом на его душу, который он копил всю сознательную жизнь.
Яша был другом сына старого Каплуна, но стал и ему товарищем, а с годами они с сыном разошлись по жизни и по взглядам.
Яша в школе учился неплохо, но всегда работал, в детстве торговал марками, вечерами дежурил у магазина «Филателист» и караулил лохов.
Потом начал торговать наградами и знаками, помогал дяде маляру делать ремонт, месил раствор, разводил белила, был на подхвате, но копейку домой приносил. Мама-почтальон и сестра-подросток считали его настоящим мужчиной. Папы у них не было, он пропал сразу после Яшиного рождения, но отец пропавшего папы его любил, а дядя взял учиться на маляра.
Изнеженный сын Старого Каплуна дружил с Яшей на ниве марок. Они оба собирали марки колоний, самые яркие, самые дорогие, но в остальном их ничего не связывало. Сын Каплуна был старательным учеником и домашним мальчиком, а Яша – добытчик, бизнесмен, пил и курил, в пятнадцать лет узнал основной инстинкт с одним штукатуром-женщиной, принявшей Яшу в свои объятия и не пожалевшей об этом.
Яша всегда любил деньги и женщин, и даже когда женился на дочке председателя колхоза – Героя Социалистического Труда. Став зятем значительного человека, Яша поступил в институт – ветеринарный по профилю тестя – и готовился крутить коровам хвосты, но долго учиться ему стало скучно, и он вернулся к малярному делу и стал бригадиром в команде, делающей ремонт и покраску коровников в районах области.
Яша ездил по деревням, искал объекты, все организовывал и получал львиную долю прибыли, как настоящий капиталист.
Пока его работники белили и красили, он под деревом в холодке читал собрания сочинений русской и зарубежной классики, читал подряд, от предисловия до последних томов, с письмами и примечаниями, изучал Тору, сам, пытался понять, кто он и откуда.
Старый Каплун любил Яшу за ум, твердость и цельность и за то, что он с юности носил в открытую могендовид на распахнутой шее.
Даже в армии, где он служил три года, он носил звезду Давида. Когда замполит и особист пытали его, он сказал, что знает про права человека, генеральный секретарь Брежнев подписал в Хельсинки Акт по правам человека, и он звезду не снимет. От него отстали, но попросили не выпячивать звезду и говорить, что это знак зодиака.
Старый Каплун всегда удивлялся этому Яше. Однажды тот принес желтые стекляшки и прочел ему лекцию, как распознавать бриллианты. Старик никогда не видел бриллиантов и не понимал ничего про огранку и чистоту, но Яша ему все объяснил, он многое мог объяснить, этот Яша.
Он понимал механизм общественной жизни лучше профессора Мельмана и писателя Фазанова, самых известных представителей местной интеллигенции (один учил молодежь философии и критике религии, другой писал книги про партизан и выдуманные подвиги пионеров-героев).
После Олимпиады 1980 года Яша начал собираться на историческую родину, все продал, перевез свои камешки на Запад и уехал, и там не пропал, а уже после 91-го года первым вернулся в город детства и начал строить капитализм.
Яша знал всех, все знали его, он легко и за маленькие деньги коррумпировал своих бывших соотечественников и преуспевал. Иногда он заходил к Каплунам, одаривал всех и долго обсуждал со Старым Каплуном текущий момент, ценил его аналитические способности, полученные не в университете, а в жизни, где жить приходилось, как на минном поле, а живой сапер не ошибается. Старый Каплун пока еще жив, и бог знает, когда за ним придут, но он не торопился, хотел посмотреть, как женится правнук, и просто посмотреть, куда катится мир…
Яша ушел.
Старый Каплун увидел, как Паша-Мера и Бунечка завернули в сквер, куда он тоже ходил, пока его носили ноги. Он знал этих старух еще девочками, их папа собирал мусор и был настоящим мудрецом. Они часто разговаривали с Каплуном во дворе на лавочке, когда с нее сходили досужие бабки, и много говорили о жизни, о евреях – тема была бесконечной. Они играли с ним в старую еврейскую игру: находили евреев, которые жили под русскими фамилиями, раскрывали их и вносили в список евреев, которыми можно гордиться. Часто они записывали в евреи людей, которые никогда ими не были, но список рос, и игра была увлекательной. Какой смысл был в записывании чужих людей в свои списки, ведь своих было немало? Видимо, они попадали в список для уверенности, что их больше, чем в переписи, они были вместо утраченных и убитых. Народ должен восстановить свое число, если их будет меньше, то он (Мошиах) не придет, и второй храм не будет построен.
Старухи завернули за угол и исчезли за домом, но Старый Каплун их видел, он видел их много лет, его перископ видел происходящее внизу и вверху, на суше и на море, в прошлом и в будущем.
Старухи каждый день сидят на лавочке в скверике у кинотеатра «Мир» и едят эскимо на палочке.
Они сидят на лавочке, потому что они уже старые и больные, с раздувшимися от отеков ногами. Они плохо видят из-за катаракты, у них диабет, и им нельзя мороженое, но они его любят, это их единственная радость, и они ее делят на двоих, одно эскимо на двоих.
У них с детства все на двоих: одни валенки, одна каракулевая шуба, одна квартира от папы, который всю жизнь собирал по дворам тряпки и прочий хлам, а за это давал людям китайские термосы, ткань на шторы и краску.
Папу они любили за двоих, мама умерла при родах, и он вырастил их сам с горбатой теткой, жившей в их доме на правах бедной родственницы до самой смерти. В день, когда тетка умирала, она все пыталась встать, помыть посуду и поменять скатерть на обеденном столе.
Так и упала, нагнувшись к ящику огромного буфета из дома прокурора. Этот буфет прокурор выбросил в 62-м году, прикупив «Хельгу», мечту всех советских людей.
Папа Буни и Паши-Меры буфет подобрал и привез на своей лошадке к ним домой, и с тех пор буфет стоит там на вечной стоянке. В нем лежит все, что у них есть, все добро и все несчастье: старые альбомы с обложками из ткани с цветочками из ниток мулине, старые платья, папины медали и грамоты от райпотребсоюза за успехи в соцсоревновании.
Есть там и шкатулка с хохломской тройкой на крышке, в которой лежат одни серьги, одно колечко, один кулончик с их общей фотографией под замочком с секретом и потрескавшаяся от времени маленькая фотография мамы в Гурзуфе на спартакиаде народов СССР по волейболу – там мама в белых трусах и футболке с надписью «Белоруссия».
После смерти двух лошадок папа сам устал от мусора в жизни, выпил две ежевечерние стопки, захрапел и не проснулся.
Девочки уже были взрослыми, он был им хорошим отцом, но мужем он быть не мог никак, и он посчитал, что уже хватит, и умер, чтоб не видеть, как какая-нибудь сволочь будет мучить его девочек на его глазах.
Так и случилось, папа умер, и в дом привели Наума, курчавого господинчика из пригородного колхоза, где он работал ветеринаром по осеменению дойного стада.
Он был сиротой и сам выучился на конского врача, на человеческого ему не хватило полбалла и пары тысяч рублей.
Деньги оказались у грузина, которого приняли. Этих денег не хватило бы ему в Кутаиси даже на зубного техника, а в мединститут он поступил вместо Наума. Наум со своими баллами стал студентом ветинститута с хорошим общежитием и столовой с продуктами со своего подсобного хозяйства.
Наума привела папина сестра Леля, чтобы он пожил у них в квартире во время командировки, связанной со специализацией по осеменению. Он пожил и остался в комнате у Паши-Меры законным мужем. Круглая Паша-Мера была теплее тощей, как дрын, Бунечки. И так они прожили всего пять лет.
Через пять лет Паша-Мера поехала на годичные курсы усовершенствования учителей в Минск. Она желала преподавать новый предмет – обществоведение – и приезжала только на праздники (ноябрьские, Первое мая и Новый год).
Вот тогда-то Наум стал ночью приходить к Бунечке, потому что он мерз один, видимо. Его родители зачали в южном городе, и он категорически не мог спать один. Наум прилег к Бунечке и молча целый год спал с ней, и она молчала, стыдясь своей слабости.
Потом приехала Паша-Мера, и все стало на свои места, Бунечка молчала и молчит до сих пор, Наум овладел новыми методами осеменения, но так и не сумел осеменить двух сестер и загрустил.
И в это время его грусть растаяла на груди у Сони Берсон, вдовы маляра Симановича, лучшего специалиста по потолкам, накату по трафаретам в виде листочков и геометрических фигур собственного изготовления и безупречным филенкам, которые он подсмотрел в Зимнем дворце, когда поступал в кинотехникум в 40-м году.
Соня Берсон забрала Наума на свою никелированную кровать, и там он сделал ей двух девочек. Когда они пробегали по скверу возле кинотеатра «Мир», Паша-Мера и Бунечка замирали, их сердца сжимались, но они это не обсуждали.
Потом Наум умер от рака горла, в последние дни Соня Берсон оказалась ему полезнее со своей профессией «ухо-горло-нос», нужнее, чем Паша-Мера и Бунечка, учительница и работница склада готовой обуви.
Они не были на кладбище, не хотели, чтобы люди им тыкали, что они пришли унизить законную супругу, но на девятый день их привез Арон – троюродный племянник на «Запорожце», таком непохожем на лакированную машину «Жук Фольксваген», которая была у папы, собранная из останков трофейного авто.
Сестры вместе сладко поплакали за своего единственного мужчину и вечером выпили настойки на мандариновых корках. Бунечка сделала холодец и курицу.
Все, больше в их жизни ничего не было, ничего хорошего.
С утра надо найти силы встать, и пойти в сквер, и купить по дороге эскимо на палочке в серебряной пачечке, а уж потом дойти до своей лавочки, по возможности ровнее, чтобы Фрида и Дора не шептались о том, кто первая из них умрет.
Потом они садились на солнечной стороне, срывали обертку, и начинался обряд. Если в календарике с числами стоял крестик, значит, сегодня начинает Бунечка. Она ела своим птичкиным ртом медленно, а Паша-Мера в это время закатывала глаза, считала мгновения и нервничала. Она знала, что когда придет ее время, надо будет успеть свою долю съесть очень быстро, пока эскимо еще не подтаяло и не обрушилось, скользнув по подмокшей палочке на колени.
Завтра Паше-Мере достанется начинать первой, сверху есть выгоднее, там больше шоколада, и холод еще заставляет стынуть оставшиеся три зуба, которые еще что-то чувствуют.
Она любит быть первой, она всегда была первой, и Наум был у нее первым, а с ней только второй. И тогда у нее на секунду стынет сердце, и она вспоминает Наума, ушедшего так не вовремя к этой суке Берсон.
«Он бы у меня не умер», – Паша-Мера знает это точно, и Бунечка знает, что они вдвоем его бы сохранили, а теперь его нет, и осталось только эскимо на палочке, тающее так быстро.
Старый Каплун смотрел на солнце. Дневное солнце слепило его и закрывало своим огнем единственный глаз, сверлящий прошлое и будущее. Вечернее солнце открывало бездны, из которых вставали тени. Сегодня Каплуна накрыла тень прадеда, которого он никогда не видел, но часто вспоминал. Прадед часто встает в его памяти гигантским исполином, героем. Он и был героем, простой грузчик из города Белостока, где их семья жила двести лет и там же осталась в глубокой яме. Только Старый Каплун еще жив из большой семьи.
Он остался один и сторожит тени близких людей. Их убили соседи по улице, дети людей, которых прадед знал с пеленок. Когда пришли немцы, на евреев надели желтые звезды, а соседи надели повязки со свастикой и взбесились.
Прадед всю жизнь был грузчиком, возил мебель со своими сыновьями и двоюродными дядями на больших возах, таскал огромные шкафы и буфеты. Однажды прадед занес на четвертый этаж рояль для доктора Райкина. Этот подвиг с роялем знали все, прадеда знали и, казалось, уважали его семью, он пил с соседями на польскую пасху и на свою наливал им, но все изменилось. Немцы пришли в Польшу, и открылись закрытые шлюзы ненависти, и началось. Всех евреев собрали в один день и повели к яме, поставили на край и начали убивать. Прадед был простым грузчиком, у него не было большого дома и золота, он не давал денег под грабительские проценты, не спаивал соседей водкой, не держал работников, жил своим трудом своей семьей и даже не ходил в синагогу. Рядом, на краю ямы, стоял доктор Райкин, детский врач, который спасал разных детей, не разбирая, кто из какого народа.
Доктору целовали руки родители спасенных детей. Некоторые из них теперь стояли против него с автоматами и целились ему в сердце и начали стрелять во всех, в детей, старух, не разбирая и не пряча глаза от тех, с кем жили рядом.
Прадед бросился на стреляющих, и пару убийц он задавил своими железными лапами, пока в него не вошло столько горячего железа, что его руки разжались – разжались только тогда, когда железа в нем стало невозможно много.
Старый Каплун даже посылал своего сына в Белосток поискать следы потерявшейся ветви – никаких следов, никаких архивов, никаких свидетелей. Официальные власти им сочувствовали, прятали глаза – они уже жили по законам общечеловеческих ценностей, а такое прошлое нарушает гармонию, суда нет, убийцы не названы, и следов семьи не найдено. Каплун последний свидетель, его правнуки, когда он им рассказывал, ему не верили, не понимали, как такое могло быть.
Старый Каплун знает, что такое может быть и сейчас, он видит и слышит вокруг, что снова ищут причины своих несчастий в чужих народах. Пока людей готовят словами и книгами, но скоро они наберутся мощи и опять пойдут убивать, им хочется решить окончательно вопрос, устранить причину своих бед, извести чужеродных, и тогда им будет счастье, а цена для них не имеет значения.
Грустные мысли оставили Каплуна: он увидел инженера Беленького, которого все звали «черненьким».
Он шел домой из магазина с внучкой, аккуратный старичок, похожий на журналиста-международника Зорина, который всю жизнь прожил за рубежами Родины, носил замшевые пиджаки и клеймил империализм на Тайм-сквер и на Трафальгарской площади. Он все понимал, этот Зорин, но клеймил звериное мурло капитализма и радовался успехам социализма через океан.
Зорин ценил доверие страны, еврей-международник, служивший родине верой и правдой, и родина щедро поила его не только березовым соком, но и виски и ромом.
Беленький, в смысле «черненький», жил не как Зорин, а как простой инженер конструкторского бюро, жил на зарплату, всегда был чистеньким, в пиджачке, не замшевом, а в польском в клеточку, с галстучком из кожезаменителя.
Виски не пил, он совсем ничего не пил, читал газеты и понимал все не хуже Зорина, но место в Америке было уже занято, и второму еврею места не было. Да и не хотел этого места старший инженер Беленький, видел, как Зорину неловко клеймить израильскую военщину и хвалить бандита Арафата, очень похожего на еврея с тряпкой на голове и порочным лицом сладострастного убийцы.
Беленький был на хорошем счету в своем КБ, имел приличную должность старшего инженера, в партию не вступал, аккуратно платил взносы в Красный крест и ДОСААФ. Жена его, Лиза, ему не изменяла, дочка училась на пятерки, замуж вышла за хорошего парня. Так Беленький и живет по правилам; единственное, что его смущает, – то, что ему завидует его друг и начальник Коровякин, всю жизнь завидует, даже когда у Беленького случился инфаркт, начальник тоже позавидовал – у него был цирроз печени. Инфаркт зарубцевался, инсульт Беленького не разбил, а Коровякин даже расстроился: ну почему же евреям так везет?
Они, правда, по-хорошему дружили много лет, вместе учились в техникуме и на вечернем в институте, вместе пришли в КБ, там же Коровякин стал начальником, хотя Беленький был лучше по профессии, но член партии и национальный кадр занял свое место в кресле, и Беленький не горевал, знал свое место.
Зависть друга слегка смущала. Они вместе много лет, когда у них была одинаковая зарплата, Коровякин всегда занимал у Беленького до зарплаты, приходил в гости, завидовал новым шторам и говорил ему: «Ты, Беленький, не обижайся, но вот умеете ВЫ, евреи, устраиваться. Вот меньше меня получаешь, а живешь лучше, как же это получается? Каждый год на Рижское взморье ездишь с семьей, тетка твоя из Анапы фрукты шлет чемоданами, а моя тетка на Колыме, что она мне пришлет, рулон колючей проволоки, что ли? Ты не обижайся, Беленький, но вы хитрый народ, я тебя люблю, но вот смотри, другие твои собратья крутят, мутят, гешефты делают, всюду лезут без мыла, вот арабов мучают, убивают их почем зря, разве это хорошо? Ты не обижайся, ты мне друг, ты честный, порядочный человек, но в массе своей народ твой говно, не любите вы нас, надменные вы, много о себе думаете, вот от этого все ваши беды».