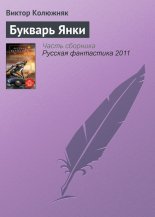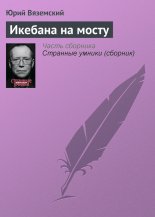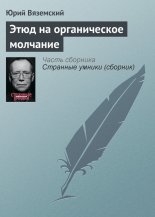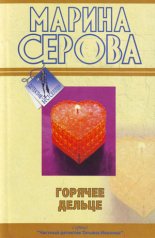Мой взгляд на литературу Лем Станислав

К сожалению, только в реалистической прозе можно обращаться прямо к реальному миру, и потому горькую участь science fiction представляет заранее обреченное на неудачу желание показать миры, что были бы одновременно плодами воображения и ничего не значили, т. е. не имели бы характера послания, приравнивая их как бы степенью объективной суверенности вещам нашего окружения от мебели до звезд. Это фатальная ошибка, кроящаяся в основе фантастики, потому что там, где тенденциозность не допускается намеренно, просачивается тенденциозность невольно. Под тенденцией мы понимаем пристрастность, то есть точку зрения, которая не может быть по-божески объективной; эпика именно так может казаться нам объективной, потому что в том, что она представляет, незаметно для нас спрятано то, как (с какой позиции) она представляет — поэтому эпика тоже является пристрастным соотношением событий, однако таким, тенденциозность которого мы не обнаружим, ибо сами его разделяем и не можем выйти за его рамки. О пристрастности эпики мы узнаем через века, когда ход времени преобразует канон «абсолютного объективизма» и в том, что должно было быть соотношением истины, мы видим уже способ, каким изложение истины было когда-то понимаемо. Потому что нет ни истины, ни объективизма в единственном числе; в обоих кроется неотъемлемый фактор исторической относительности. Таким образом, фантастика никогда не сравняется с эпикой, потому что то, что представляет фантастическое произведение, принадлежит одному времени (чаще всего будущему), то же, как оно излагает — другому времени, современности. Если даже воображение сможет сделать правдоподобным то, как будет (как может быть), не сможет оно порвать тотально с действительным сегодняшним способом расположения событий в свою пользу. Этот способ — не только художественная традиция, а значительно больше — это тип классификации, интерпретации и рационализации видимого мира, свойственный эпохе. Потому проблемное содержимое эпики может быть глубоко скрыто, зато содержимое фантастики должно быть четко, в противном случае рассказ, отказываясь от невымышленной проблематики и не достигая эпического объективизма, фатально соскальзывает к какой-нибудь поддержке — оказывается ею тогда стереотип сказки, сенсационной авантюры, мифа, скелет детективного романа или их столь же эклектичный, сколь и низкопробный кроссворд. Выходом из дилеммы могут быть сочинения, анализ состава которых, чтобы отделить то, что «предметное», от того, что представляет «послание» (сразу же видимое), оказывается полностью невыполнимым. Читатель такого произведения не знает, должно ли то, что ему показывают, существовать словно булыжник или табурет, или оно должно что-то кроме себя означать. Неопределенность такого воплощения не уменьшается от авторских комментариев, потому что автор может в них заблуждаться, будто человек, пытающийся объяснить нам истинный смысл своих снов. Потому я считаю несущественным для анализа произведений Дика именно его замечания о них.
В этом месте мы могли бы открыть отступление на тему возникновения фантастических концепций Дика, пусть же нам будет достаточно только примера, взятого из «Убика», а именно: само название книги. Оно происходит от латинского «ubique» — везде. Это сплав (контаминация) двух разнородных понятий: понятия Абсолюта как вечного и неизменного Порядка, происходящего из системной философии, а также понятия «gadget» — удобного приспособления для ежедневного подходящего случая, продукта конвейерных технологий потребительского общества, девизом которого является облегчение людям выполнения всяческих действий от стирки белья до завивки волос. «Баночный абсолют» это, следовательно, результат столкновения и проникновения двух разновековых мыслительных стилей, и вместе с тем — включения абстракции в образ конкретного предмета. Такое поведение в science fiction — это исключение из правил и собственное изобретение Дика. (Хотя речь идет о родстве очень отдаленном, упомяну, что включением в поэтическую метафору синхронно понятий конкретных и абстрактных добивался необычных эффектов в своих стихах Ц. Норвид).
Упомянутым способом скорее нельзя создавать объекты эмпирически вероятные, то есть имеющие шанс возникновения когда-либо. Тем самым в случае «Убика» речь идет о процедуре поэтической, то есть метафорической, а не о какой-то футурологической. Убик выполняет в романе важную роль, подчеркнутую еще его «рекламой», представляющей эпиграфы к очередным разделам. Является ли он символом, а если да, то чего именно? Ответить на это нелегко. Абсолют, украденный технологией, который должен спасать человека от губительных последствий Хаоса или Энтропии так, как дезодорант защищает наш нюх от вони промышленных свалок, это не только доказательство типичной сегодня тактики действий (например, преодоление побочных эффектов одной технологии другой технологией), это выражение тоски по потерянному королевству совершенства нерушимого порядка, но также выражение иронии, потому что «изобретения» этого все же не удастся объяснить серьезно. Убик, кроме того, выполняет в романе роль его «внутренней микромодели», ибо содержит in nuce[155] всю свойственную книге проблематику — борьбы человека с хаосом, в которой после временных успехов бесповоротно ждет проигрыш. Баночный как аэрозоль абсолют, спасающий Джо Чипа от гибели, но только временно, не это ли парабола и mene tekel[156] цивилизации, что принизила Sacrum[157] сталкиванием его в Profanum[158]? Продолжая такой ряд ассоциаций можно, в конце концов, увидеть в «Убике» литературную насмешку греческой трагедии, в которой роль античных героев, напрасно сражающихся с мойрой, предназначена штатным телепатам (скорей, телеатактитам, потому что они побеждают телепатию) под начальством служащего большой корпорации. Если «Убик» и не является именно так задуманным предприятием, то смотрит в эту сторону.
Творчество Ф. Дика заслуживает, пожалуй, лучшей судьбы, чем приготовленная ему местом рождения. Если оно не является ни монолитным, ни полностью точным, то, однако, только насильно удается втиснуть в эту мезгу содержаний, лишенных интеллектуальной ценности и оригинальной конструкции, которые представляет science fiction. Ее любителей привлекает в Дике то, что наиболее скверно: типичный для американской фантазии размах, достигающий звезд, плавность действия, идущего от неожиданности к неожиданности, но они упрекают его в том, что вместо разгадывания загадок, он в конце оставляет читателя на поле боя, затянутым аурой столь же гротескной, сколь и удивительной тайны. Но его ужасные сращения техник галлюциногенных с трансцендентными также не прибавили ему сторонников вне стен гетто, ибо там отталкивает от него тенденциозность реквизитов, взятых из арсенала SF. В самом деле, творчество это иногда делает промахи, а ведь мы остаемся под его очарованием, как это бывает в случае борьбы одинокого воображения с избытком распирающих его возможностей — борьбы, в которой уже неполный проигрыш может напоминать победу. Не о снисходительности к этому роману я прошу читателя, она никогда к книгам не имеет отношения, а о внимательном и доброжелательном чтении, этом необходимом условии писательского творчества, потому что кем были бы даже наиболее искушенные и внимательные авторы без искушенных и внимательных читателей?
Послесловие к «Необыкновенным рассказам» C. Грабинского
Перевод Язневича В.И.
Интересным, но не изученным должным образом, мне кажется параллелизм между фантастикой научной и мистической. Разделить их механически просто: первая представляет естественные объяснения событий, тогда как другая — сверхъестественные. Непонятной остается подчиненность обеих в сфере литературы, и подчиненность не только в настоящее время, но и исторические ее пути. Оба жанра имели свои крупные фигуры: Г. Дж. Уэллсу соответствует Эдгар Алан По в мистической литературе. Произведения этих авторов до сих пор остаются не только востребованными, но во многих отношениях непревзойденными последователями. Если же сосредоточиться — имея в виду книгу[159], которой я уделяю внимание — на мистической литературе (необыкновенного), трудно сразу объяснить себе, почему в нашем веке она выполняет исключительно развлекательные функции. Напрашивающуюся сначала мысль, что сомнительность этих произведений вытекает из сомнительного характера явлений, представленных в них, ибо речь идет о всякого рода призраках, духах, нечистой силе и т. п., следует категорически отвергнуть. Ведь призраков, духов, нечистую силу мы можем найти в выдающихся шедеврах мировой литературы. Дьяволы, например, в ней просто кишат (дьявол «Братьев Карамазовых», дьявол «Доктора Фаустуса»). Я утверждаю, что дело не в самой фантастичности литературных объектов, а в отношении к ним автора, следовательно, и произведения.
Чем являются в необыкновенном рассказе призрачные стихии, магии черные и белые? Что происходит с вступающим в их мир героем? Ничего, кроме способов эффективного действия. Такой герой — это «неортодоксальный технолог», пользующийся «загробной» или «дьявольской» энергией вместо химической или тепловой, заклятием как «наводящим инструментом» вместо оптического или электромагнитного прицела, а также спиритическим посвящением, или же чернокнижным, вместо политехнических исследований — как теоретической основой деятельности. И когда — так часто бывает в этих рассказах — предпринятые действия не оправдываются или дают кошмарные результаты рикошетами темных сил — мы имеем дело с такой стихийной катастрофой, которой в сфере рациональной техники будет соответствовать, например, буря, молниями сжигающая электрическую сеть, или наводнение, сносящее плотины.
Учитывая эти особенности, мистическая литература состоит в близком родстве с производственным романом. Как в романе на производственную тему речь не идет ни о каких внепроизводственных проблемах, стало быть, ни о каких вопросах психологии личности, так и в литературе необыкновенного не представляется ничего, кроме показа конкретных действий и проявленных в них умений или неумений. И разница только в том, что демонстрация сахарного производства или строительных технологий занимают читателя меньше, чем изображение столкновений с потусторонними элементами.
Значит, по сути дела, рассматривающему литературу необыкновенного может быть все равно, существуют ли ее центральные объекты, или не существуют, если произведение также не касается подлинных человеческих вопросов, как обходил их стороной производственный роман. Выражая это же несколько грубее: доказательство существования призраков, вампиров и демонов ни на волос не увеличило бы полезность мистического жанра. Ведь производство сахара и стройки без сомнения реальны, но это не влияет на достоинство производственных романов. Проблема жизненной аутентичности сверхъестественных сил, не воспринимаемых чувствами и т. п., не принадлежит к первоочередным вопросам, занимающим исследователя литературы. Дело не в том, существуют ли эти чудеса вне книги, а в том, какая от них польза внутри книг.
Сегодня сверхъестественные явления противоречат прежде всего науке, как разумному порядку, обнаруженному в мире. Повторяю: они противоречат науке, но необязательно предположениям отдельных ученых. Пойдите в лабораторию лазерных физиков с прутом лозы и скажите им, что сделали из него лазерный излучатель, и они вышвырнут вас за дверь. Придите, однако, с таким прутом в виде простой ветки, объявите им, что актом воли остановите автомобиль, что мыслью умеете гнуть ключи и ножи, и они с готовностью пригласят вас на эксперименты, контрольные условия которых будете устанавливать вы, а не они. Я это вовсе не придумал, именно так происходило в последнее время в Англии и в Америке, то же обстоятельство, что ловкий фокусник умеет то же самое, что и кандидат на обладание чудесными дарами (Ури Геллер), вовсе не решило проблемы. Многие ученые поверили ему, поскольку хотели ему поверить[160]. Готовность поддаться обману может объясняться только мировоззренческой ограниченностью ученых, специализированных настолько глубоко, насколько и узко, и потому, собственно говоря, беспомощных вне сферы своей специализации. О том, сколь поверхностен рационализм таких специалистов, свидетельствует энтузиазм, с которым они готовы избавиться от него после одного необычайного представления. Разумеется, это реакция не всей научной среды; часть ученых называет феномены необъяснимыми, часть ставит под сомнение их реальность, часть, наконец, пытается их «объяснить» рационально.
Однако это не является, как можно было бы подумать, просто столкновением физики с метафизикой. Прошу принять во внимание, что сегодня эти явления противоречат науке, но так было не всегда. Раньше они противоречили религиозной вере. И значит не только физика, но и метафизика (системной веры) имела в «тайном знании» противника. Чары, порчи, колдовство, левитации создавали теологам проблемы намного раньше, чем начали создавать их ученым. Даже реакция первых и вторых была довольно схожа. Одни пытались это дело как-то умолчать, замять, отдалить, приговорить к изгнанию, зато другие готовы были предпринимать попытки обоснования этих явлений. Разумеется, попытка «доместикации» таких издевательских феноменов в области физики должна выглядеть иначе, чем в области метафизики. В физике говорится об излучениях, о причинном механизме, о неизвестных формах энергии, а в теологической метафизике — о кающихся душах, о связях с дьяволом и т. п.
И значит, сущности этих явлений не представляет для нас их метафизическая природа. Сущность эту следует видеть в подрывной работе, атакующей такой вид порядка, который в данный исторический момент имеет основополагающий характер.
Похоже, что сначала человек с превеликим трудом создает порядок, а затем подвергает его риску возникновения хаоса. В начале он меняет невежество на знание, а потом готов избавиться от этого знания в пользу поразительного невежества, поскольку оно является тайной. Я убежден, что если бы практическому знанию удалось тщательно рационализировать и усвоить явления, не воспринимаемые чувствами, то есть тем самым выполнить акт их «натурализации», то они тотчас же потеряли бы свою прежнюю привлекательность и в поиске вызывающей неразбериху тайны люди начали бы искать Непостижимое где-то в другом месте. Итак, речь идет, как я считаю, об определенной потребности, свойственной человеку, о необходимости hybris[161], то есть преступающего меру нарушения общественного и космического покоя, которую прежние общества удовлетворяли литургизированными обрядами, например, оргиастического типа. Следовательно, человек сам как-то вводит в упорядоченную им картину мира порции таинственного беспорядка. Когда же он это сделает, берется за упорядочение таких прививок хаоса, и из этой борьбы возникает особенная историческая диалектика. Когда изученные в данную историческую эпоху таинственные явления, в свою очередь, подчинятся надлежащему, потому что свойственному нормальной человеческой практике, упорядочению — тогда, например, возникнут уже астрологические таблицы, классификации волшебств, содержащиеся в книге тайного знания, выкристаллизуется некая «теория спиритизма» и т. п. — или когда в первичном беспорядке загадки появятся метод, схема и ключ, приобретенные таким способом и как бы уже освоенные, явления потеряют свою изначальную привлекательность и подвергнутся постепенной отмене, выраженной в форме растущего к ним безразличия. Затем, в следующем веке, следующие поколения с их новыми глашатаями Необыкновенного начнут снова работу по упорядочиванию, борясь с Непостижимым, будто бы никогда не имели предшественников. И поскольку конкретное обличие Тайны всегда тесно связано с духом времени, старые воплощения Загадочного Хаоса — видимые в магиях, волшебстве и оккультизме — в настоящее время заменяют псевдорациональные слухи о космических пришельцах или летающих тарелках. Меняется форма и конкретное содержание, но не изменяется сущность поединка, ведущегося с Хаосом, одновременно желанным и ликвидированным упорядочивающими усилиями. Вероятно, все испытанные людьми на этом пути разочарования могут свидетельствовать о том, что такая таинственная стихия очень трудно понимаема. Однако я считаю, что напрасность таких усилий (ведь ничего дельного не родила магия, так же как не дали результата поиски гостей из Космоса или летающих тарелок) свидетельствует о чем-то совершенно ином, а именно о том, что чувство опасности перед будто бы дикими неизвестными стихиями людям просто необходимо. Тем самым проблема оказывается серьезной, так как вопрос «потребности Необыкновенного» является еще более необычным по сравнению с вурдалаками или призраками, которыми эта потребность питалась. И потому роман ужаса является заменителем этого hybris, который раньше люди представляли себе реально, заменителем слабеньким, десятой водой на киселе, и потому сегодня он может быть только мелкокалиберным развлечением.
На основе вышесказанного мы сейчас можем дать ответ на ранее поставленный вопрос. Важнейшие функции литературы в культуре не заменимы. Литература высокого полета не дает никаких суррогатных удовлетворений, но если она к ним все-таки обратится, то для того, чтобы углубиться в их непознанные, необъяснимые механизмы. Если, например, в обществе господствует наркомания, то задачей литературы не является соперничество с наркотиком, замена галлюцинации, вызванной химически, — видением, вызванным словами, а задача литературы — обратиться к корням всего комплекса психо-социальной неразберихи, который наркоманию порождает и кормит.
По аналогии литература необыкновенного для того, чтобы не выполнять функций суррогатного заменителя, должна отказаться от дешевых приемов и предпринять усилие для более глубокого исследования явлений, это значит — обратиться к сфере непознанного методами не производственного романа, а антропологического исследования. Разумеется, тогда она должна перенести акцент с мистического ужаса перед призраками на изучение их реальной социально-психической почвы. Одним словом, эта литература должна быть ориентирована антропологически. Именно такие зачатки антропологической ориентации в мистической литературе можно найти в произведениях Эдгара Алана По, скрытые в многочисленных его рассказах за чудовищным или таинственным фасадом — насмешкой, воплощенной порой весьма коварно, присутствующей, например, в лекциях о каком-нибудь магнетизме животных. Это лекции столь торжественные, столь напыщенные, столь заумные, украдкой приправленные иронией, потому что опираются на легкую шутку, а не на научные позиции. Однако эти примеси сегодня нам трудно обнаружить, потому что продолжатели дела По этот шанс для облагораживания жанра совсем упустили. Является ли данное утверждение достаточно бесспорным? Говорят, что По (как когда-то аналогично Уэллс на параллельной дороге) — стоял на распутье, которое сам создал. Он мог стать родоначальником литературы необыкновенного, на которую человека преследует вечный голод, или литературы необыкновенного как легкого развлечения. Как попадание в зависимость от наркотика или как заменитель наркотика. Этот выбор пути, не сделанный в то время, осуществился неблагоприятным образом для жанра, для культуры и, наконец, для самого прародителя.
Последний пункт моего перечисления может показаться неожиданным до абсурда. Как же то, что происходило после смерти По и не в его книгах, могло ему навредить? Но именно навредило — аналогично, впрочем, произошло и в случае Уэллса. Потому что если бы эти родоначальники явились инициаторами восходящего вверх течения литературы, если бы их произведения запустили цепную реакцию, заполняющую библиотеки беллетристикой наивысшей пробы в художественном и интеллектуальном измерении, то сияние, идущее от такого воплощения, падало бы и на них. А поскольку произошло наоборот, поскольку возникшая благодаря им литература, отрезанная от потенциальных возможностей, стала чисто развлекательным притоком для массовой культуры, от такого состояния дел пошел рикошет назад, и потому ни По, ни Уэллс в глазах наиболее требовательных знатоков литературы не принадлежат к ее самым значительным фигурам.
Вышесказанное объясняет, на чем основана сегодня беззащитность литературы ужаса и мистики. Если рассказ не ужасает, то наводит скуку; если он не затронет читателя до мозга костей, то не затронет его вовсе. Поэтому такая литература с течением лет подвергается постепенной деградации. Все меньше можно найти в ней серьезно трактуемой тайны, и все больше — трюков, подтасовок и цирковых штучек. О самых лучших современных рассказах ужаса можно только сказать, что они искусно написаны. Первобытная культура, практиковавшая определенную магию, была ей верна также, как Ватикан — католицизму, и мысль, что эта культура могла бы заменить свою магию на какую-то другую, так же бессмысленна, как идея, что Ватикан может в один день перейти в буддизм. В то же время современный автор мистической литературы тасует и комбинирует элементы фикции, как кубики детской игры. Всякие приемы, любые анахронические смеси хороши, если затронут общественность. Именно поэтому согласующийся с почтенной христианской верой сатанизм, таящийся в «Экзорцисте», дал возможность этому рассказу и фильму[162] получить бурный отклик, поскольку речь шла об исключении из правила чистой развлекательности, как возврат к проблематике, имеющей еще признаки неразвлекательной аутентичности. Но успех возник согласно закону, что на безрыбье и рак рыба.
А что же со Стефаном Грабинским, которому посвящено это послесловие? Скажем сначала: habent sua fata libelli[163]. Как же мечтал этот львовский учитель гимназии о входе в мир большой литературы, и как поздно, хоть частично, пришлось осуществиться его мечтам. Грабинский сегодня не только читаем в нашей стране, но и зарубежные специалисты восторгаются жизнеспособностью его произведений, не признаваемых полвека.
Прежде чем говорить о причинах этой жизнеспособности, надо сказать, что и Грабинский не пошел по так названной мною дороге антропологического проникновения в мистическую тематику. Не пошел по ней, хочу отметить, полностью осмысленно, последовательно — ведь он не пользовался ни дистанцирующей от ужаса насмешкой, ни психологической проницательностью. Он не пошел в этом направлении, хотя…
Его романы, надо сказать, далеки от нас. Не выдержали испытания временем, поскольку предполагают эрудицию в области оккультизма. «Саламандра», например, это просто классический случай «магического производственного романа». Магия «Саламандры» — это техника борьбы, со свойственным «оснащением», с запасом профессиональных знаний, с прицельными, спусковыми устройствами и т. п. Так же, как в производственном романе, областью авторского внимания владеют не мотивационные проблемы действующих сторон, их высокие помыслы и выбор, а степень свойственных им праксеологических умений. Будто бы говорится о поединке Добра и Зла, но как же избиты, расплывчаты, банальны эти видимые причины столкновения не на жизнь, а на смерть! Они показаны ни оригинальнее, ни лучше, чем в производственном романе. Тут добро, а там зло, тут абсолютная ясность, там тотальный мрак — и этим диагнозом читатель должен удовлетвориться. Если же суть произведения сводится к демонстрации успешности действий, то суть эта стоит столько, сколько сами действия. Производственный роман, показывающий полную жертвенного самоотречения борьбу за ввод в действие смолокурни как последнего слова техники, должен был сразу стать неумышленной юмористикой. Поэтому неотразимой становится наивность поединка на заклятиях и чарах, территорий которого является «Саламандра».
Сохранилась прежде всего новеллистика Грабинского. Особенно хорошо звучат для нас рассказы цикла «Демон движения», в которых сверхъестественный элемент проявляется неявно, в двухзначных опосредованиях. Ничто так не портит ужаса потустороннего мира, как показы, как бы сказать, панорамно открытые. Дело в том, что небесхитростно сконструированного потустороннего мира представить нельзя. Эту слабость литература разделяет со всеми разновидностями оккультизма: прибывая на сеансы, духи даже самых могущественных призванных из потустороннего мира мыслителей всегда мололи чепуху, как это удостоверяют сохранившиеся протоколы. То, что можно было от них узнать о потусторонних мирах, кроется между безграничным примитивизмом и безграничной банальностью. Поэтому спириты использовали специальные гипотезы ad hoc[164], чтобы объяснить столь неприятное для них состояние дел, например, объявляли, что духи поддерживают связи с нами всегда в состоянии духовной недееспособности, ибо столько труда требует установление контактов с медиумом. Впрочем, это были гипотезы явно неудачные, что подтверждает любой пример (случалось, что призрак говорил во время сеанса о своем отвыкании от курения — представляя тем самым потусторонний мир с фабриками по производству табачных изделий). Следовательно, элемент необыкновенного состоит в некоем родстве с сильными ядами, ибо может действовать возбуждающе только в малых дозах. Чрезмерно дозированный, он убивает — правда, не читателя, а сами произведения.
Время, однако, отказаться от столь язвительных замечаний, потому что не в них я вижу смысл моего послесловия. Расскажу об одной из известнейших новелл Грабинского, о «Любовнице Шамоты», потому что — невольно или по воле автора! — она раскрывает кроящиеся в жанре в латентном виде возможности раскрытия психологических истин. Это, как гласит подзаголовок, «Страницы из найденного дневника», то есть история, рассказанная от первого лица. Молодой, наивный человек — наивность, и даже провинциальность изложения бросается в глаза — неожиданно получил письмо от возвращающейся в страну женщины, пани Ядвиги Калергис, первой красавицы столицы, известной своим богатством. Письмо, недвусмысленно приглашающее его на любовный тет-а-тет с этой дамой, хотя до сих пор обоих ничего не объединяло — кроме одностороннего поклонения, которое юноша питал к недосягаемой пани. Только издали он отваживался не сводить с нее глаз на концертах, в театре, украдкой ходил под окнами ее изящного особняка, но словом не осмеливался к ней обратиться — осознавая непреодолимую дистанцию. Откуда же ее догадка — о его чувствах — и откуда благосклонность письма, при всей своей лаконичности предвещающего невероятное свершение? Не веря своим глазам, юноша показывает конверт знакомым, что со стороны выглядит не по-джентльменски, но это приходится отнести на счет его наивности.
Любовные свершения превосходят все надежды Шамоты, хотя постепенно, и в процессе естественного развития романа, он начинает все отчетливей замечать странность его сценария, а также, если можно так сказать, методов. Это роман чисто чувственный, столь сведенный до физической сути, что протекает вообще без слов — в спальне, в «глубокой нише на ложе, украшенном резьбой в giallo antico[165]» (несмотря на наивность юноша, оказывается, является знатоком искусства). Амуры невероятно страстные, и при этом активной стороной в них все время является дама, искупающая свое каменное молчание утонченностью ласк. Через пару месяцев Шамоту в конце концов начинает беспокоить такая форма связи — овладев телом, он добивается и души. Но в ответ только молчание или приходящие после любовных ночей письма с просьбами не спрашивать ни о чем, не преследовать и т. д. Тем временем он, счастливый, производит мимолетные наблюдения. Пани Калегрис имеет такие же знаки («родинки») на теле, как и у него; как и он, отличается загаром, согласно канонам времени, пожалуй, не украшающим даму; когда однажды, раздраженный манерой поведения любовницы, он колет ее булавкой, из его, а не из ее тела брызжет кровь…
Наконец, через год после первого знакомства, роман обрывается странным и одновременно чудовищно неприличным образом. Пани Калергис принимает его в спальне в темноте, зовет шепотом, но мужчина не может найти в постели ее головы, лица, рук — ничего, кроме «огня плоти», как говорится в тексте. Оскорбленный в чувствах он вскакивает, зажигает свет и видит, что «в пене кружев… бесстыдно раскинулось обнаженное до живота женское лоно — одно лишь лоно… ни груди, ни плеч, ни головы…».
Шамота в ужасе убегает — чтобы через месяц узнать, что Ядвига Калергис мертва уже около двух лет, а это значит, что он пережил роман с трупом.
История эта излагается согласно типовому канону спиритизма — и это обычно отмечала критика. Самый пытливый из исследователей произведения Грабинского, Артур Хутникевич, автор монографии о нашем писателе (мало какой польский литератор нынешнего века удостоился столь добросовестной и всесторонней разработки всего творчества), представляет два варианта толкования рассказа — как два варианта спиритического объяснения. Первый заключается во временности, потому что до нее ограничивает сферу спиритической феноменолистики. Шамота сошел с ума в эротическом плане, письма, якобы от любовницы, он писал сам себе, а будучи одаренным способностями медиума (о чем не обязан был знать), «идеопластически» материализовал личность якобы Ядвиги Калергис, которая была его фантомом, но с течением времени уменьшающаяся фантомообразующая энергия дала о себе знать: все дольше он должен был ждать появления любовницы, пока в результате привидение не сократилось до области половых органов — дело понятное, говорит Хутникевич, если принять во внимание природу психологических побуждений, которые стояли у истоков явлений. Второй вариант толкования, также допустимый, следует из окончания рассказа: невозможно исключить, что Шамота пережил роман с призраком мертвеца, причем тогда (добавлю от себя) для материализации дух Ядвиги пользовался спиритическим даром Шамоты так, как типичные призраки во время сеансов пользуются для этого «эктоплазмой», излучаемой усыпленным медиумом, или же материализация происходила как-то прямо (или без посредника), а ее постепенное сокращение вызывали эти «понятные трудности», с которыми должен сталкиваться любой дух умершего, который пытается преодолеть преграды, отделяющие его от мира живых.
Хутникевич также добавляет, что в некоторой степени созидательной матрицей и вместе с тем аллегорическим резервом этой чудовищной истории может быть библейский стих, представляющий способ, каким бог из части тела Адама создал Еву.
Мне представляется бесспорным, что процитированные толкования соответствуют как канонам классического спиритизма, так и авторским намерениям. Однако же рассказ допускает другой вариант интерпретации, настолько интересный, что, перечеркивая спиритические объяснения, которые ему вовсе не вредят, он перемещает дело в поле проблематики одновременно натуралистической, рациональной и психологически достоверной. Отбрасывая как медиумистическую, так и «загробную» парадигматику, мы не оказываемся перед сочинением, бессильно проваливающимся в небытие, а получаем такое, которое становится необычно проницательным анализом эротических событий на их бессознательном уровне.
А именно: я допускаю перемещение всех событий в область психики героя, эротическая одержимость которого переступила границу духовной нормы, или, если кто-то пожелает, сексуальное помешательство которого стало содержательным источником галлюцинаций. Если мы примем такую версию, окажется, что он это сам себе все придумал, сам окружил себя фантазиями, которым ничего объективно не соответствовало, ибо он вступал в такую область призраков, в которой его до сих пор подавленные эротические мечты могли наконец разнуздаться. И могли сорваться с цепи приличий, сильной в то время, когда разворачивается действие, именно благодаря спиритическим сеансам, в которые герой сам горячо верил. Если бы все это шло не из него, и если бы о том, что все именно так, он хорошо знал, то никогда не осмелился бы себе позволить наглое воображение. Следовательно, спиритические сеансы представляют обязательную предпосылку дерзкого романа.
Психологическая интерпретация, которую я предлагаю, не надумана, так как соответствует всем деталям повествования. Фамилия «Калергис» звучит, как я считаю, неслучайно — мы хорошо знаем роль, какую подлинная пани Калергис сыграла в жизни Норвида. Тем самым она стала прообразом эротически недоступного идеала прекрасной женщины, прелестями которой наслаждаются другие; ведь подлинная пани Калергис не была весталкой, а была мукой героя, который пламенно, но безнадежно, любит. Герой рассказа Грабинского даже не пытался признаться своей Ядвиге Калергис в питаемых к ней чувствах, неизбежно сознавая безнадежность такого шага, должен был, следовательно, быть ей неравен социально, ибо же в отсутствии страстности чувств трудно его было бы обвинить. Любовь, питаемая тайно на расстоянии, обращается наконец против самой себя, когда уже в подсознании скопились въевшиеся в симпатии недовольства: значит, вожделение исходит из платонических грез, страстно желая исполнения настолько непристойного, насколько невозможного. В этой фазе уже не страсть молящая, а готовая мстить недоступной избраннице. Отвергнутому, не допущенному даже и близко к красавице, уже не может хватить в качестве компенсации эротического акта, благосклонно увенчанного соответствующей доброжелательностью. Нет — в реализующейся мечте теперь он будет стороной желаемой, а она желающей, она проявит просто бесстыдную активность, отдаваясь ему так, чтобы удовлетворить его похоть в обстоятельствах, ее унижающих. (Напомню здесь аналогичный прием смены ролей, наблюдаемый в «Преступлении и наказании», где Мармеладову снится, что маленькая девочка пытается его соблазнить). Свойственные бессознательности механизмы исполнения желаемого предполагают такие короткие соединения, чтобы грезящий субъект получил полнейшее удовлетворение, пусть и лишенное всяческих правил хорошего тона; итак, по плану, задуманному бессознательно молодым человеком, должно произойти так, чтобы надменная избранница не только ему отдалась, но чтобы, кроме того, этим еще проявила свою непристойность в сравнении с ним; потому что только тогда компенсация окажется полной. Он, прежде нижестоящий, будет возвышен, она, прежде вышестоящая, будет унижена. Ибо психологический вывод так гласит: «я получил ее, как хотел, но она меня не стоит, потому что я благороден, а она развратница, поэтому даже о моих прошлых неудовлетворенностях я не должен уже жалеть». По сути сложно придумать более сильное удовлетворение амбиций — и не только эротических — героя. Разумеется, названных планов он не мог бы реализовать сознательно в воображении, потому что поведение это оказалось бы явной «delectatio morosa»[166], просто онанистическим сном на яву. Поэтому он должен был использовать систему самообмана, составить проекцию во внешний мир своих воспылавших желаний, которые даже самому себе не отважился бы открыть, и потому всю ответственность за разнузданность он свалит на мнимую партнершу. Она была холодна и неприступна, а он напрасно охвачен страстью; зато теперь его мужское благородство уязвлено ее распущенностью, и поэтому он накажет ее, бросив, что для него будет настолько приятно, насколько и справедливо, а ее унизит. А почему ему все представляется в таком согласии с канонами спиритизма? Ответ будет прост: поскольку во время, соответствующее действию, каноны эти известны были каждому члену «общества», и по правилам хорошего тона в них надлежало ориентироваться. И потому и бессознательное Шамоты формирует, согласно с этими канонами, свои проекции видений.
Следовательно, рассказ Грабинского может быть трактован как произведение натуралистическое, направленное на демонстрацию бессознательных механизмов эротики, или как психологически проведенный анализ компенсационных самоудовлетворений. Потому что мы находим в нем все типичные, выделяемые в психоанализе механизмы, вроде подавления, перемещения, проекции, символической многозначности, а также типичного для отношений, господствующих между «Ego» и «Id»[167] — самообмана и защиты аутентичных мотивов — системой заслоняющих их подобий. Такими подобиями станут именно совокупности запущенной спиритической феноменолистики, которая не может быть просто отброшена, поскольку выполняет в рассказе важную роль, хотя радикально отличную от той, которую приписала ей критика вместе с самим писателем.
Этим своим успехом — я говорю о возможности различного толковании рассказа, который может быть понимаем как действительно психологический при полном отрицании всяческих притязаний спиритизма, — он обязан отсутствию авторских комментариев, которые бы пытались удостоверить, собственно говоря, спиритическую базу явлений. Это отсутствие следует из формы повествования, ведущегося от первого лица. Из этого замечания должно следовать, что если процесс перемещения смысловых акцентов с антинатуралистической основы в сферу натуралистической подлинности (например, из спиритизма в глубины психологии) окажется невыполнимым, то произведение должно разделить участь той дискурсивной среды, которая его породила. Или, говоря то же самое иначе, если авторское изложение событий нераздельно срастается с самими событиями, то произведение жизнеспособно настолько, насколько жизнеспособно это изложение. Если же начинает вызывать жалость тайное знание, являющееся предметной средой рассказа, то необыкновенность идет вместе с этим знанием в чулан.
Именно оттуда берет начало фатальная закономерность, разделяющая сегодня труды Грабинского на две части. К сожалению, он пошел неправильной дорогой, становясь все более прекрасным глашатаем оккультизма и именно из-за этого все более беззащитным автором, поскольку чем больше таких сведений он вводил в произведения, тем к худшему это вело.
Впрочем, превращение восхитительных предположений дискурсивной мысли в мертвую букву — это вовсе не недуг жанра, в котором творил Грабинский, а обыденность литературы, и потому постоянно ходом времени испытывается правило, предписывающее писателям доверяться естественному течению событий, для которых объединяющим фактором должно стать произведение, а не каким-либо однозначным дискурсивным и комментирующим интерпретаторам этих событий. Иначе говоря, литература никогда не должна браться за иллюстрирование каких-либо гипотез или теорий, взглядов или предположений, сведенных к единому знаменателю неоспоримой истиной, не должна видеть свою миссию в доказывании этой истины историями, что является партикулярным воплощением системно единой концепции. Эта директива не может, разумеется, касаться комментариев, относящихся к персонажам повествования, ибо те всегда могут подвергнуться переобоснованиям или просто «объяснениям» похожим на то, которое мы привели выше. Без сомнения, знание описываемой темы писателю необходимо, дело только в том, чтобы он не стал ее слишком страстным популяризатором, принимающим, например, произведения за доказательства истинности необыкновенных явлений. Очевидно: нельзя всю литературу ужаса и мистики в той ее части, которая (подобно книгам Э.А. По) успешно противостоит разрушающему воздействию времени, воспринимать как подвластную проведенной мною «натурализации» ужаса благодаря ее переводу в область психологии. Жизнеспособным произведениям свойственны различные виды смысловой глубины, как аллегорической, так и символической, или же вплетенной одновременно в далекие друг от друга области человеческого знания. Но здесь я не брался за обсуждение всего жанра, создающего довольно много дилемм, поскольку этими словами я хочу вернуться, прежде всего, к писателю моей львовской молодости, который не потерялся в соперничестве со своими ровесниками европейцами. Надо не столько сокрушаться над тем, что для нас многие его книги устарели, сколько, пожалуй, выразить восхищение его освобожденному воображению — раз уж его плоды пережили кончину сомнительной метафизики, которая когда-то служила им в качестве опоры.
Грабинский создал немного произведений столь прекрасных, как «Любовница Шамоты», но он создал их достаточно, чтобы не стать забытым писателем.
Послесловие к «Пикнику на обочине» А. и Б. Стругацких
Перевод Борисова В.И.
Существуют темы, которые невозможно охватить в полном объеме. Такой темой является Бог для теологов. Как исчерпывающе представить то, что является неисчерпаемым по определению, как описать, если описание накладывает ограничения, а у такого существа все свойства в принципе беспредельны, то есть ничем не ограничены? Здесь использовались различные стратегии: пытались обойтись общими фразами, но тогда никакого цельного образа не возникало; использовали сравнения, но тогда приходится низводить божественные атрибуты на уровень слишком конкретных категорий; пробовали приблизиться к сути по спирали извне, то есть заменяли окончательные определения аппроксимациями, но и этого было недостаточно.
Оптимальной в теологии оказалась стратегия сохранения Божьего таинства. Правда, если следовать этой стратегии, следовало бы вообще молчать, а молчащая теология перестает быть теологией, поэтому она использовала (в более поздних версиях, например, в христианстве) стратегию оперирования явными противоречиями. Всеведущий Бог знал, что созданный им человек не устоит перед грехопадением. Но тем не менее создал его свободным. Если Богу заранее было известно о неизбежности падения человека, значит, человек не был свободным, хотя он был именно таким — согласно теологическому учению. Так категорически устанавливаемые противоречия создают тайну, в отношении которой разум должен умолкнуть.
Для фантастической литературы темой, которую невозможно охватить, являются разумные, но не человеческие существа. Как автор-человек может показать существо, обладающее разумом, но не являющееся человеком? Голословного заявления недостаточно, потому что литература должна оперировать фактами. И здесь напрашиваются различные стратегии. Стратегия сохранения тайны, наилучшая для теологии, не может быть использована, поскольку «Иные» — это не божества, а такие же материальные существа, как и мы, следовательно, описывать их, множа явные противоречия, значит — требовать от читателя веры в абсурд, но установление каких-либо догм не в силах писателя.
В соответствии с простейшей стратегией разумные существа могут отличаться друг от друга физически, и только это будет полем их своеобразного отличия, а в умственном отношении они будут или идентичны человеку, или приближены к нему, поскольку разум может быть лишь один. Почти сто лет назад Уэллс воплотил такой подход в своей «Войне миров». Его марсиане — это существа чудовищного облика, но такого, который когда-то должен стать обликом людей. Тела их редуцировались почти до одних голов в соответствии с предположением, что и у человека в будущем будет исчезать часть внутренних органов в пользу мозга. О культуре марсиан в романе ничего не говорится, словно и она подверглась атрофии и не содержала ничего, кроме технических способностей и уравнивания насилия в качестве космического права. То есть будущее у Уэллса упрощает как физиологию, так и культуру. В людях марсиан ничто не интересует, кроме их крови. Они пьют ее, словно вампиры. Техническое вооружение марсиан по-прежнему вызывает у нас уважение, но убожество их культуры — это наибольшая слабость произведения. Отвратительный облик не имеет особого значения, он может быть сформирован средой обитания, но разве позиция марсиан не представляется хотя бы неосознанной карикатурой крайнего рационализма? Правда, нападение марсиан Уэллса оправдывает их положение жителей планеты, гибнущей в пустынях, марсианам плодородная Земля нужна для захвата жизненного пространства. Но этот частный случай, обоснованный в рамках Солнечной системы, стал — бездумно позаимствованный — образцом для всей научной фантастики. Послеуэллсовская фантастика занедужила хронической чудовищностью звездных пришельцев, уходя при этом от причин, объясняющих облик марсиан у Уэллса. А поскольку авторы хотели любой ценой перещеголять отца жанра, они в показе ужасных «Иных» быстро перешли границу правдоподобия. Наделяя их все большей мощью, они заполнили весь Космос цивилизациями, агрессивность которых совершенно иррациональна. Чем большую мощь приписывали «Иным», тем более иррациональным становилось их посягательство на Землю. Научная фантастика в этой фазе стала фантастикой инсинуаций и параноидального бреда, поскольку утверждала, что космические державы точат зубы на человечество, словно Земля с ее скарбом представляла бесценное сокровище не только для общества маленькой пустынной планеты типа Марса, но и для любой цивилизации в галактике. А ведь мысль, что такая мощь, располагающая армадами звездолетов, может прельститься нашим скарбом, столь же наивна, как и мысль, что великое земное государство мобилизует армию, чтобы захватить продуктовый магазин. Издержки подобного нападения будут всегда больше стоимости добычи. Значит, такое вторжение не может быть вызвано материальными интересами. «Иные» атакуют Землю, потому что им нравится это делать. Уничтожают, потому что хотят уничтожать, порабощают человечество, так как тираническая власть доставляет им удовольствие. Так научная фантастика заменила уэллсовский межпланетный дарвинизм на садизм, ставший постоянной составляющей космических отношений между цивилизациями. Работа творческого воображения была заменена проекционной работой (в понимании глубинной психологии); свои страхи и химеры авторы проецировали во вселенную. Так они построили параноидальный Космос, в котором любая жизнь нацелена на захват Земли, а сам Космос представляет собой поставленный на людей капкан, поскольку развитие в нем нацелено на то, чтобы реализовать принцип «цивилизация цивилизации — волк». Потом этот Космос — разбойничья пещера — многократно менял свой знак. Всеобщая недоброжелательность механически преобразовывалась в доброжелательность. «Иные» нападают, но для того, чтобы взять над нами опеку и тем самым спасти нас от самоуничтожения (этот мотив стал особенно популярным в годы холодной войны); или же не нападают сразу, а только угрожают, благодаря чему человечество объединяется: перед лицом звездной угрозы побеждает солидарность. Отсюда пошли дальнейшие комбинации игры в пришельцев, но ни один из вымышленных вариантов не выдерживает проверки размышлением, поскольку не в состоянии ответить на такие элементарные вопросы, на которые роман Уэллса отвечал по-своему, но все-таки толково. Это вопросы о мотивации звездных путешествий, несводимые ни к какому-нибудь «так им захотелось», ни к играм в разбойников и жандармов; вопросы о главной ориентации культуры на высоком уровне материального развития, о форме устройства общества на том уровне, когда достигнуты возможности астротехнической деятельности и т. п. И среди них есть первостепенный вопрос — почему набор реальных культур человека на Земле представляет огромное богатство многообразия, а почти все космические культуры отличаются в научной фантастике плачевной до однообразия униформизацией?
На такие вопросы научная фантастика не может ответить, потому что размышления о судьбах разума в Космосе она заменила на сенсационные стереотипы межпланетных авантюр. В результате этого тенденция ее развития в рассматриваемой теме была противоположной по отношению к той же тенденции в науке. И когда ученые всерьез взялись рассматривать проблему цивилизаций во вселенной, проблему установления контакта с ними, когда сформулировали гипотезу о множестве форм разума, о том, что нельзя свести все возможные формы интеллекта к его человеческому виду, фантастика была уже антиподом такого мышления, вытесняя со своей территории остатки реалистических подходов явно сказочными заимствованиями. Желая наделить «Иных» еще большим могуществом, она приписывала им уже способности Протея, — такое существо может по желанию преобразоваться в пень, в кусок ракеты, даже в человека, может также «захватить его разум», что опять же является реинкарнацией старого мифического мотива (одержимость злым духом). С межкультурными барьерами эта фантастика справлялась одной левой, спокойно приписывая «Иным» какое-нибудь телепатическое всемогущество, или же формировала космические отношения между планетами, опираясь на упрощенные образцы земного происхождения (в соответствии со штампами колониализма, конкистадорства, правил возникновения имперских коалиций), пренебрегая всевозможными возражениями как из области социологии, так и из области физики, — связанные с огромностью пространственно-временных расстояний в Космосе. С этим препятствием фантастика разделалась раз и навсегда, приписав звездолетам способность передвигаться со сколь угодно большими скоростями. Одним словом, если в скромной попытке Уэллса местожительством марсиан был, в соответствии с данными современной ему науки, реальный Космос, то научная фантастика своих Иных поселила в тотально фальсифицированном Космосе, в котором не действуют законы астрономии, физики, социологии и даже психологии. Она развивала хищническое хозяйство, рыская в поисках вдохновения по различным историческим справочникам так же успешно, как и по таблице Линнея, чтобы наделить разумом ящеров, каракатиц со щупальцами, ракообразных, насекомых и т. д. Когда и это поистерлось и наскучило, тема практически угасла, а ее «чудовищные» крайности от научной фантастики переняли третьеразрядные фильмы ужасов, полностью лишенные всякого умственного содержания.
Писательская среда в Америке не соглашается с таким диагнозом положения вещей, имея в союзниках читателей, привыкших к легко перевариваемым сенсациям, предлагаемым в качестве научной фантастики. Но сказочный характер этой фантастики очевиден. Никто не спрашивает, почему в сказках драконы такие злобные и кровожадные, почему Баба Яга в них предпочитает есть детей, а не цыплят. Это аксиомы сказки, потому что ее мир изначально пристрастный, зло появляется в нем для того, чтобы оно могло потерпеть поражение от добра. Ясно, что это зло должно быть сильным, иначе конечный успех добра оказался бы неубедительно бледным. А вот мир научной фантастики должен быть беспристрастным миром, в котором появляется не для того, чтобы его могли побеждать объединенные межпланетные добродетели. Он даже не может быть пристрастным миром с отрицательным знаком, миром какой-то антисказки, в которой прекрасное, пухлое и благонравное добро взращивается для того, чтобы доставить наибольшее удовлетворение воплощенному злу, которое его схрумкает. Кстати, такой антисказочный мир выдумал маркиз де Сад, которого, правда, трудно счесть автором научной фантастики. Мир научной фантастики должен быть попросту реальным миром, то есть таким, который заранее никого не ставит в привилегированное положение, в котором ничья судьба не определена изначально. Человек не является ангелом, так что нет надобности наделять ангельскими свойствами «Иных», но и человек, хоть и убивает мух, не отправляется специально с этой целью на другой конец света. Поэтому и «Иные», даже если относятся к нам, как к мухам, вряд ли станут искать нас на Земле.
Автор, показывающий иной тип жизни или разума, нежели земной, находится в более выгодном положении, чем тот, кто представляет вторжение на Землю из Космоса. Первый может ограничиться (как, например, я это сделал в «Солярисе») указанием феноменов, в огромной степени отличающихся от всего, что известно человеку. Второй исходит из «интервенционной» предпосылки: предполагая, что «Иные» прибыли на Землю, следует понять, что могло толкнуть их на это предприятие по-настоящему астрономического масштаба. Какие причины могли их подвигнуть на это? Если не военные и не разбойничьи, то или познавательные, или развлекательные (они прибыли, чтобы немного поиграть с нами…). Как видим, не так уж много альтернативных возможностей. Поэтому наилучшей стратегией в этом вопросе остается сохранение тайны «Иных».
Хочу особенно подчеркнуть, что выбор этой стратегии обоснован прежде всего не художественными критериями, то есть повествование должно хранить тайну «Иных» не для того, чтобы неустанно интриговать читателя и поддерживать его в состоянии очарования великой неизвестностью. Ибо эта стратегия совпадает с основными директивами теории конфликтов. Так, например, в военных училищах от будущих стратегов требуется, чтобы они предварительно приписывали противнику намерения действий, наиболее опасных для их стороны. В отношении «Иных» из космоса это требование не в военном, а в познавательном смысле. При этом приписывание пришельцам безусловно враждебных намерений вовсе не представляется наихудшей из всех возможных вероятностей. По крайней мере, враждебная позиция четко определена; гораздо хуже, когда мы вообще не в состоянии понять свойств этой чужой позиции, когда не можем объяснить себе чужое поведение.
Стратегия сохранения тайны, будучи оптимальной, требует подробной конкретизации. Нельзя использовать ее так, как это делает теология, оперируя противоречиями. То есть нельзя приписывать пришельцам явно взаимоисключающие намерения, — например, что они одновременно и хотят, и не хотят нас поработить. Но можно создавать видимость такого противоречия, — например, когда пришельцы считают, что делают нам добро, но мы воспринимаем их действия как вредные; здесь открывается область событий, драматургически обещающих многое в виде недоразумений, вызванных резким отличием обеих цивилизационных сторон. Попытки такого рода можно найти в научной фантастике, жаль только, что межцивилизационные недоразумения в ней обычно являются необычайно примитивным ребячеством, которое не имеет смысла рассматривать серьезно. Интеллектуальный вклад автора в конструкцию qui pro quo[168], которое омрачает встречу двух различных культур, должен быть не какой попало. Чем больше разнообразных факторов участвует в таком «недоразумении», тем лучше. Нужно также осознавать, что такая встреча — это не поединок двух героев, а изрядно усложненная игра, в которой участвуют разные, чуждые друг другу по структуре, смыслу и целям действия, — коллективные организации. Огромное количество произведений научной фантастики может служить наглядным образцом того, как не стоит показывать тему вторжения. Тем большее удовлетворение приносит произведение, которому удалось победоносно справиться с этим заданием. Тактику сохранения тайны использовали с прекрасным результатом братья Стругацкие в «Пикнике на обочине», который тем самым уходит как от канона, установленного Уэллсом, так и от традиций научной фантастики.
«Пикник на обочине» основан на двух концепциях. Первая — это уже названная нами стратегия неразгаданной тайны пришельцев. Неизвестно, как они выглядят, неизвестно, к чему стремятся, неизвестно, зачем они прибыли на Землю, каковы были их намерения по отношению к людям. Эта неизвестность так совершенна, что даже нет полной уверенности в том, высаживались ли они вообще на Земле, а если высаживались, то уже покинули ее…
Вторая — это реакция человечества на Посещение, отличная от обычной в научной фантастике. Итак, что-то приземлилось, или — осторожнее — упало с неба. Жители Хармонта трагически испытали это на себе. В одних кварталах слепли, в других — заболевали загадочными болезнями, обычно называемыми чумой, а когда город опустел, там возникла Зона с опасными и непонятными свойствами, резко отграниченная от внешнего мира. Собственно, само Посещение не было каким-то мощным физическим катаклизмом: дома от него не разрушились, и даже стекла повыпадали из окон не везде. О том, что происходило в этой первой фазе возникновения Зоны, из повести можно узнать немногое. Тем не менее этого достаточно, чтобы понять: эти события и их последствия нам не удастся уложить ни в одну из существующих классификационных схем. Люди, которые смогли уйти из Хармонта, поселяясь где-либо в других местах, становились центрами непонятных событий, что проявлялось в серьезных отклонениях от статистической нормы (90 процентов клиентов парикмахера, который покинул Хармонт, гибнет в течение года, причем совершенно «обычно» — в гангстерских перестрелках, в автомобильных катастрофах; там, где эмигрантов из Зоны было больше, пропорционально увеличивалось количество стихийных бедствий, как об этом говорит Пильман Нунану). То есть здесь мы наблюдаем нарушения причинно-следственных связей непонятного характера. Это замечательный повествовательный прием: он не имеет ничего общего с фантасмагориями типа «наития», ведь ничего сверхъестественного не происходит, но в то же время «нарушение принципа причинности — гораздо более страшная вещь, чем целые стада привидений» (как говорит доктор Пильман). Если бы кто-то уперся и захотел найти гипотезы, объясняющие такие эффекты, а это в принципе возможно (допустим, речь идет о локальных возмущениях определенных физических констант, ответственных за типичное в статистических процессах нормальное распределение вероятности; это простейшее объяснение, которое годится лишь в качестве наброска к определению направления дальнейших исследований, а вовсе не решение проблемы), то оказалось бы, что даже если бы он придумал такой физический процесс, который рационально объясняет механизм этих необыкновенных явлений, то ни на шаг не приблизился бы к сути дела, то есть к природе самих пришельцев. Поэтому оптимальная стратегия заключается в том, чтобы отдельные действия пришельцев были такими загадками, решение которых или вообще не объясняет нам природу самих пришельцев, или делает ее еще более непостижимой! И это не высосано из пальца, не выдумано ad hoc[169], для большей фантастичности, как это может показаться, поскольку обычно именно таков характер нашего познания мира: познавая определенные его законы и свойства, мы не только не уменьшаем тем самым количество решаемых проблем, но в ходе совершения открытий начинаем узнавать о существовании дальнейших тайн и дилемм, о которых до этого не имели понятия. Как видим, порядок научного познания может стать сокровищницей чудес, более «фантастических», нежели детские чудеса сказочного репертуара.
Итак, в «Пикнике» все происходит совсем иначе, чем у Уэллса. Его марсианское вторжение — это кошмарный, но одновременно и монументальный крах человеческого мира, это драматическое, все увеличивающееся разрушение цивилизационного порядка от ударов, наносимых явно. Известно, кто враг, известно, как он действует, известны и его окончательные цели (трудно было бы их не домыслить!). Ничего этого нет у Стругацких. Вторжение произошло как бы по-настоящему, его следы в форме Зон действительно нельзя удалить, его результаты Земля не в состоянии ассимилировать, но в то же время человеческий мир продолжает существовать, как обычно. Грозные чудеса, космическим дождем выпавшие в шести местах планеты, становятся центрами разнообразной человеческой деятельности — легальной и нелегальной, — как и любой источник даже очень рискованной выгоды. Стратегию сохранения тайны Стругацкие реализуют очень коварной тактикой — почти микроскопических приближений. О том, что в каких-то лабораториях ведутся опыты с найденными в Зонах «магнитными ловушками», о том, что где-то работают ксенологические институты, рассматривающие природу Посещения, в повести лишь кратно упоминается. О том, что думают о Зонах правительства, как их возникновение повлияло на мировую политику, мы не узнаем ничего. Мы лишь подробно наблюдаем фрагменты жизни сталкера, контрабандиста нового типа, который ночами выносит из Зоны обнаруживаемые в ней объекты, поскольку на них есть спрос. Повесть молниеносными вспышками показывает процесс обрастания Зоны, как чужого тела, вбитого в живой человеческий организм, тканью противоречивых интересов, ибо там действуют и официальные представители ООН, и полиция, и контрабандисты, и ученые, не без участия бизнеса развлечений. Это обрастание Зоны обручем лихорадочной деятельности показано с большой социологической меткостью. Правда, односторонне, — но авторы вправе были направить объективы на такие фигуры, деятельность которых и особенной интенсивностью, и совершенно естественным способом противостоит схематизму научной фантастики. Очарование и удрученность, которые пробуждают в читателе «сцены из жизни сталкера», составляющие стержень повести, — это результат обдуманно ограниченного поля зрения. Несомненно, научная и ненаучная литература, возникшая в результате Посещения, должна быть полем яростных разногласий. Оно неизбежно вызвало также возникновение каких-то новых умственных подходов и течений, должно было коснуться и искусства, и религии, но для нас все ограничивается спорадическими картинами судьбы несчастного, который в драме цивилизационного столкновения играет буквально роль человеческого муравья. Хорошо было бы осознать более широкие аспекты проблемы. Каждый согласится со словами доктора Пильмана, что вторжение является в человеческой истории переломным событием. Таких переломных минут, вызванных хоть и не космическим вторжением, было в этой истории немало, и каждая из них отличалась усилением до крайностей черт человеческой натуры. Каждый такой переломный момент имел свои монументальные фигуры и свои плачевные жертвы. Чем стремительнее вираж истории, тем пронзительнее в нем диапазон между великим и малым, между достоинством и убогостью человеческих судеб. Великолепные морские битвы, которые когда-то решали судьбы империй, характеризовались батальными красотами на расстоянии и подлыми мерзостями вблизи, — достаточно припомнить, что гребцы, прикованные к лавкам на галерах, молча горели в греческом огне, потому что перед битвой должны были сами вставлять себе в рот специальные затычки, которые не позволяли им кричать. Их кошмарные вопли деморализовали бы воинов! Такая битва выглядела бы совершенно по-разному с высот полководцев, преследующих имперские цели, и с точки зрения этих агонизирующих бедолаг, — а ведь эти агонии были неотъемлемой составляющей исторических переломов. Даже такие, следует признать, порядочные и чистые открытия, как рентгеновское излучение, имели и свою чудовищную сторону, потому что первооткрыватели, не зная свойств таких лучей, в результате чрезмерного облучения теряли конечности, которые приходилось ампутировать. Сегодня дети, медленно умирающие от лейкемии, — это один из побочных эффектов промышленного развития в мире, мы знаем об этом, хотя здесь причинные связи и нельзя наглядно продемонстрировать. Я хочу сказать, что ужасные судьбы сталкеров — это не какой-то чрезвычайный курьез, вызванный космическим Посещением, а именно правило «переломных моментов истории», которое разнообразно конкретизирует всегда одну и ту же, всегда неизбежную связь живописного величия и отвратительной убогости. Так что Стругацкие оказались здесь прежде всего — реалистами в фантастике, поскольку реализм в ней — это настойчивое и честное изложение всех последствий принятых предположений. Даже этот дикий развлекательный бизнес, которым обрастает Зона, кажется правдоподобным, да нет, обязательным, ведь составные элементы человеческого поведения в повести те же, что и в жизни, разве что авторское внимание обращено прежде всего на «самое дно космического контакта», — а конкретную форму событиям придает тот факт, что чуда вторглось в пространство потребительского общества. Ведь это не такая формация, которая лишь усерднее других производит продукты, наиболее привлекательные для потребления, как иногда о ней судят. Это формация, которая старается сделать предметом потребительского наслаждения все в своей сфере, а значит, не только автомобили, холодильники, духи, но и секс, и кровь, и даже смерть; которая каждую вещь приправляет по вкусу. В средние века Зоны неминуемо стали бы очагами центробежной паники, бегства, миграционных движений, а потом, кто знает, может быть, и возникновения новых вер, реакции под знаком Апокалипсиса, рассадником пророчеств и откровений. В нашем мире их следует попытаться «приручить» — потому что если их нельзя понять или уничтожить, то можно хотя бы суррогатно потребить. Поэтому Зоны становятся не предметом эсхатологических размышлений, а целью автобусных туристических экскурсий. Ведь именно аппетитом к явлениям, которые когда-то считались лишь омерзительными, можно объяснить поддерживаемую сегодня популярность искусства, заменяющего красоту — гадостью. Таков дух времени, которому подчиняется то, что — как тайна «Иных» — обнаруживает полную независимость от человека. Взятое в целом, говорит повесть Стругацких, Посещение для 99 % человечества прошло без следа, и этим оно противопоставляется всей традиции научной фантастики. Это не банальная оппозиция. Доктор Пильман называет человечество «стационарной системой», потому что привык использовать термины из физики; в переводе на язык историка эти слова означают, что контакт с «Иными» не может, если только не вызывает глобальной катастрофы, внезапно отменить течение человеческой истории, поскольку человечество не в состоянии вдруг «выпрыгнуть» из своей истории и войти — благодаря космической интервенции — в совершенно другую историю. Эту догадку, которую я считаю правдивой, научная фантастика, лакомая на сенсации, обошла молчанием. Так что Посещение в «Пикнике» — это не странность для странности, а введение исходных условий для мысленного эксперимента в области «экспериментальной историософии», и в этом заключается ценность этой книги.
Только в одном пункте я с удовольствием с ней поспорю, — он касается не человеческих дел, нет, их повесть передает безошибочно, — но самой природы Посещения. Дискуссию я предварю четырьмя предпосылками. В соответствии с первой, обязательными для нас являются показанные в книге факты, но не обязательно мнения об этих фактах, разделяемые персонажами повести, даже обладающими дипломом лауреата Нобелевской премии. Это значит, что мы имеем точно такое же право выдвигать гипотезы о пришельцах, как и герои повести. В соответствии со второй, не существует стопроцентно безошибочной техники действий на всех возможных уровнях знания. Ибо такая безошибочность предполагает получение полной информации о том, что может произойти в ходе реализации какого-либо предприятия, а вселенная является местом, в котором получение абсолютной информации о чем-либо невозможно. В соответствии с третьей предпосылкой, и мы, и все другие существа в Космосе используют принцип непротиворечивости в рассуждениях. Это значит, что из двух противоположных утверждений обязательно является верным лишь одно: если «Пришельцы» знают о существовании людей на Земле, то не может быть одновременно так, что они этого не знают. Если у них были по отношению к людям какие-то намерения, то не может быть так, что никаких намерений они не имели и т. д. В соответствии с последней предпосылкой, для объяснения неизвестных явлений следует всегда предпочитать самые простые гипотезы в понимании бритвы Оккама. Если, например, мы живем по соседству со знаменитым магом и за стеной длительное время наблюдаем мертвую тишину, то можно, конечно, объяснять ее множеством различных способов: что сосед растворился в воздухе, что он превратился в пресс-папье, что улетел через окно на небо, но скорее всего мы прибегнем к совершенно банальному объяснению, — что он попросту тихо вышел из дому. И только если удастся эту гипотезу доказательно опровергнуть, мы будем вынуждены искать другую, менее банальную.
Таковы позиции, с которых мы выйдем на встречу с пришельцами[170]. В Посещении следует отличать то, что пришельцы оставили в Зонах, от того, как они это сделали. По мнению доктора Пильмана, представляющего общее суждение экспертов, межцивилизационная пропасть оказалась слишком большой, чтобы люди сами могли ее преодолеть, а другая сторона отказалась им помогать. То, что оставили пришельцы, человечество может себе присвоить лишь как крохи чужой технологии, действующей непонятным образом. Большую часть земная наука не может даже толком исследовать. Что же касается того, как пришельцы передали людям указанные объекты, мнение доктора Пильмана, центральное для повести, поскольку вынесено на обложку в виде заглавия, представляется нам в виде притчи. Человечество оказалось в ситуации животных, которые выбрались из своих укрытий на обочину или на поляну, где находятся непонятные предметы, и копаются в хламе, оставшемся после пикника. Эта притча — проявление убеждений самого Пильмана, а в разговоре с Нунаном он перечисляет и другие ходячие гипотезы о Посещении. Доктор Пильман — серьезный ученый, получивший Нобелевскую премию и открывший «радиант Пильмана». Он — мизантроп, каких хватает среди выдающихся ученых. Такие люди мучительно переживают двузначность своей общественной роли. Они необходимы цивилизации, которая строится на основе результатов их ума, но одновременно относится к ним весьма жестоко. Политические силы отчуждают ученых от их открытий, но в то же время общественное мнение их же делает ответственными за результаты такого отчуждения. Осознание этой ситуации не настраивает на любовь. Оно толкает к бунту или цинизму, а тот, кто считает бунт бесполезным, а цинизм — отвратительным, старается вести себя как стоик. Он привык выбирать наименьшее зло, а когда его пытаются припереть к стенке вопросами, отвечает уклончиво или издевательски. Именно такова позиция Пильмана, позиция по сути оборонительная, которую он занял в открывающем повесть интервью.
В разговоре с Нунаном Пильман уже не так язвительно лаконичен, как с журналистом, так как говорит с глазу на глаз со знакомым, да еще и навеселе. Отсюда склонность к искренности. Другое дело, что Пильман, метко показанный в психологическом отношении, не беспристрастен в своих суждениях о Посещении. Образ мусора от пикника, которым он воспользовался, может быть, и передает ситуацию людей в связи с находками в Зонах, но слишком снисходителен по отношению к пришельцам. Так называемый мусор, объекты, опасные для любой жизни, не были выброшены на каком-нибудь пустом месте. Их бросили посреди города. Известно, что совокупная поверхность всех городских построек не занимает даже одного процента поверхности Земли. Поэтому, хотя Космос и «забрасывает» Землю метеорами тысячи лет, ни один метеор до сих пор не упал ни на один город. Поэтому выглядит так, что Посещение в Хармонте не было делом случая. Можно предположить, что пришельцы высадились в городе, потому что им так захотелось. Устроили пикник не на обочине или на пустой поляне, а на человеческих головах. Это меняет положение вещей. Одно дело — расположиться пикником рядом с муравейником, и совсем другое — облить его маслом из автомобильного двигателя и поджечь. Пикник на обочине, этот образ Пильмана, предполагает полное безразличие к судьбам человеческих муравьев. А вот образ умышленного уничтожения предполагает наличие злой воли большой силы, поскольку пришлось преодолеть большое расстояние, чтобы уничтожить этот муравейник. Безразличие и злая воля — не одно и то же. К сожалению, в повести не сказано, произошло ли хоть одно из остальных Посещений в месте человеческого скопления. Как видим, речь идет о главном вопросе, ключевом для выяснения отношения пришельцев к людям, и о таком вопросе, который наверняка известен всем персонажам повести. Одно Посещение в городе могло быть делом исключительного случая. Два — уже наверняка — нет. Поэтому мы вынуждены сделать следующий вывод. Пикник на обочине явно был бы фальшивым образом, если бы пришельцы высадились, кроме Хармонта, еще и в другом городе. Но поскольку Пильман все-таки использовал именно это сравнение, будем считать, что речь идет об уникальном факте. Это очень важно для наших дальнейших рассуждений.
Доктор Пильман перечислил различные гипотезы о сущности Посещения. Но одну он опустил, хотя она напрашивается. Представляем ее, прежде перечислив доказательства в ее пользу.
1. Поразительны два независимых друг от друга свойства почти всех объектов, найденных в Зонах. Одно таково, что эти предметы сохранили определенные функциональные характеристики, то есть это не инертные, мертвые, бездействующие отбросы или мусор. Второе таково, что эти объекты соизмеримы по величине (и весу) с человеческим телом. Видно это уже по тому, что один человек может почти все их вынести из Зоны на собственном горбу, не проводя никаких работ по демонтажу. Ничто там не нужно отделять или выламывать из чего-то большого, — в снаряжение сталкеров не входят инструменты для этого. Объекты эти разбросаны по отдельности. Если представить, что мы выбрасываем на острова Самоа большое количество промышленных отбросов нашей цивилизации (разбитые автомобили, промышленные устройства, шлак, старые конструкции мостов, использованные станки), то туземцы нашли бы гораздо больше объектов, несоизмеримых со своими телами, чем соизмеримых. Если же в каком-то месте нашлось бы множество вещей, рассыпанных порознь и сравнимых по размерам с человеческим телом, то можно a priori выдвигать правдоподобную гипотезу о том, что насыпанное было предназначено для нашедших. Конечно, всегда можно утверждать, что соизмеримость с телом человека объектов, найденных в Зоне, — дело чистого случая. Но вопрос требует новейшего рассмотрения, когда много «чистых случаев» начинают складываться в многозначительный узор.
2. Среди многих свойств Зоны поражает то, что ее границы четко обозначены и неподвижны. Ни летающие объекты (некий «жгучий пух»), ни любые другие внутренние явления Зоны («комариная плешь», термические удары и т. п.) никогда не пересекают демаркационную линию Зоны. Здесь снова можно утверждать, что эта «самосдержанность» Зоны, которая устанавливает для себя постоянную границу, результат другого «чистого случая». Но a priori более правдоподобной будет гипотеза, что это не так, что Зона «держит себя в повиновении», поскольку содержит что-то, что по плану и по намерениям пришельцев придает ей такую замкнутость.
3. Все объекты в Зонах разбросаны хаотично. Видимо, именно это навело доктора Пильмана на мысль о пикнике на обочине, после которого остался мусор. Действительно, похоже на то, что эти вещи раскидывали как попало. Но также можно считать, что никто их не разбрасывал, а разлетелись они хаотически, когда разрушились емкости, в которых их привезли.
4. Объекты в Зонах часто имеют характер очень опасных ловушек. Бомбы и мины по сравнению с ними — это простые детские игрушки для обезвреживания. Опять нельзя исключить того, что они были брошены где попало пришельцами, безразличными к человеческой судьбе, как и того, что они отнеслись к людям так, как маньяк-убийца относится к детям, разбрасывая в детском саду отравленные конфеты. Хотя допустимо и другое объяснение: что эти предметы действуют не так, как должны, поскольку были повреждены во время Посещения.
5. Среди сил, действующих в Зонах, поражают такие, которые вызывают «эффект вставания из гробов». Человеческие трупы под их воздействием встают и начинают ходить. Это не воскрешение мертвых, наделяющее их снова нормальной жизнью, а «реконструкция по скелету», как гласит повесть, при этом вновь возникшие ткани — это не то же самое, что обычная живая ткань. «Можно, — цитирую Пильмана, — у них (у этих живых трупов. — С.Л.), например, отрезать ногу, и нога будет ходить… то есть не ходить, конечно… в общем, жить. Отдельно. Без всяких физиологических растворов». (Доктор Пильман утверждает, что такое псевдовоскрешение нарушает второй принцип термодинамики; это не обязательный вывод, но не будем здесь спорить с ученым, так как это завело бы нас слишком далеко). «Псевдовоскресительная деятельность» очень важна для понимания сути Посещения. A priori более правдоподобным кажется, что «воскрешение» — результат целенаправленных действий, нежели безадресных. Это означает, что наверняка легче воскресить некоторые конкретные формы жизни (например, земные, белковые), чем всевозможные формы жизни в Космосе. Мы не знаем, верно ли это. Не знаем также, не был ли эффект нацелен исключительно на самих пришельцев (может быть, так действует что-нибудь из «арсенала их дорожной аптечки»). Но, так или иначе, эффект «воскрешения» подтверждает, что пришельцам многое известно о физиологии земной жизни.
Таким образом, мы собрали доказательный материал в пользу нашей гипотезы. Мы утверждаем, что никакого Посещения не было. Наша гипотеза говорит о другом. В окрестности Земли прибыл транспорт, наполненный емкостями, которые содержали образцы продуктов высокой цивилизации. Это был не корабль с экипажем, а что-то вроде автоматически управляемого зонда. Так проще всего объяснить, почему никто не наблюдал ни одного пришельца. Любая другая гипотеза должна быть построена или на том, что пришельцы невидимы для людей, или на том, что они умышленно скрывались. Транспорт потерпел аварию при подходе к Земле и развалился на шесть частей, которые поочередно упали с орбиты на Землю. Сказанное, казалось бы, противоречит открытому доктором Пильманом радианту его имени, радианту, якобы свидетельствующему о том, что Кто-то шесть раз выстрелил в Землю с Альфы Лебедя. Однако никакого противоречия между нашей концепцией и радиантом нет. Радиант — это астрономический термин, обозначающий кажущееся место на небосводе, откуда прибывает определенный рой метеоров. Определение радианта вовсе не является в астрономии определением места, из которого метеоры фактически прибывают. Они могут двигаться по эллипсу или по параболе, а радиант — это точка на небесной сфере, которую видит земной наблюдатель, когда продолжает касательную к такой кривой в направлении, противоположном движению метеоров. То есть, если метеоры называют по имени созвездия, в котором находится их радиант, то это вовсе не означает, что они на самом деле прилетели из того созвездия, имя которого им присвоили астрономы. Так и радиант Пильмана вовсе не говорит нам о том, что все упавшее в Зонах на самом деле прилетело с Альфы Лебедя. О том, откуда прибыли шесть снарядов или зондов, радиант Пильмана ничего не может сказать, хотя повесть и создает именно такое впечатление. Это фальшивое впечатление, вызванное не вполне точным высказыванием Пильмана, когда он отвечал на вопросы журналиста во вступлении. О том, чтобы зонды действительно летели к Земле прямо с Альфы Лебедя, не может быть и речи. Преодоление такого расстояния идеально «прямым» курсом в космолоции невозможно, так как по пути на траекторию полета воздействуют многочисленные возмущения (прежде всего, гравитационные). Также можно математически доказать, что кривую, возникающую на поверхности шара после шестикратной стрельбы в него (когда шар, как и Земля, вращается) невозможно отличить от такой кривой, которая возникает в результате проецирования на поверхность шара фрагмента орбитальной траектории. Иначе говоря, определение радианта Пильмана вовсе не исключает гипотезы шестикратного падения фрагментов развалившегося корабля. Зная радиант метеора и его конечную скорость, можно рассчитать его настоящую траекторию полета, поскольку метеор, как неуправляемое тело, не может произвольно менять курс и подчиняется законам небесной механики. Зная радиант космического корабля, ничего нельзя узнать о его происхождении, курсе, скорости передвижения и т. п., поскольку это управляемое тело, имеющее двигатели, а значит, может выполнять перед посадкой любые маневры, исправления курса, изменения скорости движения и т. п. Одним словом, из так называемого радианта Пильмана не вытекает ничего такого, что помогло бы выбрать ту или иную гипотезу о Посещении.
Конечно, мы не знаем точно, потерпел ли катастрофу звездный корабль. Но принятие этой гипотезы объясняет все, что произошло, причем наипростейшим образом. Почему, собственно, нельзя согласиться с тем, что Посещение не удалось? Если считать необычность вещей в Зонах доказательством высокого мастерства пришельцев, и что это исключает аварию их корабля, то такой вывод будет логически неправильным. Совершенство пришельцев, в результате которого не могло дойти до аварии их корабля, — это не факт и даже не гипотеза, которую можно было бы рационально обосновать, а догмат. Мы считаем, что совершенными до безошибочности могут быть только такие существа, которыми занимается теология. Мы считаем, что не существует безотказной техники. Мы также не утверждаем, что авария произошла наверняка, а лишь то, что ею можно сразу объяснить все, что произошло, вследствие одной, общей причины. Итак, факты, перечисленные нами в первом пункте, вполне соответствуют тому, что Кто-то послал в направлении Земли контейнеры с технологическими образцами. Факт из второго пункта увеличивает правдоподобность первого. Коль скоро Отправители не могли быть стопроцентно уверены в том, что с их кораблем не случится катастрофа при Посещении, они должны были по крайней мере позаботиться о минимализации ее последствий, а для этого поместить на борту такое предохранительное устройство, которое не позволит результатам катастрофы распространиться, но как бы герметически ограничит их в одном месте. Конечно, такое устройство должно выдержать катастрофу. Оно не подвело. Факт из третьего пункта увеличивает правдоподобие аварии, так нет ничего более естественного, чем хаотический разлет содержимого контейнеров, когда они внезапно рухнули на Землю. Факт из четвертого пункта также оказывается результатом той же причины. Не только контейнеры разорвались при падении, но и большинство их содержимого также подверглось различным повреждениям. Произошло все так, как если бы кто-то сбросил на острова Самоа на парашютах контейнеры с продуктами, лекарствами, инсектицидами и т. п., но некачественные парашюты не раскрылись, груз упал, контейнеры разрушились, из-за чего в шоколаде полно гексахлорфенола, в пряниках — рвотные средства и так далее. Жители островов могли бы подумать, что кто-то совершил на них очень злобное покушение, но не так должны думать на их месте ученые. Итак, мы считаем, что грозный характер космических даров не выражает намерения «Иных», поскольку они не забросали нас никаким убийственным мусором для забавы, а в хлам их хорошо продуманную посылку превратил несчастный случай — дефект звездного корабля. (Не будем далее подробно развивать нашу гипотезу; детали могли бы выглядеть примерно так: поскольку от этого корабля не осталось ни следа, то наверняка он не должен был сам осуществлять посадку, а должен был лишь сбросить контейнеры; сами контейнеры в свою очередь вовсе не обязательно должны иметь материальную форму, они могли быть «пачками вещей», удерживаемыми воедино каким-нибудь видом силового поля; эта «упаковка» подвела в решающую минуту и содержимое «пачек» обрушилось градом на Землю.) Авторы повести могли бы нам сказать, что гипотеза «образцов» тоже была отражена в книге; ведь доктор Пильман сказал в беседе с Нунаном: «Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который и будет означать реальную готовность к контакту». Но эта версия, не допускающая возможности прибытия посылки в состоянии фатального повреждения, получает в повести сильно дискредитирующее ее ироническое звучание. Как — объекты, более опасные, чем бомбы, посылают неизвестным получателям в качестве подарков, приглашающих установить связь? Это как если бы кому-то послали приглашение на бал, а в конверт вложили заряд, который взорвется при открытии конверта. То есть по версии повести эта гипотеза компрометирует сама себя в свете чудовищных свойств Зон.
А вот гипотеза аварии, объясняющая события совершенно обычно, кроме того сразу же реабилитирует и «Иных», как Отправителей, и людей, как Получателей данайского дара с небес. Отправителей, потому что они ни в чем не виноваты, и даже предвидя, как и следовало, наихудшую возможность, снабдили посылку предохранительным устройством, благодаря которому любая активность Зон заканчивается, как обрезанная ножом, в определенном месте. Это свойство Зон проще всего объяснить именно предусмотрительностью Отправителей, которые, не имея возможности предотвратить любую катастрофическую случайность, позаботились об удержании ее последствий в рамках. Авария реабилитирует и людей, особенно ученых, поскольку их беспомощность в отношении дара оказывается тем более понятной, что им мешают дополнительные трудности, так как они не знают, что в предметах из Зон является их свойствами, предусмотренными инженерным планом, а что — результатом повреждения в катастрофе.
Не стоит тратить много слов на объяснение того, почему авторы обошли нашу версию Посещения молчанием. Она не могла соответствовать их замыслам, потому что отнимает у произведения его грозный и одновременно таинственный смысл. Но именно в этом умолчании возможности аварии кроется их ошибка. Мы хорошо понимаем, в чем дело. Дискредитации должны были подвергнуться обе стороны цивилизационной встречи. Люди могут использовать дары лишь никчемно или самоубийственно, потому что они таковы по сути, а Отправители отнеслись к ним со смертоносным безразличием, так как высокий разум не интересуют проблемы низшего. Столь крайняя версия темы вторжения также заслуживала раскрытия, тем более, что превосходит все, что создала в этом направлении научная фантастика до сих пор. Но если так, то следовало в повести предусмотреть нашу гипотезу дефектного дара, чтобы затем ее отклонить, то есть сделать невероятной. А вот умолчание как попытка сокрытия этой версии было неправильной писательской тактикой.
Из сказанного вытекают выводы общего характера, касающиеся оптимальной стратегии в теме вторжения[171].
При выборе стратегии сохранения тайны необходимо в обязательном порядке выполнять два условия. Во-первых, нельзя вызывать у читателя подозрение в том, что автор умышленно скрыл от него определенные факты, причем такие, которые известны персонажам повести (ведь все герои «Пикника» должны знать, есть ли еще какая-нибудь Зона, кроме хармонтской, которая накрыла город). Читатель должен оставаться в убеждении, что авторское сообщение является исчерпывающим до границ возможности. Тогда тайну защищает сам ход и образ показываемых событий, представляя как бы непроницаемую маску, за которую не может заглянуть ни один человек. И дальше, этот эффект можно создать только очень точной балансировкой событий. Они не должны быть ни слишком однозначно сконцентрированы, ни подвержены чересчур хаотичному разбросу. Их смысл должен находиться в неопределенном состоянии, как бы на расстоянии от различных альтернатив, не склоняясь определенно ни в одну сторону.
А вот наши замечательные авторы в конце повести переусердствовали в очернении пришельцев. То, что Золотой Шар может исполнять желания, естественно, является наивным преданием, одной из плебейских легенд, возникших после Посещения. Авторы понимали, что им нельзя сделать этот Шар какой-нибудь адской машиной, так как это было бы преувеличением, изменяющим смысл произведения, поскольку это превращало бы мрачный, но все-таки двузначный характер Зоны в однозначность ловушки, преднамеренно поставленной для людей. Поэтому они сделали Шар как бы нейтральным объектом, и не в нем таится смерть, а рядом, в виде «прозрачной пустоты, притаившейся в тени ковша экскаватора», которая удавливает Артура на глазах Рэдрика. Но сопоставление первого похода Рэдрика в Зону (с Пановым) с последним походом (к Золотому Шару с Артуром) обнаруживает «черно-сказочную» структуру этой второй эскапады. Легко заметить эту сказочность: герои должны, направляясь к желанному сокровищу, по дороге преодолеть различные опасные и ужасные препятствия, словно доблестный рыцарь, который отправляется за живой водой или магическим кольцом, а кроме того, Рэдрик еще знает, что подходы к Золотому Шару охраняет таинственная «мясорубка», которую нужно «насытить», принеся ей человеческую жертву. Поэтому он позволяет Артуру бежать первым к Шару, — и Артур действительно гибнет на его глазах, своей смертью как бы на время уничтожая Злые Чары, благодаря чему Рэдрик может пройти к Золотому Шару. Авторы в этом месте обрывают повествование словом «конец», но эта уловка лишь ослабляет положение вещей, но не меняет его.
Авторы утверждают, — я обсуждал с ними эту тему, — что сходство сказочного мотива и опасности Золотого Шара возникает лишь в мозгу читателя, будучи результатом случайности и человеческого воображения. Но, как мы уже сказали, нельзя устраивать слишком много «случайностей», ведущих исключительно в одну и ту же сторону. Ибо тогда не верится в их случайное возникновение. Последнее путешествие в Зону выпадает из жанровых свойств научной фантастики. Реалистическая система событий превращается в сказочную[172], потому что очередные «случайности» совпадают с упомянутым нами стереотипом похода к заколдованному сокровищу, а не должны совпадать ни с каким. Тайна не сохраняется последовательно до самого конца, из-под нее просвечивает истина, потому что мы догадываемся, кем являются пришельцы: это снова чудовища, хотя и в невидимом варианте. Авторы пытаются отвести читателя от напрашивающегося именно такого умозаключения, подчеркивая, например, что Золотой Шар своим положением создает впечатление, будто его случайно уронил какой-то неизвестный гигант, но это — неверная тактика. Не авторский комментарий должен уводить нас от навязываемого структурально решения, а сами события в их объективном виде. Поэтому локально мощный эффект эпилога портит прекрасное целое книги.
Макс Фриш в своем романе «Homo faber» воплотил в современной нам действительности миф об Эдипе, и отец там вступает в кровосмесительные отношения с дочерью так же безотчетно, как Эдип, когда овладел своей матерью. Фриш организовал события в романе так, чтобы все они имели совершенно обычное, реалистическое правдоподобие, и чтобы при этом целое структурально соответствовало мифу об Эдипе. Так вот, разница между подобием «Homo faber» мифу и подобием «Пикника» сказке заключается в том, что у Фриша возникающее подобие было задумано, а Стругацкие этого подобия вовсе не желали. Именно поэтому я говорю, что они «переусердствовали», ибо только сдержанность в организации событий могла спасти финал повести от нежелаемых ассоциаций с действием и тем самым со смыслом сказки. Сохранение тайны в «Пикнике» не составило бы трудности для теолога, который волен оперировать противоречиями. Но наука не имеет таких полномочий, поэтому не будет преувеличением утверждение, что труд писателя-фантаста, стоящего на стороне науки, бывает более тяжелым, чем хлопоты теолога, утверждающего совершенство Божественной природы…
К истории возникновения романа «Осмотр на месте»
(Из писем Станислава Лема Францу Роттенштайнеру[173])
Перевод Душенко К.В.
10.08.79
…Но я уже который день пишу новый long shot story[174]. Вот в чем, однако, загвоздка: понадобилось бы исключительно счастливое стечение обстоятельств, чтобы и Вы когда-нибудь могли его прочесть, так как это, похоже, будет нечто крайне трудно переводимое.
В последние годы я уже раз семь начинал работать над этим сюжетом. Отправной точкой служит «14-е путешествие Ийона Тихого». В новом рассказе, рабочее название которого — «Осмотр на месте», этот текст играет роль камня преткновения: два посольства Энтеропии обвиняют Тихого в том, что в его путевых записках все описано совершенно превратно. Но теперь дело будет серьезное: я хочу исследовать кое-какие проблемы, так сказать, на большой глубине, хотя и в гротескной форме, примерно так же, как в «21-м путешествии»[175]. В то же время это должно быть аллегорией земных отношений (Восток — Запад) и опытом изображения либерального общества, «разводящего» в своей среде обитания «синтэтику» — синтетическую этику, которая служит протезом деградирующих моральных норм. Стало быть, проблема терроризма, анархии и т. д. А за границей — безумное государство комической и кошмарной нищеты, ибо оказывается, что курдли — это псевдоживотные, населенные тамошними людьми; между тем как в другой сверхдержаве молодежь мечтает о чудесной жизни в естественном окружении, которая возможна, если стать составной частью изумительно гигантского курдля. Тихого множество раз похищают, перепохищают и переперепохищают, а ученые, дипломаты, политики и богословы наставляют его относительно обоих этих путей развития цивилизации, причем инфернальное пекло одной державы имеет свое соответствие в другой, только в одном случае речь идет о чудовищном переизбытке, а во втором, напротив, о столь же чудовищной нищете. К сожалению, вряд ли это переводимо, прежде всего из-за специфических, изобретенных мною терминов, — цитируются справочники и всевозможные учебные пособия. Кроме того, показывается, что познание чужого мира есть процесс, который точно так же не может прийти к окончательному итогу — или завершению, — как, скажем, истолкование и постижение нашей собственной, земной истории (каждое крупное энцианское государство имеет свою версию их истории, а сверх того, существуют «спецверсии» для посторонних, поскольку некоторых событий прошлого и настоящего просто стыдятся). Я писал это не обычным путем, с начала, но как прокладывают штольню или туннель — с разных направлений одновременно. Там есть «местные выражения» и их переводы на «земной язык», а также попытки спроецировать энцианские отношения в мир человеческих представлений; и, разумеется, много бессмыслицы, свойственной высокоразвитому обществу. (Основная проблема «Люзании» — чего-то наподобие Америки через пятьсот лет — движение протеста против «облагороженной среды обитания», которая абсорбирует любые дурные поступки; предпринимаются попытки убивать людей, и не потому, что убийца что-то имеет против своей жертвы, а потому, что он хочет взять верх над принуждающей к добру средой обитания, ведь свободным здесь может стать лишь тот, кто перехитрит не имеющее изъянов «умудренное» окружение). Поскольку девиз этого государства — «живи и делай что хочешь», манящим искушением становится попытка самоубийства. Этот план рассказа есть своего рода проекция: речь здесь о том, что могло бы случиться, если бы не было никаких барьеров роста, которые мешают «государству всеобщего благосостояния» осуществить свой заветный идеал окончательно осчастливленного человека. (Там в ходу «гедоматика»: власти занимаются измерением максимально возможного количества экстатических ощущений, какое может быть пропущено по нервным путям индивида на протяжении его жизни; а так как обилие блаженств намного превышает пропускную способность организма, внедряются новые технологии, чтобы ее увеличить; однако до упора осчастливленные ведут себя в точности так же, как подвергаемые пыткам.)
24.08.79
…О себе могу сообщить лишь, что я продолжаю писать свой новый рассказ о Тихом и замечаю при этом, до какой степени я вводил в заблуждение всех тех, кто хотел от меня узнать, как возникает произведение: оказывается, этого я и сам не знаю. Несколько заостряя, скажу: вначале у меня был всякий хлам, старые фрагменты, которые я выгреб из старых бумаг; и сперва я хотел лишь как-то сшить эти лоскуты, но понемногу стал замечать, что сшитое нравится мне все меньше и меньше, так что лоскуты понемногу выбрасывались, а сшиваемый материал разрастался вдоль и вширь. Причем, странное дело, оказалось, что я работаю не над каким-то определенным местом рассказа, а, до известной степени, над несколькими местами сразу, поскольку имеется множество точек зрения, с которых должно быть рассмотрено и скомпоновано целое. В данном случае отправным пунктом стало «14-е путешествие», которое было всего лишь комической историей с «курдлями» и т. д.; статья «Энтеропия» из «Космической энциклопедии», сепульки и прочее — все это была лишь языковая игра, без какой-либо внутренней связи, выдуманная только шутки ради, что теперь меня уже не удовлетворяет. Значит, тут должна быть биологическая (естественная) история планеты, ее политическая история, история цивилизации, соперничества держав, философии, теологии, нравов, морали, культуры, и это не должно быть ни слишком серьезно, ни слишком гротескно, но уравновешено так, как уравновешено серьезное и абсурдно-комическое в «теологическом путешествии к роботам» (двадцать первом). Если перевешивает что-то одно, приходится предпринимать контрмеры: скажем, если это становится слишком уж абсурдным либо ирреальным, рядом я даю нечто противоположное. Вот так я пишу, и то, что было вначале — то есть лоскуты, которые я начал было сшивать, — все более теряет свое значение. И пока я торчу внутри целого, не зная еще, что из этого в конце концов выйдет, я не могу исключить и того, что все написанное отправится в корзину. Ибо — и в этом все дело — меня не устроят ни трюкаческие забавы, лишенные какого-либо глубокого смысла, ни серьезная, однозначная аллегория, и поэтому все, если можно так выразиться, конструируемое мною здание маячит где-то высоко воздухе и опрокидывается то так, то этак. Ведь фантастика ни коем случае не является прилегающей плотно маской (наподобие сооруженного из нескольких слов камуфляжа каких-либо земных, например, политических, обстоятельств) и заслоняющей собою реальность; нет, она имеет много отнесений одновременно и сверх того должна напрямую атаковать некоторые проблемы, которые я считаю совершенно серьезными, полагая, что человечество с ними столкнется в реальном будущем. Но я не могу рассуждать об этих проблемах отвлеченно, как, скажем, в «Сумме»; они должны стать фабулой, чем-то таким, что можно изобразить, что где-то уже случилось. Вот это и есть моя работа, именно так она выглядит. И каждый раз вечером я не знаю еще, что буду делать дальше, однако наутро появляются новые идеи, эти идеи испытываются, и так оно и идет.
9.11.80
Теперь я уже, после основательной подготовки, работаю над новым сюжетом, из которого, надеюсь, получится long shot story или небольшой роман, объемом примерно с «Футурологический конгресс». Исходного материала у меня не то чтобы слишком мало, а, напротив, слишком много, но я надеюсь справиться с этим embarrass de richesse[176]. Лейтмотив, или, скорее, «основная идея» совершенно серьезны, хотя это и будет повесть о Тихом; речь идет о недооцениваемой взаимосвязи между биологией и культурой разумных существ. Но это лишь одна из многих сюжетных нитей.
24.11.80
…Вокруг меня громоздятся горы бумаги, потому что пишу я удивляющим меня самого способом — не от начала к концу, но на нескольких разных фронтах своей повести одновременно! Дело все же идет, и я даже обещал новому краковскому литературному ежемесячнику, которого еще нет, но который должен появиться в 1981 году (ведь теперь надо только потребовать, и власти тотчас идут на уступки), отрывок из этой новой повести, небольшой фрагмент о религиозных верованиях на некой планете (Энции — от латинского ens, entis[177], а ее жители зовутся энцианами, les Entiens, the Entians. Меня интересует, какие культурные ценности возникли бы там, где индивиды не имеют внешних половых органов и размножаются без копуляции).
13.12.80
…Написал уже почти сто страниц; рассказ определенно перерастает в небольшой роман. Отчасти он связан с «14-м путешествием» (с «курдлями» — выдуманное слово, не существующее в польском языке). Тихий приезжает на отдых в Швейцарию и получает дворец в подарок от своего швейцарского поклонника-миллионера, который, оказывается, таким образом хочет спасти свое имущество от ареста по приговору суда. Тихий вынужден задержаться в Швейцарии на несколько месяцев; здесь он знакомится с профессором из «Института исторических машин», предназначенных для моделирования истории инопланетных цивилизаций; ведь согласно общей теории относительности нельзя знать, что там происходит сегодня, между тем дипломатия (земная) должна исходить как раз из того, что там происходит (в сфере политики) теперь; моделирующие машины должны, таким образом, воспроизводить ход инопланетной истории. Результаты плохо согласуются с «14-м путешествием Ийона Тихого» (в том, что касается этой планеты). Тихий получает доступ в архив Министерства инопланетных дел (в Женеве), и лишь здесь начинаются его занятия: тут и история, и культура, и политика, и теология энциан; при этом, понятно, имеется множество «историй» планеты авторства разных историков (как, скажем, у нас есть марксистские истории, различные «капиталистические» истории и т. д.; только учения там другие). В этой библиотеке я все еще и нахожусь…
23.12.80
Я продвинулся до 120-й страницы своего «Тихого» — неплохо, если учесть привходящие обстоятельства… Но, как это порой бывает, когда пишешь, открылась новая глава, о которой я еще четыре дня тому назад понятия не имел. Первая глава — это Швейцария, вторая — Институт исторических (то есть пишущих историю) машин, третья — «Источники», то есть вся библиотека созвездия Тельца в Министерстве инопланетных дел; и теперь совершается собственно путешествие на Энтеропию, экспедиция, имеющая целью установить истинное положение дел. Но мне кажется, что композиция может здесь захромать; дело в том, что в Цюрихе оказались такие милые люди, новые знакомые Тихого (например, его адвокат Спутник Финкельштейн), что было бы не очень-то хорошо бросить их всех на произвол судьбы, позволив им просто исчезнуть. Так что они будут сопровождать Тихого, только не как живые существа, а в «кассетах», в виде программ, которыми он кормит свой бортовой компьютер, и, раз уж так, он захватил в дорогу еще несколько кассет, в том числе господина Карла Поппера, лорда Бертрана Рассела и Вильяма Шекспира; сейчас я как раз пишу разговор этих господ. Только вот я не виноват и ничего не могу поделать с тем, что Шекспир, например, говорит ямбами[178]; итак, книга продолжает разрастаться сама собой, а ведь будет еще и планета. Получился, несомненно, роман, и я (как я уже, кажется, сообщал) условился с издательством «Wydawnictwo Literackie» о заключении договора; книга должна выйти в 1982 году, если я представлю рукопись до конца июля 1981 года (что кажется мне теперь вполне достижимым), если не воспоследует никакой братской помощи извне[179] и если меня оставят в покое мои последние зубы. О еще ненаписанных главах ничего не могу сказать, но уже сделанное недурно, хотя переводческие трудности будут просто безумными, ведь там есть документы, переведенным на «земной язык» машинами и людьми; о Шекспире я уже не говорю…
9.01.81
…Дойдя до 170-й страницы, я стою на распутье: я мог бы закончить роман через какой-нибудь десяток страниц, но, думаю, надо решиться идти в неведомое, иначе все кончится слишком внезапно…
20.01.81
…Трудности, возникающие при написании этого нового романа, теперь того же рода, что и при занятиях композицией в музыкальном смысле слова: надо найти переход от гротескно-шутовского к сумрачно-серьезному; при этом некоторые лейтмотивы, которые в первой части звучали иронически и комически, теперь должны появиться вновь, но уже в мрачной тональности, в противном случае неизбежно фиаско — из-за слишком резкого изменения тона, что было бы фатально. Но при этом форма и содержание должны быть точно стыкованы, слиты между собой.
24.02.81
…Роман претерпел неожиданные перемены: масса сведений — о другом мире, его культуре, религии, философии и т. д. — породила новые обстоятельства, которые мне остается лишь упорядочивать и вкомпоновывать в развитие сюжета. Кроме того, я перечел написанное, что было и в самом деле необходимо, ведь я должен свободно ориентироваться в этом «другом мире»… который очень разросся… Практически все остальное я отложил на потом и все же не могу разделаться с романом: он обнаруживает известную самостоятельность, а я не хочу ни пресекать ее, ни обуздывать, поскольку открываются новые горизонты. В остальном здесь, слава Богу, мало что происходит — положение в настоящее время поуспокоилось…
19.03.81
Роман закончен, и половина уже перепечатана набело… Трудности с переводом будут… исключительно велики. Вполне возможно, что я добавлю еще небольшой «польско-польский словарик», настолько много в романе неологизмов; в этом приложении я также смогу устами Ийона Тихого объяснить, почему этот кишащий неологизмами язык — необходимость, а не пустая игра с фантастическим колоритом… Наконец-то я смогу перевести дух и ответить на все те письма, которые откладывал в сторону на финише, то есть во время ожесточенной работы над завершением книги. Итак получилось действительно нечто наподобие триптиха, со «Звездными дневниками» посередине, а по краям — «Футурологический конгресс» (земное будущее, скажем так) и чужое будущее, которое, однако, служит или может служить нам системой соотнесения.
Часть 3
«Сумма технологии». Послесловие к дискуссии
Перевод Язневича В.И.
Прежде чем я остановлюсь на некоторых затронутых проблемах, не столько для того, чтобы защитить критикуемые идеи, сколько чтобы прояснить некоторые вопросы, я хотел бы поблагодарить редакцию ежеквартальника за организацию этой дискуссии[180], которая была для меня особо ценной именно потому, что за исключением рецензии г. Колаковского в журнале «Tworczos»[181], эта книга не имела каких-либо оценок по существу. Поэтому то, что я услышал, было для меня особенно поучительно, поскольку создало определенную, уже независимую относительно моей позиции, иерархию важности отдельных проблем. Это было тем более существенно, что я не являюсь — профессионально — специалистом ни в одной из затронутых в книге дисциплин; поэтому вообще если биолог, методолог или философ готовы высказать на тему того, что я представил, нечто большее, чем выражения сожаления, если они внимательно анализируют мои тезисы, то такая позиция меня поддерживает — прежде всего с точки зрения того, чем я хотел бы заниматься в дальнейшем.
1. Первый вопрос для обсуждения — это «психозоическая плотность» Космоса. Уже после издания моей книги я прочел новый труд Хойла, который, кстати, возможно сегодня является первым фантастом в науке, если за критерий брать частоту, с которой он оставляет свои старые гипотезы в пользу новых. Речь идет о его новой теории планетогенеза. Задача, которую Хойл себе explicite[182] поставил и указал в предисловии, основана на удалении за пределы картины макромира как можно больше случайных элементов. Строение нашей Солнечной системы может проявлять некие закономерности, например, внутренние планеты являются малыми и тяжелыми, а внешние — большими и легкими и т. п. Возникающие из этого взаимодействия количественные соотношения (массы, расстояния до Солнца) удается также выразить в форме определенных феноменологических закономерностей. Хойл попытался перейти, в понимании г. Мейбаума, к теории объясняющей. Согласно ему, практически никакие «случайности» во время возникновения системы не действовали в таком смысле, иллюстрацией чего был бы случайный разброс стеклянных осколков раздавленного на полу стакана. Поэтому из его теории следует, что тяжесть малых околосолнечных планет и легкость гигантов системы — это результат сортировки материала, выброшенного материнской звездой в начале планетогенеза.
Если говорить упрощенно, это почти как с брошенным камнем — чем он тяжелее, тем ближе упадет. Поэтому существуют, по его мнению, четко и окончательно разграниченные, ибо обусловленные динамическими закономерностями, околосолнечные зоны консолидации групп отдельных элементов в планеты. Также отдельные планетарные пути, в их формировании и расстоянии до Солнца, были обусловлены относительно однозначно; еще у него возникли, кажется, некоторые проблемы с составлением абсолютно регулярных «планетарных закономерностей», ибо он хотел бы еще и того, чтобы все спутники добросовестно выполняли, т. е. строго исходя из предетерминации, условия уравнений. Он, однако, полон надежд. Если бы такая теория «неизменности» сортировки планетогенетического материала, выброшенного звездой, которая расходует для этого свой вращательный момент, была верна, она представляла бы несравненно важный аргумент, поддерживающий космическую распространенность биогенеза, ибо согласно его теории возникновение землеподобных планет с группой «жизнеродных» элементов, к которым принадлежат C, H, O, N, S и P, было бы типичным явлением для всех систем, в которых начальные условия, а именно состав и масса материнской звезды с ее вращательным моментом, были бы приближены к солнечным. Следовательно, если экосферические критерии могли бы быть просто выполнены повсюду, то, в силу обстоятельств, silentium Universi[183] становится уже не то, что удивительной вещью, а просто тревожной загадкой. Принимая, разумеется, в свою очередь, повсеместность возникновения психозоиков из биозоиков.
Исключительно проницательная критика г. Эйлштейн, адресованная эвристическому закону, устанавливающему, что если мы начинаем изучать явление, не зная его статистического распределения, то принимаем a priori[184], что оно «типичное», обычное, опосредованное, не касается теории Хойла, поскольку его рассуждения отнюдь не предполагают предварительно типичности нашей системы. Он пытался просто удалить, насколько удастся, «случайности» из картины генезиса нашей системы как противник гипотезы «космической лотереи», результатами очередных «бросков» которой должны были быть отдельные конфигурации планетарных траекторий и масс в звездных системах. Вопрос в том, насколько можно было бы его теорию экстраполировать на внесолнечные звездные системы; но опять не очень ясно почему, т. е. по какому закону, такую экстраполяцию следует подвергать сомнению. В конце концов, мы всегда являемся в некоей мере «biased»[185], и речь идет только о том, чтобы это наше «bias»[186] минимизировать, как только получится. Гипотеза Хойла объясняет массу вещей, которые не объясняли старые теории, поэтому г. Мейбаума она должна бы удовлетворить, потому что обладает предикативной ценностью (достаточно полететь к паре других систем, чтобы ее проверить), и мне она кажется достойной принятия. Но остается еще только большая проблема в том, почему соседи молчат.
Представляется, что здесь нужны гипотезы не столько что-либо объясняющие, сколько «разъясняющие», в английском языке это explain away[187]. Такие ситуации ученые — и не без основания — очень не любят. Если бы Хойл был прав, наше одиночество, по меньшей мере в категориях биогенеза, т. е. как живых существ, казалось бы уже полностью невероятным. Поэтому следовало бы перейти вместе со всем инструментарием возражений на «более высокий этаж», т. е. оспаривать типичность и обыкновенность психогенеза. Г. Краевский, несомненно, прав, говоря об изолированных обществах, которые открывают сегодня и которые все еще существуют в среднем палеолите. Кажется, что «раннее блаженство», или группа условий, возможно не нарушающих гомеостаза, также опасно для потенциально могущего возникнуть «психозоика», как «позднее блаженство», которое является следствием технологии, слишком усердно исполняющей требования конструкторов цивилизации. Проще говоря, если ничто или только немногое нарушает условия существования, палеолитический уровень может оказаться непреодолимым барьером. Следовательно, отсюда вопросы уже о повсеместности таких факторов и явлений, как планетное оледенение. Но если мы не в состоянии разрешить проблему даже для Земли, то ничего разумного сказать в отношении других планет мы не можем. В любом случае это выглядело бы так, что в раю обезьяны навечно остаются обезьянами, если нет фактора селекции на приспособление к условиям бытия. С другой стороны, в теории Хойла есть место для ледовых периодов, поскольку они возникают, согласно это теории, при определенных движениях планетарной коры, когда происходят перемещения континентальных масс относительно оси вращения; отмечу при этом, что делом психозоиков или биозоиков Хойл вообще не занимается, по крайней мере в пределах построения этой своей новой теории, поэтому речь не идет о том, чтобы он весь материал представлял, имея в виду доказательство повсеместности существования условий земного типа в Космосе. Если же такие условия, как типичные, косвенно, следуют из теории, мы имеем перед собой тайну в квадрате. Несмотря на это, мы еще не должны отчаиваться, и как «сдержанное» отношение г. Краевского, так и крайнее г. Гурвица, то есть его высказывание в пользу редкого психозоического, близкого к галактической сингулярности, еще не противоречат совокупности нашего знания. Поэтому выбор зависит, в конце концов, от личных предпочтений. Впрочем, мне наша уникальность, видится, — и я этого не скрываю — скорее чем-то ужасным, потому что в этом случае мы представляем собой как бы вид локальной аберрации, чудовища в необычайном масштабе, и никакое увеличение числа живущих землян (как процесс, который должен как бы «необычайность» нашего существования уменьшить — если нас столько…) ничего здесь в моем ощущении не изменит. Ясно, однако, что тот, кто бы категорически настаивал на обычности явления, был бы подобен тому, кто утверждает, что если дети имеют, как правило, коэффициент интеллекта около 100, то никаких других детей быть не может. А ведь рождаются как идиоты, так и гении. Может быть, уже обезьяны, которые нам предшествовали, были, согласно космической «интеллектуальной шкале», гениальны. При использовании нормативной директивы эвристического усреднения, несомненно, надо быть осторожным, а это значит: готовым в любую минуту к отступлению.
2. Позицией г. Мейбаума в вопросе «черных ящиков», его радикальностью я был удивлен. Признаюсь, что удивлен больше, чем огорчен, поскольку, когда он во многом меня упрекнул, я оказался в чрезвычайно хорошей компании. Ибо г. Мейбаум предпринял почти фронтальную атаку на современную кибернетику. Если бы каждого, кто «верит» в «черные ящики», назвать агностиком, не знаю, право, кто бы от такого звания уберегся? Но я не хотел бы спорить, прячась за спины других, хотя они наверняка были бы более компетентны, чем я, и не нуждались, вместе со всей кибернетикой, в моей защите. Г. Мейбаум взялся за задачу сегодня неблагодарную, ибо атакует кибернетику, которая очень модна, поэтому он действует как бы в одиночестве, за что я его уважаю, потому что знаю эти неудобства с 50-х годов, когда мода была совершенно другой. Однако г. Мейбаум пробует — боюсь не совсем верно, — определить, что является, а что не является кибернетикой, говоря, что не является ею, например, такая деятельность, когда кто-то пытается подражать действию системы с неизвестной ему структурой действуя посредством другой, тоже «черно-ящиковой» системы. Все же г. Мейбаум должен согласиться, что кибернетика является просто тем, что делают кибернетики, по крайней мере их большинство. Что хуже — для позиции г. Мейбаума, — такой подход как использование «черных ящиков» переступил уже границы кибернетики sensu stricto[188], поскольку именно такую стратегию к явлениям микромира используют физики, считая, как я думаю, правильно, что именно этим способом можно минимизировать всякие предположения, всякие «бессознательные априоризмы», чувственно-наглядно-психологические привычки, от которых ни один человек полностью не свободен. И интересно, что также философы-марксисты охотно оперируют в своей области кибернетическими понятиями (например, Новик). Минимизация предположений следует из того, что исследователь должен только установить, что является исследуемой системой, а также где ее вход и выход (например, при столкновениях элементарных частиц), но ничего сверх того не надо предполагать, в частности, что частицы являются точечными или, наоборот, протяженными, и это дает хорошие результаты. Отказ от метода «черных ящиков» сегодня уже не кажется возможным, хотя не подлежит сомнению, что этот метод может быть использован неправильно, употреблен во зло, но какая же методика эмпирии не используется ненадлежащим способом? В самой же кибернетике господствует согласие специалистов, причем всеобщее, что системы большой сложности, такие как мозг, не удастся построить способами, которыми строят простые машины или дома, т. е. укладывая один кирпич на другой, соединяя элементы согласно тщательно нарисованному плану или схеме идеи. Систему надо «довести» до того порога минимальной сложности, выше которого она бы показала уже «сама» тенденцию дальнейшего развития, т. е. самоорганизации — и ведь тем, что именно такого свойства системы, создаваемые сегодня, не проявляют, они отличаются от мозга, «построенного» эволюцией. Когда же этот порог удастся переступить, развивающиеся градиенты системы следует подвергнуть некоторым ограничениям — и таким образом дойти именно до полностью уже «черных» ящиков, которые делают то, что мы хотим, хотя мы не знаем, как они это делают, т. е. не знаем, что делается у них внутри. Это, между прочим, мечта Гордона Паска, и г. Мейбаум прав, считая его попытки на уровне «грибков» (вроде того простейшего магнетического гомеостата, который я привел) неудачами (ибо, по существу, это не является в полной мере «черным ящиком»). Однако грех этот обременяет Паска, а меня оттого только, что я этим примером воспользовался — по той простой причине, что лучшего не имел. In nuce[189] вся проблема выглядит, как мне кажется, следующим образом: единственное, собственно говоря, и главное неизвестное заключено в параметре времени. Эволюция имела в распоряжении пару миллиардов лет, и результаты мы знаем, ибо ими являемся. Речь, однако, идет о том, удастся ли здесь что-либо «ускорить», потому что у кибернетики, которая могла бы за столь долгий период повторять действия типа «проб и ошибок», этой возможности, наверняка, не будет. Известно, что можно ускорить процессы примерно в таком масштабе, в котором электронная машина выполняет «последовательные» элементарные (скажем, битовые) операции быстрее «естественных». Но если бы удалось миллиарды лет сократить до тысяч, утешение от этого действительно небольшое. Г. Мейбаум имеет право на скептицизм — поскольку никто сегодня не знает, как конкретно наш мозг должен «перешагнуть через себя», строя «умнейшую» систему, т. е. более сложную, отказавшись от предварительного строительства — рисования блок— или идео-схем. В этом неведении мы все равны, но в науке обязывает implicite[190] закон «оптимизм как можно дольше». Пока запретов (в смысле запрещающих законов) никто не открыл, и до сих пор это единственное утешение. Психологически понятна позиция ученых, которые очень не любят, когда кто-то в подобных ситуациях приходит, чтобы им категорично заявить (но, к счастью, голословно), что «ничего не удастся сделать». Что же им остается для реплики? Кроме афоризма Эйнштейна, что «Господь Бог изощрен, но не злонамерен», по правде говоря, ничего. Почему, собственно, он не мог быть злонамеренным в том смысле, что определенные процессы возможно повторить так и только так, как это сделала или делает Природа, неизвестно.
3. Перехожу к вопросам имитации мозга и сознания. Г. Мейбаум и здесь очень категоричен, атакует даже Тьюринга за его «игру в имитацию». Методологические опасности такой позиции велики. Г. Мейбаум соглашается на возможное приписывание сознания машине, которая структурно равноценна мозгу, но отличается от него строительным материалом. Критерий такого выбора он, однако, замалчивает. Нельзя ли поступить совершенно наоборот, и не было бы это проявлением убеждения также эмпирически недоказуемого? Может мозг со структурой, отличной от нашей, например, мозг собаки, обладает рудиментами сознания, поскольку создан из той же субстанции, что и наш? Если бы г. Мейбаум согласился с тем, что собаки или шимпанзе имеют какую-то разновидность сознания (шимпанзе приравниваются по сообразительности к двухлетним детям, которым сознание все-таки приписывается), он должен был бы, наверное, признать, что структура их мозга исключительно похожа на структуру нашего мозга — если хочет дальше настаивать на своей позиции. Но такое расширение класса «систем, наделенных сознанием», открывает уже двери для парадокса лысого во всей полноте: если собаки, то и другие млекопитающие, а если даже мышь, то почему не крокодил и т. п. Г. Мейбаум считает, если я правильно понимаю, что если актер может изобразить пьяного, не будучи пьяным, то есть тождественные состояния входов и выходов могут иметь системы с разными уровнями сознания, из этого следует, что может быть и так: одна система (человек) сознательная, а другая (машина) бессознательная, т. е. лишенная сознания, однако, состояния входов и выходов обеих могут быть тождественны. Однако же из этого примера следует только, что тождественные состояния входов и выходов могут сосуществовать с нетождественными уровнями сознания, и не следует, будто его наличие могло сосуществовать с отсутствием. Вообще тождественность уровней сознания у разных людей, которые делают одно и тоже, является редким исключением, а не правилом. Известно, какими различными способами, что касается приводимых в движение психических механизмов, разные люди решают одну и ту же задачу. Можно было бы попытаться ответить, что они применяют разные программы действия в пределах принципиально аналогичной структуры (мозга). Но если, в свою очередь, взять под увеличительное стекло проблему структуры, вопрос перестает быть однозначным.
Как известно, универсальный автомат Тьюринга, который является инструментом необыкновенно простым, может подражать любому другому дискретному автомату, а следовательно — в принципе — также и человеческому мозгу, лишь следует предоставить ему соответствующую программу действия. Однако любой, с Тьюрингом во главе, признает, что тождественными здесь могут быть результаты деятельности (мозга и автомата), но не само действие, и что автомат Тьюринга абсолютно «апсихичен». Принципиально возможно, однако, создание устройств, находящихся между этими крайностями, которые представляют «несомненно психический» мозг человека и «несомненно апсихический» автомат Тьюринга. Я вспоминал об этом в «Сумме» и это свидетельствовало бы о том, что решение о приписывании данному автомату сознания в полной мере зависит от нас самих и имеет договорной характер. Это во-первых. Во-вторых, фактором, наблюдаемым эмпирически, который позволил бы отличить автомат Тьюринга, изображающий мозг (благодаря соответствующей программе) от мозга, является параметр времени, поскольку то, что мозг делает относительно быстро, такой автомат делал бы чрезвычайно медленно (поскольку является пошаговым и выполняет одновременно только одну операцию, т. е. один шаг, так что даже его «электронная природа» не позволила бы ему «догнать» мозг в таком «состязании»). Однако же на эти вопросы проливают свет чрезвычайно интересные работы Колмогорова и его сотрудников, которые открыли, что конечный, дискретный автомат может полностью представлять любой другой автомат, если количество элементов его памяти равняется CNlnN. Моделирование происходит, однако, с опозданием порядка NlnN раз. Таким образом, оказалось, что принципиально возможно приведение в действие счетных машин (автоматов) параллельного действия и что в таком случае задержки моделирования уже не происходит. Отсюда смелое заключение Колмогорова, что подсознание человека является «параллельным автоматом» такого типа и что, сотрудничая с сознанием, такая двучленная система определяет наши относительно большие возможности в творческой умственной работе, например, в науке или искусстве. Этот подход кажется чрезвычайно важным, поскольку вероятней всего подсознание, если не является Атласом сознания, как этого хочет психоанализ, то является силой, которая его поддерживает и, собственно говоря, создает. Оно, несомненно, «как-то» необходимо для функционирования сознания и, берясь за имитацию мозга, нельзя о нем забывать.
Здесь, однако, возникает (это в-третьих) одно очень принципиальное затруднение.
До сих пор как биологи, так и кибернетики обращали внимание только на нейронную структуру мозга. Однако в последнее время начинают говорить о фундаментальной роли для нервной системы глиозной ткани. Некоторые даже откапывают выражение старого Шляйха почти столетней давности, будто бы глия была «концертмейстером», который играет на «нейронном инструменте» мозга. Благородная простота схемы, в которой выступают только нейроны как достаточно легкие для подражания двоичные элементы, уступает место картине, из которой уже нельзя просто вытеснить ее биохимическую сторону, то есть материальную. Потому что глиозные клетки не являются переключателями типа «все или ничего», это, по меньшей мере, энергетические «вспомогательные подузлы» нейронов. Поскольку же оказалось, что возбуждению нейронов сопутствует изменение количества рибонуклеиновых кислот как в них самих, так и в окружающей их глиозной ткани, неизвестно, идет ли речь о чисто «энергетическом сопровождении» глии по отношению к нейронам, или может и более даже — о некоем непосредственном участии ее элементов в невральных процессах, составляющих субстрат психизмов. За этими экспериментами кроется ужасно бессмысленный, по крайней мере для позитивистов, вопрос о том, не «сидит» ли сознание понемногу также и в глиозной ткани? А если не «сидит», то в любом случае эта ткань необходима нейронной не только в качестве опорных подмостков, как нас недавно этому учили. Итак, не следует ли копировать — в нашем электронном оборудовании — также и глию? Но каким образом? Я считаю, что следует оставить кибернетиков и биокибернетиков с этой ужасной проблемой. Они, несомненно, будут создавать различные устройства и системы, причем любой, кто стремится уберечься от парадокса лысого, должен принять, что место здесь только для условных решений, основанных на принятой дефиниции (что такая и такая система имеет или не имеет сознания). Порой можно оказаться в обществе с лицом, состояния выходов которого такие бессмысленные, что last but not least[191] мы приписываем ему сознание только потому, что этого требуют нормы хорошего воспитания. Следовательно, если бы эти правила соблюдали и машины, мы приписывали бы им сознание. Это не только шутка, в тот смысле, что последним критерием действительно является практика, и если появится множество разумных машин, люди просто для удобства начнут говорить о них так, будто бы они обладают сознанием. Войдут в обиход языковые навыки, и тогда уже тот, кто будет машинам отказывать в сознании, наверняка может быть признан агностиком.
4. На очереди вопрос о «главной задаче» науки. Я думаю, что ею является прогнозирование, но есть и дополнительные требования, которые теория должна выполнять. В общем можно сказать, что наш разум проявляет тенденцию к выявлению единой основы разных явлений, т. е. он ищет инварианты с как можно наибольшей зоной охвата. Это точный факт, который удается вывести из совокупности разумной деятельности человека, особенно в пределах эмпирии, но не только в ее пределах. Итак, разум всегда стремится к выявлению гармонии; тикопийцы верят, что существует две разновидности львов: те, которые атакуют человека — это обычные львы, и те, которые его не атакуют — это львы, в которых вселились души умерших. Таким образом, непорядочное поведение львов, которые иногда съедают человека, а иногда — нет, оказывается приведено к определенной гармонии. Только что вместо выявления реальной связи явлений они дополняют действительность «связью» явлений ей навязанной, которую, как метафизическую, проверить не удастся. В эмпирии существует общая директива включения конкретных «локальных» теорий в область высших систем. Отсюда берутся всякие поползновения унификации, одни из них соответствуют времени, как, например, попытки открытия общего инварианта для микро— и макроявлений, другие же преждевременны — их плачевные результаты показал Нейрат, когда писал о «физикализме» социологии в «Encyclopaedia of Unified Science»[192].
Г. Мейбаум считает, что научная теория должна объяснять, а если, будучи феноменологической, этого не делает, то ученые испытывают неудовлетворенность и не прекращают усилий, чтобы переделать феноменологическую структуру в объясняющую. Он считает, что состав излучения абсолютно черного тела можно оценить, не пользуясь никакой теорией. Не пользуясь никакой теорией, вовсе не занимаясь наукой нельзя, как я думаю, прожить даже неделю. Ибо теорию я понимаю как результат индуктивного обобщения, по крайней мере prima facie[193], в ее эмбриональной форме, поэтому множество теорий воплощается на практике implicite, например, верой в то, что после определенных состояний всегда наступают другие состояния, и потому следует есть, пить, а когда что-то болит — ходить к врачу и т. п. Если г. Мейбаум считает, что тот, кто верит в бактерии, должен верить в вирусы, а кто верит в вирусы, должен верить в атомы, вплоть до необыкновенности частиц и антипараллельности фотонов, то он должен, прямо следуя цели, согласиться с тем, что тот, кто верит в абстрактно формализованные теории, верит и в теории, имеющие форму модели связи явлений, построенные из элементов языка более разговорного, а кто верит в такие теории, должен верить в еще более обыкновенные, именно вплоть до приема пищи, питья и посещения врача, поскольку основная формальная структура всех таких умозаключений тождественна, типа «если… то». Именно тот, кто считает, что жизнь идет сама по себе, а наука — по себе, что одно с другим немного или ничего не имеют общего, грешит против материализма. Это неопозитивисты придумали так называемые «элементарные факты», вроде прочтения состояния измерительных приборов, и признали, что таким способом следует отстроить, то есть из таких «элементарных фактов» реконструировать всю науку, чтобы изгнать из нее противную метафизику. Это утверждение просто противоречит действительности, поскольку никаких элементарных фактов нет. Еще перед войной у нас Вундгейлер-Койраньский показывал циклический характер физических определений. Как и везде, в методологии необходима мера, потому что стремление добраться до «первооснов» мстит, выводя столь ненасытного на бездорожье.
Г. Мейбаум в своих работах писал вещи удивительно похожие на те, о которых я здесь говорю. Например, что обобщения имеют плавные переходы от обыденных до весьма абстрактных описаний. Итак, я повторил это за ним, но против него, поскольку приведенной оценке возможности измерения излучения он отказал в теоретичности. О том, что феноменологическую теорию от объясняющей не отделяют никакие четкие границы, свидетельствует великое множество примеров. Например, теорию дисперсионных связей многие физики принимают уже «солидной», т. е. объясняющей, а другие, такие как Тамм — феноменологической. На чем, собственно говоря, основано объяснение? На внедрении данной теории в теоретическое здание всей науки или в качестве ее адекватной ветви. Но это внедрение не является результатом всегда одной и той же операции. Одна и та же теория может быть по отношению к одним явлениям феноменологической, а по отношению к другим — объясняющей. Например, теория Ньютона объясняет законы Кеплера, которые имеют феноменологический характер, ибо определяют поведение планет, но не открывают, почему планеты движутся именно так. В свою очередь, сама теория Ньютона, в сопоставлении с теорией вероятности, оказывается феноменологической, поскольку не объясняет особенностей гравитационного пространства, а только принимает его как данное, зато эйнштейновская теория ставит в зависимость метрику пространства от наличия притягивающих масс. Таким образом старая теория, введенная в границы новой, «разоблачает себя» (но только тогда) как феноменологическая. До тех пор, пока это не случится, мнения специалистов могут быть — и являются в этой мере — разными. Чем руководствуются — в таких ситуациях — специалисты? Очень часто их позицию предопределяют факторы психологической природы. Так, например, Эйнштейн считал квантовую механику феноменологической теорией, отказывался согласиться с ультимативным статистическим характером микроявлений («Господь Бог не может играть с миром в кости»). Сейчас эта ситуация повторяется в вопросе о таких процессах, как дисперсия элементарных частиц: обязывает подход, который некоторые называют «кибернетическим», «черно-ящиковым», поскольку гейзенберговская матрица S есть ничто иное, как именно «черный ящик» с входом и выходом. На входе мы имеем частицы перед столкновением, на выходе — после столкновения, а то, что происходит во время самого столкновения, находится «внутри черного ящика» и ничего об этом не известно. Prima facie мы имеем, следовательно, феноменологическую теорию. Мы имеем перед собой «черный ящик», и проблемой будущей теории будет «заглянуть внутрь него». Дело, однако, не такое простое. Если мы имеем дело с макрообъектами, как, например, Хойл в своей теории планетогенеза, о которой я упоминал, то определить, что именно является исследуемой системой, относительно легко. В микрофизике такие определения, по крайней мере, возможны, но они намного труднее, и можно себе представить столь радикальное переименование всех выступающих в теории «существований», что матрица Гейзенберга вообще исчезнет (т. е. ее вовсе не будет в новой теории), и тем самым исчезнет и этот «черный ящик», во внутрь которого мы хотели добраться. Похожий «черный ящик», внутренности которого никто уже не пытается даже изучать, это эфир. Потому что абсолютно возможно, что мы задаем вопросы, на которые нет ответа — не потому, что теория является феноменологической, а потому, что действительность иная, чем мы ее себе представляем. Если кто-то хочет обязательно узнать, каковы размеры электрона, причем с «абсолютной точностью», чего ведь соотношение неопределенности в принципе не запрещает, он будет осыпать бранью все современные теории, называя их феноменологическими, а между тем вовсе не известно, можно ли вообще говорить об абсолютно точном определении размеров электрона. Скорее всего одинокий электрон, подставляющий бока для измерения, также невозможен, как perpetuum mobile[194]. И потому может быть и так, что теория «сама в себе» вовсе не является феноменологической, а только нам, в следствие определенных психологических привычек, это кажется.
Тем не менее определенные теории, уже устаревшие, недвусмысленно проявили свою феноменологическую природу. На чем она основана? Такая теория является информационным «островком», указывает инвариант некоторого класса явлений, но ничего более, то есть мы никуда не можем перейти из этого места — присоединить его к просторному материку уже соединенных теорий. Только когда удастся присоединить теорию к этому материку науки, благодаря переименовывающей трансформации или благодаря введению новых «существований» (в оккамовском понимании), мы сможем ее принять как объясняющую. Таким образом, речь идет о том, чтобы было возможно кружение информации по всем теоретическим лабиринтам здания науки, чтобы мы могли, например, один вид энергии заменять другим, переходить от сингулярных до плюральных понятий, от микро— до макромеханики, без совершения математикой акробатических штучек, о которых мы знаем, что они служат не для объяснения действительности, а только для объяснения выходок теории, из которой следуют необычности, вроде бесконечного электрона. И только когда становится возможным такое кружение, так что мы можем к присоединенной Новой Земле применять освященные законы сохранения, мы удовлетворены.
О том, каковы последствия внедрения теории в теоретическое здание науки, отлично свидетельствует история, разыгрывающаяся в настоящее время. Вал Фитч и Дж. У. Кронин в прошлом году установили, что нейтральный K02 — мезон иногда распадается на два П — мезона вместо трех П — мезонов, чего требует закон сохранения комбинированной четности. Итак, примирить с открытием этот закон, а также такой тип распада K02 — мезона можно или путем отказа от закона обратимости хода времени (ибо для всех известных проявлений действия сил — ядерных, электромагнетических, слабых влияний и гравитации, время «не имеет стрелок», а значит в принципе обратимо), или путем требования существования нового вида силы. Эта сила вызывала бы именно такой распад K02 — мезона, какой они обнаружили. Поэтому речь шла о том, пожертвовать ли одним из старых законов сохранения или же ввести новое «бытие» (в оккамовском смысле). Большинство физиков решается на введение этого нового «бытия», новой, пятой по очереди, силы, которая была бы слабейшей из известных (слабее гравитации). Эта сила имела бы два знака, один для материи, второй — для антиматерии. На этом примере видно, при каких обстоятельствах, а также каким образом вводится понятие новой «силы» в сферу физических теорий. «Силой» в таком понимании является фактор, способствующий тому, что определенное явление происходит иначе, чем этого ожидали — на почве принятых уже и освященных законов сохранения.
Проблему можно представить и так. Теории являются инвариантами определенных классов явлений, представленными связями таких «существований», как «естественный отбор» с «мутациями» или «квантов» с «излучением». Таким образом, не происходит так, чтобы инварианты, в свою очередь, создавали класс, имеющий свой, высшего порядка, инвариант и так ad infinitum[195] вплоть до «гностической кульминации» или «ультимативной формулы Космоса». Так примитивно эйнштейновский Господь Бог за дело не брался. Несмотря на это, такие инварианты находятся в абсолютно определенных отношениях друг к другу, причем мы стараемся эти их связи сделать однозначными, и именно это является внедрением новой теории в здание уже существующих. Вопрос о «объективном существовании» инвариантов можно интерпретировать по-разному. Так, например: «Каждый ли, кто проводит те или иные эмпирические исследования, а также использует те или иные эвристические гипотезы, откроет существование квантов?». Нет ничего проще, как перевести этот вопрос в чистую тавтологию («Каждый ли, кто кладет яблоко в ящик стола, найдет его в нем, когда ящик выдвинет?»). Речь идет о том, дает ли объективная действительность привилегии точным эвристическим гипотезам или же можно приспосабливать к ней самые разные? Все же несомненно, что она тогда даст привилегии, когда тот, кто разрабатывает теорию, уже что-либо знает, а ведь ученый знает не что-либо, а целое множество вещей (в том смысле, что его базой является здание уже построенной науки). А если он ничего не знает, тогда вообще нельзя теоретизировать. Но это похоже на уклончивый ответ. Мы твердо спрашиваем: «Является ли формула E = mc2 подтверждением объективной связи явлений?» Все же да, но в рамках точного раздела физики. Образно: что-то в ящике стола есть наверняка. Если мы откроем ящик ключом А, то найдем яблоко, если ключом В — грушу, если С — ананас. И если мы спросим о том, какие будут практические, эмпирические последствия «открытия ящика любым из ключей, которые подходят к замку», ответ прозвучит: «как „пища“ для эмпирических действий, любой из найденных в ящике „фруктов“ будет иметь ценность (информационно) тем более приближенную к другим, чем больше были похожи друг на друга ключи». Итак, опять субъективизм? Нет, поскольку это все частичные образы. Эмпирические результаты двух физик тем более друг на друга похожи, чем дольше эти физики развивались, т. е. чем шире линии раздела важности их теорий. Тогда можно уже говорить об аппроксимации физик, которые «с разных сторон» (выходных состояний) подходят к одному и тому же миру. Но тем меньше будут похожи эти физики, чем меньше будут сравнивать их «фрагменты теории».
Каким образом мы узнаем новый район города, в котором не были много лет, который так вырос за время нашего отсутствия? На феноменологическом этапе нам говорят: «садитесь, пожалуйста, в автобус номер такой или такой, и считайте про себя остановки „раз, два, три“ вплоть до восемнадцатой — тогда выходите, и это уже будет рынок». Но мы хотели бы знать, каким образом можно добраться до этого рынка с разных сторон, окольным путем или коротким, напрямик, и почему в новом районе чувствуется запах воды, и почему ветры дуют чаще с запада и т. д. Мы начинаем прогулки, пока не узнаем топологию района и его возможных соединений (улиц) с известным до этого городом, ориентируемся, что находится он на берегу реки, известной нам из других источников, отсюда эта вода и т. п. И, следовательно, если изолированное знание можно внедрить в здание испытанной конструкции, или, чтобы быть «модным», если можно достичь соответствующей связи «выходов» и «входов» новой теории с совокупностью полученной информации, мы получим «объяснение». Разумеется, если бы кто-то непременно захотел, то можно согласиться с тем, что даже с завязанными глазами он попадет из района Белан на площадь Конституции, узнав «суть» (топологическую) Варшавы. Не знаю, однако, чем такое утверждение отличается от утверждения, что он просто отлично ориентируется в Варшаве. Г. Мейбаум спрашивает, «почему просто не принять, что мезоны именно такие, как это принимает современная наука, а странность частиц является параметром таким же реальным, как масса или температура?». Что касается этой температуры… Представляю себе мину моего профессора физики, если бы он встал сегодня из гроба; разумеется, его первый вопрос касался бы именно физики. Он бы спрашивал, как там с гравитацией, с температурой? «Итак, разумеется, температура — ответил бы я — конечно, в принципе ничего не изменилось… только существуют теперь температуры ниже абсолютного нуля, и эти температуры необычайно высокие; к ним переходят через бесконечность». Я опасаюсь, что мой профессор был бы одним из наиболее потрясенных людей на свете. Что-то в понятиях изменилось, чаще всего их суть в связи с расширением области применения. А значит, идет ли речь только о том, чтобы установить, что не изменяются названия, как «пустые шкуры», которые заполняет то и дело новое содержание? Сравнивая с экзистенциальной точки зрения бактерии с мезонами, г. Мейбаум облегчил мне задачу. Как известно, существуют также виртуальные мезоны, которые с точки зрения физика являются такими же добропорядочными частицами, как обычные мезоны, а отличаются тем, что их никто никогда не увидит, по той простой и абсолютно достаточной причине, что они нарушают закон сохранения (энергии), но делают это так быстро, что не нарушают его. Эти занимательные частицы, которые были введены именно как ненаблюдаемые, очень помогли теории, которая получила возможность прогнозирования в неплохом диапазоне. Определение разницы между обменом таких частиц с заменой души умершего между двумя львами является неплохой задачей для семинара по эпистемологии. Обе теории «объясняют», но только первая имеет возможность прогнозирования. Вторая позволяет только объяснение ex post[196], и потому не является эмпирической теорией. Сегодня верится в виртуальность, хоть я не знаю, что это значит, кроме согласия на выполнение точных операций на бумаге, карандашом, и в беватроне, приборами. Есть еще такое заблуждение, что теорию можно каким-то образом соединить с другими. Предположим, что благодаря введению виртуальности, можно будет строить квантолеты. Эти прекрасные корабли будут существовать как можно более объективно, но получится ли из этого аналогичная объективность виртуальных частиц? Существовал ли когда-либо атом Резерфорда — Бора с ядром-солнышком и планетами-электронами? А ведь если бы мы разговаривали лет сорок назад, г. Мейбаум строго бы требовал, чтобы я поверил в его «объективность». Почему можно высказываться об объективности существования сегодняшней физики, а вчерашней нельзя? Чем одна физика отличается от другой? Г. Мейбаум считает, что конструктор замучен «перманентной революцией», господствующей в физике, и «отдыхает» в философском субъективизме. Я догадываюсь, что г. Мейбаум рассчитывает на конец революции, после которого придет определение, уже точное, таких действительно объективных микрофизических существований. Так ведет себя муж неверной жены, который принимает ее приключения за «исключительную ситуацию» и не может дождаться возвращения «верности как нормы». А может с тех пор нормой будет «неверность»? Тридцать лет мы слышим, что «вот-вот» появится теория, которая для физики элементарных частиц будет тем, чем для химии является таблица Менделеева, но что-то ее не видно. Революция более глубокая, чем это может показаться. Я много говорю об этом, поскольку хотел бы быть правильно понятым. Я вовсе не являюсь «шаденфрейдистом» и не считаюсь агностиком. Однако я лично хотел бы, чтобы удалось достичь такого четкого интегрирования физики, о котором специалисты давно мечтают. Тем не менее ситуация следующая: если поочередно используемые теории сменяются медленно, предположим, во временной шкале это более менее равно длине жизни или скорее активности отдельного поколения физиков, тезисы об «объективном» существовании — то есть совершенно тождественном с существованием, например, слона — обозначений различных операционных понятий представляются весьма вероятными. Впрочем, это также и удобно. Трудно говорить постоянно «этот комплекс взаимосвязанных переменных (плюс гипотеза коллег Икса и Ипсилона), называемый гравитоном, сохраняется так и так». Далее удобней говорить просто «гравитон». Однако, когда темп изменений возрастает и когда возникает ситуация сосуществования теорий, каждая из которых объясняет явления не только в определенном разделе параметров, но и с точки зрения четких аспектов, присущих только этому явлению (случай комплементарности) и когда такая ситуация длится очень долго, то именно материалист, который безусловно добивается «существований объективных раз и навсегда», придет в отчаяние, а не так называемый «агностик», который будет его утешать, говоря: «посмотри, мы действительно не знаем, существуют ли новые „супероны“ объективно, но благодаря их внедрению удалось привести в движение водородно-гелиевые реакторы, и мы имеем электричество даром». То есть вчерашние «объяснения» сегодня являются неправдой. Зато вчерашние неточные прогнозы вчерашней теории и далее являются неточными прогнозами, и при этом мы имеем новую теорию, которая точнее предсказывает.
Чтобы закрыть наконец разногласия между материализмом и агностицизмом, я хотел бы сказать, что происходит. Материалист должен согласиться с тем, что человек не создавался той с целью, чтобы он мог познать абсолютно все, а появился в результате естественного отбора на оптимальную приспособляемость в пределах относительно малочисленной группы параметров, среди которых фактора селекции (300 тысяч лет назад) на «исследование сущности мезонов» не было. После чего оказалось, что дальновидность мозга как преобразователя информации, необходимая для преодоления ситуаций типа «рисование сцен охоты на мамонтов», уже достаточна для построения цивилизации с космическими ракетами включительно. Это, разумеется, очень утешительно, но из этого по-прежнему не следует, что человек может точно познать все виды возможных закономерностей, какие только имеются в Космосе. В книге я высказал мнение, что человек будет должен построить между собой и Природой ряд «усилителей интеллекта», чтобы так поднять ими задачи, с которыми его интеллект не справится, как подъемником лебедки поднимает грузы, с которыми не могут справиться его мышцы. В этом, и только в этом смысле мы можем рассчитывать на то, что познаем «все», и мне кажется, что для агностика я таким образом проявил просто бездонный познавательный оптимизм. Однако же, как это ни странно, материалиста и это не удовлетворяет! Он считает, что человек еще должен все понять в смысле получения «объяснений», в смысле «понимания сущности явлений» таких, которые будут освоены во всей своей огромнейшей сложности только усилителем «n — ой степени», может быть таким же большим, как Луна[197]. Итак, возможно, понадобится пятьдесят лет только для выслушивания теории, созданной этим усилителем? Материалист уверен, как видно, что каждую теорию в любое время удастся сократить до настолько простой формы, что человек сможет ее «понять» в смысле «объяснения» «сущности» определенных явлений. Однако такая сокращаемость является исследовательским постулатом, а не догматом веры. Я часто спрашивал людей, считающихся материалистами, откуда эта их уверенность, что человек всегда сможет «сам» овладеть всем умственно? Они говорили что-то о материи, из которой построен наш мозг, такой же как та, которую он изучает, но мозг курицы тоже из той самой материи. Мне кажется, что между формулировками «сокращаем, пока удается!» и «наверняка всегда будет можно сокращать» такая же разница, как между позицией ученого-эмпирика и фидеиста. Материализм столь безотносительно «познавательно оптимистический» также сильно пахнет антропоцентризмом. И не для того Бог был низвергнут с пьедестала, чтобы поставить туда человека и вдобавок одарить его аналогичными атрибутами. Представленную конкретно в «Сумме» картину «выращивания информации» я защищать и не думаю. Захватывающей показалась мне попросту идея подражания деятельности эволюции как большой системы, которая абсолютно «бездумно» собирает информацию, селекционирует с точки зрения полезности, преобразует, запоминает и передает. Остальное является, возможно, бредом, не стоящим даже капли милосердия, а если стоящим вообще чего-то, то это рассуждения: не удастся ли преобразовать всю эту концепцию в более разумную версию.
Добавлю, что насколько я слышал, Эшби в последнее время отошел от концепции усиления разумности в ее «сильной» версии, которая основана на тезисе, что «селекция является всем», зато сами «мысли» являются ничем, если можно их производить гектарами даже генератором шумов. Возможно потому, что я уважаю Эшби, я не хотел в книге критиковать это спекулятивное рассуждение, но мне казалось, что основная трудность была не столько устранена, сколько передвинута «на одно место дальше». Не сидит ли именно в центре этого усилителя какой-то демон, кузен максвелловского, то есть не происходит ли так, что весь труд «созидания теории» перекладывается с «генератора идей» на их селектор? Ибо если генератор не должен быть «мудрым», то, в свою очередь, неимоверно мудрым должен быть тот, второй — а из-за этого дело не сдвигается с места ни на волос.
Что касается кризиса математики, то здесь г. Мейбаум неправильно меня понял. Речь шла даже не о том, что с определенным явлением математика вообще не справится — т. е. любая математика, — сколько о том, чтобы математику, понимаемую как систему формальных операций, заменить «естественной математикой» мозга жабы или попросту атома — именно этому должно, в частности, служить «выращивание информации». Эту идею в виде шутки можно найти у Инфельда, рассказывающего, что когда однажды они вместе с Эйнштейном бились над нахождением интеграла, тот сказал: «У Господа Бога нет наших проблем — он интегрирует эмпирически!». Быть может, идею такого «эмпирического интегрирования» никогда не удастся осуществить, но она соблазнительна, и это лучше, чем perpetuum mobile, поскольку ее не запрещают никакие физические законы.
Чтобы завершить это отступление: опасаюсь, что тотальное фиаско всяческих попыток «усиления интеллекта» или «автоматизации информационных трансформаций» на креативном уровне (в смысле индуктивного созидания новых теорий) весьма четко объяснило бы захватывающее нас в настоящее время silentium Universi. Ибо окажется, что помешал на каком-то отрезке пути развития интеллектуальный барьер. Какой-нибудь непреодолимый барьер на нашем пути вовсе бы меня не удивил. В свою очередь, действительно оказалось, что хватило энергетических запасов, чтобы перейти от угля к атому, что смоделированный земными условиями человеческий организм может одолеть не только условия космического пространства, но и перегрузки, неизбежные во время преодоления гравитации, однако можно ли принять такие факты за нечто иное, чем счастливое стечение обстоятельств? Альтернативой все же является только гипотеза некоей Высшей Благосклонности!
5. Мне действительно стыдно, что так немного могу сказать относительно высказывания г-жи Эйлштейн, которая разные мои интуитивные прозрения и сплав понятий вывела на чистую воду. Уже сам факт, что моя книга могла оказаться толчком к столь скрупулезному рассмотрению, принес мне большое удовлетворение. Замечу, что «тавтологическая онтология» была шуткой, когда и я дошел до того, что для изучения старой подметки — чтобы извлечь из нее всяческое знание — оказались бы необходимы беватроны, гигатроны и космотроны, кроме того, всегда происходит двусторонняя связь (подметка саму себя не узнает никогда, это точно, и хотя эта аксиома тривиальна, приятно осознать, что существуют и такие, которых отличает действительно всеобщее согласие), и значит, кроме подметки, мы имеем еще мозговой, «второй кусок» материи, а если мы имеем его, значит implicite имеем уже целую цивилизацию, которая допрограммировала своих ученых… Поэтому я не пытался развивать эту проблему.
На очереди проблема «заключения в раю». Г-жа Эйлштейн допускает, что в моих чисто литературных произведениях я обошел молчанием картину Земли и перенес группы исследователей туда, где в конфликтных ситуациях они могли бы проявлять вечные человеческие добродетели самоотверженности, героизма и т. д., поскольку на Земле в это время уже «слишком хорошо», то есть наступило тотальное и даже чрезмерное удовлетворение человеческих потребностей, ликвидирующее вместе с тем всяческие требования, которые выдвигает коллектив личности и вызывающее совершенный маразм; когда все можно иметь, значит все «слишком легко», а такое отсутствие направленных мотивационных усилий, которые формируют и вырабатывают характер личности, может проявляться только при исчезновении всяческих общих стремлений. Одним словом, совершенный гомеостаз, совершенная стабилизация являются полным застоем. Все же эта проблема имеет два аспекта: литературный, т. е. художественный, и эмпирический. Известно, что ситуации, лишенные явной динамической структуры и имеющие — в отношении «переживаемого» — характер точных «состояний» (например, состояние экстаза), литературно просто не «фотогеничны». Представим себе какой-либо коллектив, который приобрел, в совокупном рассмотрении, характер совершенного механизма, все там идет как в часах и, неважно каким способом, все там абсолютно «счастливы». При этом господствует полная опосредованность в том смысле, что «динамический путь» каждой личности является типичным для «пути» коллектива как системы. Так вот, литература там невозможна, по крайней мере, такая, которую мы знаем и можем себе представить, поскольку каждое произведение давало бы ноль информации (если все переживают абсолютно то же самое и в совершенно тождественных ситуациях). Значит, если бы даже «фелицитометр»[198], приложенный к планете, показал некую кульминацию всерадости и всеблагосостояния, для литературы, повторяю, там попросту нет поля для деятельности. Эта крайность скорее всего неправдоподобна, но я имел в виду только представление того, что констатация «литература здесь невозможна» вовсе не должна совпадать с констатацией «людям здесь очень плохо, потому что им слишком хорошо». Теперь аспект «прогнозный», или же проще — предметный. Речь идет о «сложности бытия», высказанной как антидот «чрезмерного всеоблегчения» жизни. У меня есть чувство, что каждый коллектив, входящий в состояние «чрезмерного удовлетворения потребностей», абсолютно «непроизвольно» защищается от «уравниловки» и начинает создавать себе различные ритуалы, соревнования, церемонии, «усложняющие бытие» таким образом, что группа индивидуумов подвергается расслоению и структурированию. Более явно это происходит тогда, когда мы имеем ситуацию отчуждения от процессов, делающих человека как-то ответственным перед коллективом, например, за результаты труда. Моделью здесь может быть почти любой правящий двор из различных исторических эпох. Материальные потребности придворных удовлетворены «чрезмерно», ничего — в «продуктивном» смысле — эти вельможи не делают, главным занятием являются интриги, приобретение господской милости, и это может иметь характер полностью «иррациональный» в том смысле, что этой милостью даже реально не удастся воспользоваться, что это какие-то титулы, не дающие никаких прав, какие-то полностью фиктивные звания и т. д. При этом происходят действия «положительные» и «отрицательные» (возвышение или сталкивание вниз других по шкале коллективно принятых ценностей). При этом данная группа имеет собственную систему ценностей (положение имущественное, генеалогическое, эротическое), индивидуальная же важность переживаний безусловна психологически и условна при сравнении разных групп (их систем) друг с другом (можно впасть в отчаяние и даже совершить самоубийство, ибо самый близкий человек попал в руки палача или не досталось приглашения на бал). Итак, похоже на то, что есть какая-то элементарная система (в условиях «конфигурационного» или «фазового» пространства) удовлетворения естественных (физиологических) потребностей и кроме того уже обусловленные функционально групповыми ситуациями системы «производные», как бы «параллельные», выше и выше от того «экзистенциального нуля»: есть надо обязательно и этим никто не похвастается, но есть омаров, это более «возвышенно», чем есть вареники и т. п. Можно это выразить еще и так: человек обладает четким, обусловленным биологической конституцией, «потенциалом реагирования» (из немецкого: abreagieren) — и старается как-то его «осуществить», «выжить» в таких конкретных формах, в которых ему это позволяют нормы его группы.
Если все это вместе, что я рассказал, проецировать в свою очередь (обратно) на плоскость литературы, то, в зависимости от принятых условностей, одни иллюстрации переживаний, реализующиеся в определенных формах, «достойны описания», художественного воспроизведения, а другие — нет. (Зависит это, между прочим, от актуального «идеала красоты» — поэтому в старинных романах только некоторые болезни героев были допустимы: выше пояса и т. п., но я не могу здесь в это вдаваться). Одним словом, группа вообще противопоставляется ситуациям, уравнивающим ее членов, и такие процессы могли бы также происходить в ситуациях «полного электронного замещения». Однако современный читатель чувствовал бы комичность таких ситуаций, даже если бы с другой стороны они были психосоциологически абсолютно правдоподобны.
Теперь, чтобы посмотреть на эти проблемы с другой стороны — то, что в романах прекрасно, что дает переживание эмоциональное и эстетическое, может быть — как предложение для читателя, чтобы он сам пережил аналогичную ситуацию — в наивысшей степени отталкивающим. Героизм может быть красивым снаружи, но «изнутри» чертовски неудобным, неприятным — ведь понятно, что писатель, действующий как «селектор», будет искать неизбежные ситуации, отличающиеся от тех, которые ищет «прогнозист» или просто исследователь, вообще не занимающийся аспектом эстетических явлений.
Все вместе это приводит к тому, что мой очередной выбор как писателя (литератора) не обязательно совпадает с выбором этого «эмпирика-прогнозиста».
Что можно сказать о «сложности бытия» сверх того, что уже сказано? Итак, ситуации, как мы уже видим, при рассмотрении «красивые», даже «захватывающие» — в подлинном переживании могут быть весьма неприятны. А ведь речь идет не о том, чтобы общественные процессы были генератором «красивых», т. е. моральных, достойных высочайшего восхищения и эстетически прекрасных форм, а в основном о том, наверное, чтобы людям попросту «как-то», т. е. «по возможности лучше» («менее интересно…») жилось, и первое вовсе не должно быть тем же, что и второе. Можно сказать, что существует, вероятно, некий минимум (нуль?) жизненных сложностей, или сопротивлений для преодоления, который «духовно разлагает», (группа защищается, создавая автоматическую шкалу «позиций» для оценивания и для создания «протеза» сопротивлений, если их в реальности объективно не хватает), некий максимум (например, во время оккупации: ситуации неустанно расслаивали на «героев» и «тряпки» — когда приходилось выбирать между смертью, муками в «отношении порядочности» и изменой, отступничеством, дезертирством) и что существует, вероятно, некий оптимум жизненных сложностей, который лежит далеко от обоих концов этой шкалы. Наконец надо добавить, что по психологическим причинам нельзя «осложняющую систему» навязывать в качестве чистой условности, в качестве преград, стоящих на путях человеческих стремлений исключительно в результате самовольного решения властей, которые установили эти преграды (нормы, запреты, правила) только потому, что само осложнение бытия «как таковое» оказалось необходимо для оптимизации функционирования групп и индивидуумов. Однако если симулировать введение осложнения несущественными факторами, это означало бы возникновение ситуации «двойного языка» (распоряжения имеют свою скрытую цель, выражаемую на «тайном» языке, и свою цель, представленную к сведению общественности и значит выраженную на «явном» языке), и это прямой дорогой ведет к криптократии. Как известно, ее можно применять только по отношению к детям, и то не слишком долго, потому что, когда они поймут, насколько условный, договорной характер всех «осложнений», которые им навязывают взрослые, они сразу начнут переступать установленные нормы или запреты. Кстати, одной из национальных проблем поляков является notabene бесцеремонность относительно всяких норм совместной жизни, которые — в полном смысле — можно считать «излишними осложнениями». Известно, что когда один человек перейдет напрямик через газон, траве ничего не будет, но когда перейдут все, останется голая земля. Пока немногие индивидумы выступают против нормы («нехождение по газону») — все хорошо, но когда каждый скажет «пусть другие осложняют себе жизнь, я не буду» — мы окажемся перед ситуацией, отлично нам известной и не только из сферы садоводства.
Можно ли попытаться формализовать проблематику, столь спешно и грубо здесь представленную? То есть, можно ли установить «единицы осложнения» независимо от «экзистенциального содержания» (аналогичное разделение «существований» на селективное и семантическое мы имеем в теории информации)? Было бы полезно, если бы это оказалось возможно, поскольку такая объективизация позволила бы социологу-«фелицитологу» сориентироваться, совпадает ли состояние данного коллектива в «компликаторном» отношении с рассчитанным для него оптимумом сложности жизненных процессов. Быть может, количественные связи однозначно не определяют таких оптимальных состояний, но дело могло бы разрешить только солидное исследование. Ошибался бы тот, кто считал бы, что все это умножение и деление числа винтиков на спинах роботов, которых никто еще даже не собирается строить. До повсеместного изобилия нам далеко, однако резкий спад экзистенциальных опор в некоторых областях жизни уже вызвал явления мотивационного ослабления («могу стоять, могу лежать» тоже немного из этой области). Как же злит это человека, помнящего довоенные отношения, когда он видит, что молодежь часто не может оценить ситуацию, в которой «следует работать». «Теория экзистенциальной относительности» показывает, что эта молодежь реагирует абсолютно нормально в психологическом смысле. Это вещи очень старые, я ничего не открываю, известно, что никого не радует отсутствие торчащих в ботинке гвоздей, если сам долго не носил таких гвоздистых ботинок. Дело все в том, чтобы от напоминаний и «объясняющих» описаний перейти к определенной работе, которая может иметь колоссальное практическое значение (пример: как сильно, то есть в какой степени следует упрощать, допустим, высшую школу).
В общем, речь идет о том, чтобы усложнять правильно, т. е. излишние осложнения удалять (самое могущественное ненужное осложнение нашей эпохи, в целом, это институционально-бюрократическое), а полезные — вводить. При этом они ведь могут быть полезны в двойном понимании: хорошие для индивидуума, что его формируют (его характер), и хорошие для коллектива, что придают ему развивающие градиенты (стремление в определенном направлении). Можно подумать и о том, чтобы отдельные «осложнения» с вытекающими расслоениями (на людей «лучших и худших») уравновесить так, чтобы одновременно вводилась другая система получения относительно других ценностей, и в этой системе происходили прямо обратные поляризации (например: А лучше В как спортсмен, а В лучше А как танцор — мы принимаем, что одному и другому также быть на «первом месте» и в обеих «дисциплинах» важно). Идеалом было бы, если бы «генералы» были «генералами» только в одном секторе социальной действительности, а те, кто в этом секторе является их «подчиненными» — могли быть «генералами» в другом секторе. Мы имели бы разделение доминирования и субмиссии, сложенное как сумма разделений в отдельных областях индивидуальных и групповых экзистенций, причем вся проблема в том, чтобы такая ситуация имела in toto[199] стабильный характер. Потому что иначе начнется тяготение в определенных направлениях и скоро состояние «морально» оптимальное, но непрочное, перейдет в «неморальное», неоптимальное, но зато относительно прочное. Это уже совсем не sensu stricto[200] «чистая компликаторика», адрес которой скорей «сингулярный», потому что она апеллирует особенно к индивидууму, а вариант «плюральный», добивающийся создания ситуаций, которые — взятые отдельно — дифференцированы (в смысле поляризации на «лучших» и «худших», «первых» и «последних»), но которые вместе, в интеграции общественной жизни не дифференцированы (т. е. возникает четкое всеобщее усреднение) — и тем самым оказывается, что это еще один раздел для написания «общей теории социальных систем, понимаемой кибернетически».
6. Дальнейшая проблема — это «информационная инкапсуляция», которая г-же Эйлштейн кажется абсолютно невероятной. В ее «тотальном» виде — мне, собственно говоря, тоже, но все же цивилизация может оказаться в ситуации некоего человека, который, отходя ко сну, говорит слуге: «Буди меня, только если начнется пожар!». Этим слугой была бы кибернетическая оболочка, вмешивающаяся в «сладкий сон» только если бы, например, грозил взрыв какой-нибудь близкой звезды (в качестве Новой). Не является ли, однако, отсечение мнимым, спрашивает г-жа Эйлштейн, если по сути дела и этот «кусок Космоса», который заселяет цивилизация, как источник знания в информационном смысле неисчерпаем? Все же, несомненно, ведущей силой современной науки есть физика, поставщик энергетических источников. При этом теоретическая физика невозможна без экспериментальной, а в этой последней ситуация сформировалась так: более менее четверть века, или дольше, продолжается «ортоэволюция» все более крупных и более ценных инструментов для ускорения элементарных частиц, вызванная тем, что горизонт прогнозов, опирающихся на материал теоретических обобщений, который на сегодняшний день получен, очень мал. Физики уже сейчас добиваются построения оборудования мощностью в триллион (!) ватт; это потребовало бы инвестиционных капиталов, сравнимых с размерами капиталов, необходимых для развития целых новых отраслей промышленности. Поэтому физика становится не только все более глобальной, интернациональной, но и все более дорогостоящей. Пока нет никаких предпосылок, что этот рост цен в логарифмической пропорции вдруг прекратится. Это значит, что в высоко развитой цивилизации наука может стать главным пожирателем национального дохода, и достаточно было бы даже не урезания дотаций, а только их удержания на определенном неизменном уровне, чтобы исследования относительно быстро прекратились; за великие будущие открытия надо, как оказывается, платить цену уже даже не большую, а просто гигантскую. Уже сейчас ускорители покрывают сотни гектаров поверхности; будущие, возможно, будут величиной с целые города. Как видно, здесь кроются серьезные дилеммы и отказ от продолжения столь необычайно прожорливых исследований вовсе не должен стать результатом безрассудности властей. Такой отказ стал бы уже первым шагом на пути «информационной инкапсуляции». Можно ли себе представить какой-нибудь процесс в форме технологической революции, сравниваемой с атомно-кибернетической, или в форме целой серии медленных изменений, который мог бы оказаться следующим шагом в том же направлении — тотального «обособления» человека от Природы (ибо и в этом случае речь идет об «инкапсуляции»)?
Думаю, что это зависит от ответа на один правильный вопрос о принципиальном характере будущих судеб цивилизации, а именно: могут ли плоды «машинного мышления» превзойти предел интеллектуальных человеческих возможностей?
Следует, наверное, перечислить варианты ответа, делая оговорку, что мы не знаем, все ли это варианты и который из них правильный.
A) Машинное мышление не может преодолеть «человеческий интеллектуальный предел» по определенным принципиальным обстоятельствам. Например потому, что ни одна система не может быть «разумнее», чем человек: мы уже сами достигли этого предела в космическом масштабе, только этого не знаем. Или, поскольку к мыслительным системам типа «человек» ведет только одна дорога, естественной эволюции, и самое большее — ее можно «повторить», имея в качестве экспериментального полигона планету, или в конце концов — поскольку небелковые системы «почему-то» всегда интеллектуально «хуже» белковых и т. п.
Все это звучит слишком невероятно, хотя исключить это пока не удается. Говоря так, я пользуюсь указаниями эвристики, которые подсказывают мне, что человек — это разумное существо достаточно обычное, что могут быть «более разумные», чем он, что процессам Природы можно подражать и разными путями доходить до определенных состояний, до которых Природа дошла секвенцией других состояний. Это как раз та позиция, которую я занимал в «Сумме». Если с ней не согласиться, проблема отпадает, зато возникают опасные видения информационного кризиса и других проблем (о которых ниже).
B) Машинное мышление может превзойти человеческий «интеллектуальный предел» в том смысле, в каком учитель математики «более разумен», чем его воспитанники. Но поскольку человек может понимать то, до чего не может дойти сам (дети понимают эвклидову геометрию, хотя сами ее не придумали), человеку не грозит потеря контроля над «познавательной стратегией машин», поскольку он всегда будет понимать, что они делают и почему.
В свою очередь, эта позиция кажется мне неприемлемой.
Что это вообще значит, что «машинное мышление может превзойти интеллектуальный предел человека»? Если может так, как учитель относительно детей, то пример плохой, потому что учитель тоже геометрию «не придумал». Речь идет об отношении творцов науки к другим людям — оно является здесь аналогом связи «машина — человек». И потому машина может создавать теорию, т. е. раскрывать инварианты классов явлений в большем диапазоне, чем человек.
Я упоминал, что Эшби отошел от этой формы своего «усилителя интеллекта», которая устанавливает, что «селекция — это все», зато «возможные решения» — ничто (потому что их может производить даже генератор шума). Работа ученого вовсе не равнозначна селекции, основанной на методе проб и ошибок (а так бы действовал этот усилитель). Машина Эшби могла бы делать элементами ситуации выбора одновременно намного большее количество альтернатив, чем это может человек. Такая система была бы в общем реальна и полезна, но только в ситуациях, в которых мы именно стоим на распутье и должны выбирать дальнейшую дорогу, а не в ситуациях, в которых мы должны только придумать, что некая дорога существует (например, «дорога квантования процессов»).
Следовательно, усилитель Эшби не может представлять даже первое приближение машине, автоматизирующей созидательную работу ученого. В принципе ученый не делает ничего другого, как только открывает то, что в явлениях изоморфно. Так, например, сейчас в явления газа плазменного и газа электронного в твердом теле «проецируются» явления, почерпнутые абсолютно из другой области, например, акустические. Когда говориться об акустической волне в электронном газе, речь идет о точной аналогии формы, о математическом, а также физическом изоморфизме определенных групп разноуровневых процессов. Это изоморфизм взаимоотношений.
Попробуем аналогичным способом поискать изоморфизм общественных явлений. Мы ищем инварианты, и значит, prima facie, подобия. Сопоставим один тип современного общества с обществом «пещерным». Начнем с изучения: играет ли роль и какую именно в функционировании «общественной машины» параметр «индивидуальной заменимости». Это значит, насколько «частная индивидуальность» данного индивидуума существенна в процессах материально-информационного вращения в пределах социальной группы.
В современном обществе аспект «частный», «персоналистический» личности сокращен почти до нуля. Если кто-то выполняет определенную функцию, его поведение детерминирует эта функция, а не его темперамент, пристрастия, характер. Результатом технологических давлений является градиент максимальной, деперсонализирующей личной заменяемости в пределах «мест работы», которые предоставляет социальная структура. Институты обращаются к институтам, личности к институтам и институты к личностям способом принципиально безличным, ожидая реагирования в соответствии с принятыми нормами (производственного, обслуживающего и т. п.). Зато в пещерном обществе «личность — это все» в очень простом и достаточно тривиальном понимании. При контакте каждый индивидуум подлежит классификации, согласно ключу «свой» или «чужой». Если «чужой», можно его съесть. «Свой» значит попросту «знакомый» — ибо социальная группа небольшая и все в ней знакомы.
Поэтому если в современном обществе начинают применять аналогичный критерий, если материально-информационное обращение зависит не от выполняемой безличной функции, а от того, знают ли друг друга индивидуумы, «знакомы» ли они — мы имеем явный изоморфизм современных отношений с тем, около 250 тысяч лет назад.
Однако, что же нам от открытия такого «изоморфизма»? В физике феноменологические понятия обычно дают основания для прогнозирования, например, типично феноменологическое применение рабочей гипотезы «квазичастиц» к явлениям сверхтекучести. В социологии феноменологические понятия лишены силы прогнозирования, представляя — как в приведенном выше примере — чисто идиографические констатации, с которыми неизвестно, что делать. Математизируемая социология действует основательно: или, применяя методы классического анализа к большим человеческим группам, рассчитывая как бы на усредняющее влияние большого числа, которое позволяет миновать сингулярные явления, или — в отношении к малочисленным коллективам — используя методы относительно новые — матричной репрезентации структурных связей, теории множеств, стохастических процессов и математической теории игр. Видны усилия объединения этих понятий, например, классический метод через системы дифференциальных уравнений (как в математической физике) ведет к установлению фазовых пространств, что в свою очередь, ведет к проблеме стабильности определенных состояний. Эти же вопросы увязываются с некоторыми существенными проблемами в рамках теории игр. Однако же весь этот математический инструментарий не позволяет пойти дальше, чем, допустим, аналогичный инструментарий, применяемый в теории естественной эволюции (начиная с Вольтерры).
Иначе говоря, то, что удается представить чисто идеографически, т. е. «рассказать словами» об определенных социальных явлениях, в некоторых случаях можно и формализовать математически. Однако речи нет о том, чтобы удалось, скажем, сформализовать вместо явления относительно простого, вроде возникновения дискриминации некоего типа или лавинного распространения паники или слуха, например такое явление, как некий общественный переворот (речь шла бы, следовательно, о некоей «математически понимаемой и интерпретированной французской революции» или т. п.). В физике области явлений можно отделять друг от друга (атомная физика, ядерная, твердого тела, элементарных частиц). В социологии это невозможно, поскольку решающими в динамическом пути системы могут оказываться попеременно различные уровни (сингулярный, плюральный). Главное затруднение заключается в количестве переменных, существенных для учета. Все же, если бы «гностическая машина» сумела создать «теорию социальной системы», эта теория должна была бы учитывать большое количество переменных и этим отличалась бы от известных нам физических формализмов. Такая «машина» может создать языковую или материальную модель общества. Если бы это была языковая модель, то вся проблема заключается в том, сможет ли человек постичь языковую систему, которую создала машина, чтобы с ее помощью сконструировать эту теорию? А если это не языковая модель, но машина моделирует социальные процессы в какой-то, например, эмульсии самоорганизующихся частиц, то, собственно говоря, каким образом человек должен бы был эту модель понять? Машина имеет входы и выходы; через входы она получает информационные материалы, через выходы доставляет нам теории, но это не система уравнений, только сосуд с «ферментирующим информационным супом». Этот суп является динамичным планом развития общества, или его генотипом, в том самом смысле, в каком динамичный план онтогенеза находится в оплодотворенной яйцеклетке. Похоже на то, что во второй раз, с достойным лучшего упорством, я повторяю за книгой то, что в ней написал. Все же, быть может, никакого информационного выращивания никогда не будет, однако я хочу обратить внимание на факт, что если мы должны учиться у Природы, прежде всего надо изучить, каким образом она справляется с ситуациями чрезвычайно сложными — как она «интегрирует эмпирически». Оплодотворенная клетка является «теорией» организма, который из нее появится: как известно, одной теории недостаточно, обязательны еще граничные условия, следует подставить реальные измеримые величины в уравнениях, чтобы они — в соответствии с прогнозом — исполнились. Клетка — это теория: ее выходом становится через определенное время организм, и он становится эмпирически проверенным — своим возникновением — прогнозом. Следовательно, клетка является «прогнозом» организма, который из нее родится, а граничные условия накладывает мир, реальное окружение. И если бы нашей целью была оптимальная модель социальной структуры, «информационный суп» мог бы оказаться теорией этого желаемого состояния.
Но откуда взялась эта материальная «теория социального организма» в машине? Она возникла благодаря процессам противоречащих друг другу явлений самоорганизации. Потому что обучение у Природы приводит нас к выводу, что Природа не отделяет процессов формальных от эмпирических, как мы, что она делает «одно и другое одновременно», поскольку она также производит «уравнивания», такие информационные сообщения, элементы которых могут непосредственно входить друг с другом в реакции (физические, химические), и таким образом «формальный» язык генов есть одновременно материал для подстановки в определенных местах «генных уравнений». Может мы не сумеем создать ни одного «выращивания информации», но Природа его создала. Я думаю, что иначе это решить было нельзя. Природа должна была разгрызть твердый математическо-информационный орех, и она действительно разгрызла его так, будто читала Оккама, поскольку дальше, чем до молекулярного уровня записи информации, да такой, что сама с собой вступает в реакцию, будучи собственным строительным материалом, нельзя уже продвинуться для экономии средств и «существований».
Тем самым на выходах обеих систем, которые являются «гностическими творцами», мы получаем теорию, один раз в виде закодированной «неформально», и скорей — не только формально, а другой раз — в виде, к которому мы привыкли — определенной системы уравнений.
Различие, в конце концов, мало существенно, поскольку также и то, что закодировано в «теории — генотипе», можно декодировать. Однако же полцарства тому, кто, имея перед собой эти уже «расшифрованные» уравнения, мог бы их «понять»!
Если информационная вместимость яйцеклетки человека равняется количеству информации энциклопедии, то такую энциклопедию, в которой наверняка когда-то будет представлен генотип, можно будет прочитать только потому, что читатель будет знать физику, химию, биохимию, теорию эмбриогенеза, теорию самоорганизующихся систем и т. д. и т. п. Одним словом, будет знать язык и правила его применения. В случае теории, которую «родит» машина, он не будет знать ни языка, ни его правил; первое и второе он должен будет изучать. И вопрос в окончательной форме, звучит так: может ли он научиться?
Таким образом, в этом месте в наши рассуждения вмешивается фактор времени, поскольку вроде ясно, что надо больше времени, чтобы прочесть всю информацию, содержащуюся в бактериальной клетке и перекодированную на язык аминокислот или нуклеотидов, чем надо времени клетке, чтобы она поделилась. Во время одного прочтения, которое мы выполняем «глазами и мозгом», текста «сформализованной и перекодированной бактерии», она тем временем поделится сотни раз, ибо прочитает «сама себя» несравнимо быстрей в очередных делениях. В случае «теории общества», или в общем — системы чрезвычайно сложной — время чтения может оказаться таким, что читатель попросту уже потому только не поймет, что читает, что будет не в состоянии мысленно оперировать элементами «уравнений» — они слишком большие, ускользают у него из поля сознания, переступают диапазон его сконцентрированного внимания — это воистину труд данаид и сизифов одновременно — и проблема звучит тогда: будет ли сокращена теория в виде, представленным машиной, до формы достаточно простой, чтобы человек смог ее постичь?
Боюсь, что это будет невозможно. То есть, разумеется, это возможно, но только каждая очередная ее форма, выходящая из следующей редукции, окажется вместе с тем еще слишком «обширной» для человека, хотя уже — относительно «оригинала» — упрощенной вследствие потери элементов.
Машина будет тогда делать то, что делает физик, объясняя широкой общественности теорию гравитационных волн при помощи скупого арсенала школьной математики. Или то, что делает мудрец в сказке, который приносил жаждущему знаний королю по очереди — библиотеку на спинах стада верблюдов, затем — сотню томов во вьюках мулов, и, наконец — толстые книги, которые нес раб, ибо для короля эти очередные «редакции» были все еще «слишком обширны».
Из этого видно, что мы не должны уже рассматривать следующую (третью) возможность.
C) Машина может преодолеть интеллектуальный предел человека как в диапазоне того, что человек еще может, так и в диапазоне того, чего человек уже постичь не может. Потому что эта возможность следует как вывод при опровержении второй.
Вероятно, для того, до чего человек сможет разумом дойти сам, машина будет нужна человеку не иначе, как в качестве раба, который выполнял бы за него трудоемкие вспомогательные операции (счет, доставка нужной информации, а значит — «вспомогательная память» и «ассистент в последовательных операциях»). Там, где разумом он сам не дойдет, машина предоставит ему готовые модели явлений, готовые теории. Тогда вопрос — антиномический — о том, «как можно контролировать то, чего нельзя контролировать?». Может, следовало бы создать «машины антагонистические», которые бы взаимно (по результатам деятельности) контролировались? Но что делать, если они представят на выходах противоречивые результаты? Поскольку в конце концов от нас зависит, что мы сделаем с теориями, рожденными машинами, в столь конфликтной ситуации можно бы эти плоды автоматического воплощения и в печь бросить. Другое дело с машинами управляющими, то есть с теми, которые являются самым вероятным, по сути дела, воплощением усилителя интеллекта Эшби. Г-жа Эйлштейн подвергла сомнению строительство «электронного бога». Действительно, я думаю, что ее сомнения справедливы, и, пожалуй, никто никогда не станет строить «синтетического бога» (который как не-всезнающий и не-всесильный, был бы «богом убогим»).
Science Fiction много нагрешила, а одно из ее наибольших прегрешений — это тотальное, как норма, фальсифицирование реальных обстоятельств, в которых и из которых рождаются открытия или изобретения. В Science Fiction сначала нет ничего, затем неожиданно появляется какой-то большой разум и строит «сам» ракету, на которой полетит, да еще сразу же на Луну; или опять группа каких-то людей строит машину, которая «сразу» принимается за то, чтобы покорить человечество. Сам я тоже здесь не без греха. Все же я думаю, что такие вещи можно писать, потому что это между прочим также и наукоподобная сказка, развлечение; однако же с реальностью такие образы не имеют ничего общего. Роботов, одаренных человеческой индивидуальностью, не будут строить, только разве что в таких целях, какие Фриц Лейбер представил в своем романе «The Silver Eggheads»[201], в котором присутствуют даже развлечения с электронными дамами, которые во время «этого» органным голосом напевают Баха или имеют хвост как химеры. Зато появятся и будут разрастаться машинные центры, управляющие производством, товарным оборотом, распределением, услугами, как и управляющие исследованиями (координация усилий ученых, поддерживаемых в фазе ранней «симбиотически» вспомогательными машинами). Следовательно, такие локальные координаторы нуждаются в вышестоящих в масштабе, скажем, страны или континента. Возможны ли между ними конфликтные ситуации? Конечно, возможны. Происходить будут конфликты в плоскости инвестиционных, исследовательских, энергетических решений, ибо надо ведь будет определять приоритеты различных действий и шагов, принимая во внимание множество взаимно связанных факторов. Надо будет такие конфликты разрешать. Разумеется, поэтому скажем быстро: это будут делать люди. Очень хорошо. Следовательно, решения будут касаться проблем огромной сложности и люди — контролеры Координаторов — должны будут, чтобы разобраться в представленном им математическом море, прибегнуть к помощи других машин, а именно — оптимизирующих решения. Над всем этим существует глобальный аспект экономики; ее также следует координировать. Планетарный Координатор — это машина с «личным советом», состоящим из людей, которые проверяют локальные решения систем «контролеры — машины» отдельных континентов. Как это делают? Они имеют собственные машины для оптимизации решения. И так: возможно ли, что их машины, дублируя, в целях контроля, работу континентальных машин, дадут разные результаты?
И это абсолютно возможно, поскольку каждая машина, во время выполнения определенной секвенции шагов, из которых складывается решение задачи (методом, допустим, очередных приближений, ибо материал переменных огромен), становится каким-то образом пристрастна. Известно, что ни один человек в принципе не может быть беспристрастным; почему должна быть беспристрастна машина? Пристрастность не должна представлять результат эмоциональных предпочтений — она следует уже из придания различного веса конфликтующим друг с другом участникам альтернативы. Возможны ли такие «оценки» этих участников несколькими машинами, работающими независимо, которые бы между собой отличались? Ну да, поскольку эти машины, будучи в силу обстоятельств вероятностными системами, не действуют тождественно. Не всегда разброс результатов будет большим, ибо это зависит от характера решаемых задач; если задача звучит: «Можно ли выслать на Марс последующие сто миллионов тонн воды?», ответ можно будет дать легко; другое дело, когда надо принять во внимание ситуацию, составляющую настоящую пирамиду конфликтующих между собой интересов, менее и более локальных. Что делать с противоречивыми оценками машин, которые должны были поддержать человека, который должен был разрешить спор Координаторов? Regressus ad infinitum невозможен, следует что-то начать. Но что? Выглядит это так: или электронные Координаторы не умеют учитывать одновременно больше переменных, чем человек, и тогда не надо их вообще строить, или умеют — и тогда человек не может сам в результате «разобраться», т. е. не сумеет принять независимого от машины решения, опираясь на «собственное мнение» о ситуации; Координатор справляется с заданием, но человек-«контролер» ничего не контролирует, а только так ему кажется. Разве это не ясно? Машина, к помощи которой обращается человек-контролер, в полном смысле является дублером Координатора, и человек в этом месте является гонцом по мелким поручениям, который переносит с места на место информационную ленту. Если же две машины дают неодинаковые результаты, человек не может сделать ничего другого, как только бросить монету, чтобы выбрать: он превращается из «высшего надзирателя» в механизм случайного выбора! И ведь опять, сейчас имея машины только управляющие, сложилась ситуация, когда они становятся «быстрее» человека. Prima facie следовало бы это сделать для них невозможным, в силу такого вот, например, закона: «Запрещается строительство и использования координирующих машин, потенциал переработки информации которых не обеспечивает человеку-контролеру полный доступ к результатам их деятельности». Однако это чистая фикция, потому что когда объективная динамика процессов для регулирования будет требовать дальнейшего разрастания Координаторов, «барьер человеческих возможностей» следует преодолеть; и вот опять антиномия.
Можно спросить, не мистифицировал ли я проблему? Ведь мы справляемся сегодня вообще без всяких машин! Да, но мы еще живем в обществе, в таком понимании, простом. Между цивилизацией, такой как наша — относительно примитивной, и в высшей степени сложной — как будущая, есть по меньшей мере такая разница, как между машиной в классическом смысле и в смысле живого организма. Машины в классическом смысле и «простые» цивилизации имеют различные разновидности самовозбуждающегося колебания, неконтролируемые колебания параметров, которые вызывают здесь кризис экономический, там — голод, где-то отравление фалидомидом или неожиданное открытие, через двадцать лет после первого атомного взрыва, что вовсе не радиоактивный стронций является наиболее вредным, а изотоп йода, о чем те, которые уверяли население, что опыты абсолютно безвредны, сами тогда не знали. Чтобы осознать, как функционирует сложная машина, прошу принять во внимание, что мы двигаемся, ходим, говорим, одним словом — живем, благодаря тому, что в каждом мгновении в биллионах мест нашего тела одновременно ряды кровяных шариков должны бежать «гуськом» с частицами кислорода, что во всех биллионах клеток тела происходят очередные биллионы процессов, и что таких процессов, которые должны удерживаться в необычно узком диапазоне параметров, тьма — иначе тотчас начался бы распад, их рассогласование. Чем система сложнее, тем более тотальная должна быть регуляция, в тем меньшей степени можно позволить параметрам локальные колебания. Господствует ли наш мозг над телом как регулятор? Несомненно, да. Господствует ли каждый из нас над своим телом? Ясно, что только в узком диапазоне параметров — остальное нам «дано» осмотрительной Природой. Но никто не может нам обеспечить, то есть принять за нас решение, управление очень сложной общественной системой. Опасность, о которой говорил Винер, в том, что к ситуациям, в которых мы должны уже требовать «интеллектронной пищи», прогресс приводит нас постепенно, потому что в момент, когда мы начинаем терять комплексный «обзор», а из-за этого — контроль, нельзя будет задержать цивилизацию как часы — она должна идти дальше.
Но будет вероятно идти «сама» так, как до сих пор? Необязательно. Это так сказать негативные аспекты прогресса в гомеостатическом смысле. Амеба намного меньше чувствительна к минутным потерям подачи кислорода к мозгу. Средневековый город требовал только воды и пищи; современный, если прекратится подача электричества, становится адом, каким был Манхэттен пару лет назад, когда остановились лифты в небоскребах и поезда под землей. Потому что гомеостаз имеет два обличия, он является ростом невосприимчивости к «внешним пертурбациям», то есть вызванным «естественными» нарушениями, и одновременно ростом чувствительности к «внутренним пертурбациям», т. е. вызванным нарушениями внутренних связей системы. Поэтому чем больше «искусственность» окружения, тем в большей степени мы обречены на зависимость технологии от ее надежности — и от ненадежности, если она ненадежна. Она ведь может быть ненадежна. Антипертурбационную устойчивость индивидуума можно рассматривать также двояко: как изолированный элемент и как элемент социальной структуры. Вся «антипертурбационная сопротивляемость», которую проявил Робинзон Крузо, была результатом чисто информационного «допрограммирования» его цивилизацией, прежде чем он стал «изолированным элементом» на безлюдном острове. Подобным образом укол, который получает новорожденный, дающий ему определенную сопротивляемость на всю жизнь, вызывает рост его «антипертурбационной сопротивляемости» чисто индивидуальный, как изолированного элемента. Зато везде, где вмешательство будет повторяться, социальные связи должны функционировать безупречно; и значит, если больного с блокадой сердца спасает от смерти имплантированный под кожу электрический аппарат, имитирующий нервные импульсы, он должен регулярно получать энергетические заряды (в конкретном случае — батарейки) для этого аппарата. Итак, с одной стороны, цивилизация спасает человека от смерти, но с другой, дополнительно делает его зависимым от своего четкого функционирования. На Земле человеческий организм регулирует соотношение кальция в костях к кальцию в крови, но в Космосе, когда в безгравитационных условиях кальций вымывается из костей в кровь, уже не Природа, а МЫ должны регулирующе вмешаться. В известных в истории общественных формациях не раз проявлялись неожиданные нарушения гомеостаза, вызванные как пертурбациями внешне-производными (эпидемии, естественные бедствия), так и внутренне-производными, чисто идиографическим каталогом которых являются как раз исторические хроники. Структуры государственного строя имели разную сопротивляемость к таким нарушениям и некоторые из них, выводя систему как целое за территорию стабильности в сферу неотвратимых испытаний, приводили через революцию к сменам одной структуры на другую; однако люди всегда вступали в общественные связи с людьми, руководили ими или были руководимы, эксплуатируемы; таким образом, что бы не происходило, это было результатом человеческих действий. Правда, были они объективно структурированы в определенные надличностные и надколлективные силы; в сменных формах действовали похожие материально-информационные связи; действовали также побочные опоры структурной стабилизации — с семьей, одной из старейших из них, во главе. По мере развития технологии сложность процессов для регулирования нарастает, так что в конце концов для овладения ими становится необходимо использование регуляторов, располагающих большим разнообразием, чем человеческий мозг. Это, по сути дела, проблема метагосударственная, поскольку такую необходимость начинают ощущать страны с разными государственными устройствами, лишь бы только они были на достаточно высокой ступени техноэволюции. Итак, регуляторы «нечеловеческие», т. е. не являющиеся людьми, по всей вероятности смогут справиться с задачами лучше людей и, следовательно, мелиоризирующий эффект технологического развития в этой области будет положителен. Тем не менее, ситуация полностью изменится в психологическом смысле, поскольку одно — это знать, что из отношений, в которые люди должны друг с другом вступать, образуя общество, родятся статистическо-динамические закономерности, которые могут порой быть направлены на интересы индивидуумов, групп, целых классов — и совсем другое знать, что судьба наша ускользает из наших рук, явно передаваемая электронным опекунам. Потому что тогда возникает особое состояние, сингулярным эквивалентом которого была бы ситуация человека, знающего, что всеми жизненными процессами его тела руководит не он, не его мозг, не внутренние закономерности организма, а некий центр вне его, который всем клеткам, энзимам, нервным волокнам, всем молекулам его тела предписывает характернейшее, наиболее оптимальное поведение; и хотя регуляция такая могла бы быть даже (предположим) более совершенная, чем естественно реализованная «соматической мудростью тела», и в перспективе несла бы с собой здоровье, силы, долгожительство, но любой, наверное, согласится с тем, что мы чувствуем ее именно как что-то «противное природе», в понимании «нашей, человеческой природы» — и, наверное, это самое можно сказать о соотношении «общество — его „интеллектронные координаторы“». Чем более будет расти сложность внутреннего строения цивилизации, в тем большей степени надо будет (в тем более многочисленных областях) позволить таким регуляторам бдительный контроль и вмешательство — для удержания гомеостаза, — но субъективно этот процесс сможет показаться проявлением «жадности» этих машин, покоряющих одну за другой области до сих пор чисто человеческого существования. И потому мы имеем перед собой не «электронного бога» и не такого же властелина, а только системы, которые вначале призваны для наблюдения за обособленными процессами, исключительной важности или сложности, постепенно — в ходе своеобразной эволюции — охватывают заботой всю общественную динамику. Эти системы не будут пытаться «овладеть человеком» в каком-либо антропоморфическом значении этого слова, так как не будучи «личностями» не проявляют и черт какого-либо эгоизма или жажды власти, которые можно приписать только «личностям». Другое дело, что люди могли бы эти машины персонифицировать, приписывая им — отсутствующие в них — намерения и познания на правах новой, но уже интеллектронной эпохи, мифологии. Я вовсе не демонизирую эти безличные регуляторы; представляю только поразительную ситуацию, в которой, как в пещере Полифема, добирается до нас Никто — но в этот раз для нашего блага. Принятие окончательных решений может остаться навсегда в руках человека; так что же из того, если попытки использования такой свободы показывают, что иные — если бы такие были — решения машины были более выгодны, ибо они более всесторонни. После нескольких болезненных уроков человечество могло бы превратиться в послушных детей, слушая всегда добрые советы Никого; в этой версии Регулятор немного слабее, чем в варианте «властителя», потому что никогда ничего не требует, только советует — но становится ли нашей силой эта его слабость?
7. Г-жа Эйлштейн затронула, наконец, вопрос, который меня давно тревожит, а именно теории вероятности и статистики. Ничего толкового я здесь не скажу, кроме того, что имею очень мрачное и полностью нематематическое предчувствие, что что-то в этом прекрасном аппарате и в его глубоко в грунт вкопанном фундаменте неправильно. Очень интересными показались мне выводы на эту тему Стаффорда Бира в его «Cybernetics & Mana-gement». Как и то, что писал об этих проблемах Спенсер Браун (оба цитировались в библиографии «Суммы»). Из их высказываний видно, что такие тревоги не являются ни моим личным кошмаром, ни госпожи Эйлштейн, и что, пожалуй, что-то в этом есть, только трудно сориентироваться, что именно; я думаю, что это касается позиции статистики как исследовательского инструмента для мира, а главные опасности подстерегают там, где оперируют бесконечностями, потому что они в операционном смысле попросту ничего не значат, кроме иллюзий логической правильности. И в самом деле, ни один физик «первого класса» сегодня не подпишется под эддингтоновским ожиданием замерзания кастрюли воды на огне, если ждать квадриллион лет. С другой стороны, мне кажется, что некоторые следы строгих детерминизмов слишком еще упорно маячат в философских системах, что не хватает какой-то «философии статистики» в таком смысле, в каком можно говорить о философских обработках детерминизма. Поскольку революция, которую запускает статистический аспект явлений, поднятый до очень высокого — космического уровня, не была полностью оценена профессиональными философами. Поэтому как краковянин, правда, не по рождению, а по месту жительства, я пробую поровну «выставить» счета философии — за непроникание вглубь статистических проблем, и статистике — за ее некие, возможно даже онтологические, слабости.
8. Упреки г. Беднарчика имеют двоякую природу. Что касается «телеграфирования человека» — речь шла вовсе не о физической реализации, а только о мысленном эксперименте. Это очень хороший метод, ибо когда из моего вывода следует, в чисто логическом плане, что переводом информации (атомного описания) не пересылается человек, т. е. «оригинал», ни на сантиметр с места, на котором стоял, то всякие дальнейшие рассуждения на темы уже операционные, технические, инструментальные (что определяя атомное устройство мы убиваем человека и т. д.) полностью бессмысленны. Ибо это тогда «во-вторых, в-третьих, в-четвертых», которым уже не интересовался Наполеон, услышав, что «во-первых» не было — для приветственного салюта — пушек.
Я хотел бы горячо возразить против цитирования специалистов от физики для обоснования определенных тезисов в биологии (et vice versa[202]). То, что Бор может сказать об умирании организмов под влиянием изучения и особенно о том, что существование жизни является таким элементарным фактом, «как квант», по сути дела является «чистой лирикой». Не считаю, чтобы буду бесцеремонен, утверждая, что компетенция в одной области не передается на другие.
По вопросу информационного кризиса г. Беднарчик сказал: «Если уж наука осознала свое небезопасное положение и направила часть сил (правда, пока что немного) на предотвращение катастрофы, следует ей хотя бы доверять». Я не знаю, как следует это понимать. Можно ведь и так: «Не надо вмешиваться туда, куда нас не просят. Наука и без Лема обойдется». Если такое было значение, то я действительно с ним соглашаюсь. С одной оговоркой. Наука справится без меня, но только тогда, когда окажется, что вообще может справиться. Как свидетельствует об этом книга, я скорей оптимист, но не какой-то «провидец», то есть верящий в провидение. В настоящее время мы имеем перед собой «популяционную бомбу» страшной силы, и мало что делается, чтобы взрыву противодействовать. Зато мы узнаем, что можно будет массово перерабатывать морские водоросли на питание для населения перенаселенных и бедных стран, причем автор (американский) добавляет: разумеется, в США этих водорослей есть не будут, потому что они очень невкусные, но ведь не считается со вкусом тот, кто может умереть с голода. Выразил он это другими словами, но смысл был именно такой. Это последствия не только существования необъединенного человечества, но вместе с тем и раздробления, специального разобщения, и в такой ситуации ученый, как официант на предприятиях общественного питания, охотней отвечает: «Коллега!». Проблема только в том, что коллег, которые бы этими горящими проблемами занялись исключительно как своей специальностью, как-то не видно.
Самое большее — развлекают нас подсчетом, в каком это году следующего тысячелетия все живущие должны будут превратиться в библиотекарей. Очень это интересные расчеты и очень не смешная ситуация.
По вопросу «Пасквиля на эволюцию». Что ж, если выводы «Суммы» не убеждают, я не вижу необходимости их повторять. Если бы г. Беднарчик, который, как кажется, уважает авторитеты, потому что охотно их цитирует, был склонен выслушать их и тогда, когда они повторяют вслед за мной, что могу перечислить длинный их список, начиная от Дж. В.С. Холдейна с его «Evolution, and our weak points»[203] (J.B.S. Haldane, Science Advances, London, 1947) и «Is Evolution a Myth?» [204] (D. Dewar, L. Merson Davies, J.B.S. Haldane, London, 1949), вплоть до Дж. Г. Симпсона. Однако же, боюсь, что и авторитеты не помогут. Формулировка, что все, что эволюция совершила, она сделала это по-возможности наилучшим образом, напоминает мне тезис философа Панглосса[205], что мы живем в самом лучшем из возможных миров. С такой позицией я не умею дискутировать.
Кроме того, г. Беднарчик сказал, что правила «избыточного осложнения» не существует, и это в отношении к химической индивидуальности, что биохимическая индивидуальность является «выражением дискретного характера жизни». Действительно, non sequitur[206]. Ведь могли бы существовать немногочисленные типы такой индивидуальности в качестве групповых факторов человека, допустим, сто или двести типов органических белков. Тогда можно было бы пересаживать органы, взятые от подходящих доноров, и не только у однояйцевых близнецов. То, что мы имеем биохимическую индивидуальность — это результат эволюционного «невмешательства», поскольку генотипная информация не предетерминирует такой черты, как личное своеобразие органического белка, а только дает общую директиву синтеза «человеческого» белка, т. е. типа, помещающегося в определенном промежутке параметров, причем в пределах этого промежутка уже чисто случайные факторы вызывают возникновение тех или иных финальных конфигураций. Притом повторение этой самой конфигурации у двух разных индивидуумов просто невероятно. Так, следовательно, биохимическая индивидуальность — это результат такой ситуации, в которой недостаток информации, передаваемой генотипно, вызывает случайный разброс конечного результата эмбриогенеза в поле биохимических параметров. С дискретным характером жизни это не имеет ничего общего.
Пользуясь столь исключительным случаем, я хотел бы объяснить мое отношение к философии. В книге explicite я этого сделать не мог, поскольку она должна была быть обо всем, только не обо мне. Я знал, когда писал «Сумму», что если возникнет такая тема и в таком диапазоне, то нельзя хоть немного не быть философом, но я старался быть им как можно в меньшей степени. Может потому, что я сам был когда-то заражен бациллой философствования, что много читал философов, и в тяжелейшей стадии чувствовал опасный соблазн, чтобы самому создать «новую систему», и должен был спасаться, налагая на себя строжайшие ограничения, а исцеление искать в науке. И я пришел к убеждению, что только наука может быть нашим проводником, тоже, разумеется, не обходясь без философствования, но не автономного, ибо эмпирия имеет силу для освобождения от запретов и ограничений, налагаемых на ее в силу того, что в философских системах является «излишком детерминирования» в смысле английского overdetermination[207]. Поэтому существует нечто такое, как тенденция всяких вообще систем, как материальных, так и понятийных, к самоорганизации, если только они достаточно сложны. Однако если материальная система самим фактом существования «гарантирует» то, что имеет «аутентичное бытие», то философская система является только нашим предложением представления мира — чтобы он был таким, как предполагает система. И поскольку такая система, в противоположность эмпирическому знанию, которое явно признается во всяких дырах и брешах, не может быть также дырявой и фрагментарной, должна его как-то дополнять, чтобы это представление замкнулось в своей целостности, непротиворечивости и т. д. Это обязательно и плохо для практических последствий, ибо потом оказывается, что от философа, слишком уверенного в себе, или скорее в системе, до besserwisser[208] один шаг. И потому я думаю, что первым правилом философии должен быть лозунг медицины primum non nocere[209] — в понимании сильном, а в более слабом: «не мешать». Поскольку, к сожалению, принимаются во внимание ни праведные мысли и намерения, ни то, что люди думают о том, что они делают, а то, что делают на самом деле. Не так давно Эйнштейн был для идеалистов материалистом, для материалистов — идеалистом, а теперь все его сообща аннексировали. Я сказал бы, что вообще любая философия, которая в таком смысле вмешивается или пытается вмешаться в процессы познания мира, это правило «немешания» нарушает. Отсюда некоторая неприязнь ученых-эмпириков к философам, поскольку эти последние хотят чувствовать себя одинаково уверенно в глубинах теорий уже известных и общепризнанных, представляющих глубокие резервы науки, которыми она питает свои разворачивающиеся фронты, так же, как на этих фронтах. Философ, отправляющийся на фронт, подобен военному корреспонденту, который уже имеет изначальный «ориентир», т. е. знает принципиально, что напишет, ему нужна только пара фактов; поэтому он спрашивает, как идут дела? В ответ слышит о солитонах и фононах; сразу включает их в имеющиеся уже записи «объективных существований». Но так нельзя. Конечно, они существуют — на основе определенных теорий. Почему я так упорно это повторяю? Потому что действительность «действительно объективная» существует, и однозначно она видна даже сквозь стекла данной теории. Но когда теории за их частичную важность отбрасываются в пользу всеобще-важной, может оказаться, что солитоны и фононами были только различными «воплощениями» неминуемого единственного «бытия», которое представляет новая теория. И так далее. Объективизация же «свежайших конструктов» физики, именно когда их вынимают из контекста теории, является типично феноменологической работой, ибо феноменологическое понимание есть ad hoc, для «здесь и сейчас», без связей с остальным знанием; и потому в спешке, движимый императивом объективизации, философ, который шестого декабря наблюдал за улицей, должен был бы на место «объективных существований» вписать по очереди множество Санта Клаусов, пока ему не представился бы весь их статистический комплект. Тем временем это переодетые наши знакомые, и, похоже, именно физики готовы, если потребуют этого дальнейшие факты, признать, что фононы являются переодеваниями каких-то других явлений. Если философу достаточно, что «есть» дальше, то есть они существуют (объективно, как «переодетые Х»), то ничего не сделать: он вынужден согласиться также и на Санта Клауса[210]. Если не хочет, то он вынужден согласиться с тем, что разные значения «существований» являются не результатом чьего-то коварства и агностицизма, а того, что таков мир.
В адрес фиктивного героя моей книги, Конструктора, здесь пришлось услышать уже классический упрек, что он не является материалистом, а только бывает им; соглашаясь на объективное и независимое от нас существование действительности, он через минуту говорит, что не знает, существуют ли объективно элементарные частицы. Как же сердит такая непоследовательность философа! И сколь нелогичным кажется тот, кто признает объективность всей действительности, отказывает ей — той же действительности, в «кусочке». А ведь именно к такому взгляду вынуждает нас практика, поскольку теории и их результаты — физическое содержание понятий — изменяются, если атом из неделимого стал делимым, элементарность частиц — их неэлементарностью, и даже нельзя сказать, что свойства переходят здесь в свои противоположности, в смысле «внутренней противоречивости» самих явлений, просто это мы ошибались несколько десятков или несколько сотен лет назад в вопросе атома и элементарности. Не случайно, что физики все охотней используют понятия, которые проявляют некоторую онтологическую «свободность», вроде псевдо-частиц, псевдо-дыр, и «псевдо-частичный» подход оказался все более всесторонне применяемым методом (от «исключительного» явления сверхтекучести до явлений газа плазменного и газа электрического в твердых телах). Действительность существует объективно — и это основная мысль физики, как вообще эмпирии, но на вопрос «а как и чем она это делает?» поступают ответы, изменяемые во времени. Изменяемые ли апроксимативно? Конвергенционно? На эту тему можно дискутировать, в любом случае кажется, что непостоянство это не является кое-каким, хаотическим, но — как-то, по своему — строгим, упорядоченным; мы далеки от Гюйгенса, который видел задачу физики в сведении «всего» к притяжению и отталкиванию; однако же законов эволюции понятий физики, которая не была бы ни популяризацией, ни изложением «вторичным», т. е. послушным записыванием изменений, которые пришли от греков — никто не сформулировал, нам представляется трансформизм, а не теория эволюции; здесь уже был Линней, но не было еще Дарвина. Здесь я вижу, что нахожусь на перспективном пути к написанию следующей после «Суммы» книги, поэтому завершу то, что сказал, замечанием личного характера. Philosophari necesse est, sed valde periculosum[211]. Когда г-жа Эйлштейн раскритиковала, и правильно, пассаж, в котором я говорил о теории как о лестнице для восхождения «на гору», вспомнился мне этот Моисей неопозитивизма, каковым был Виттгенштейн, потому что он тоже велел считать свой «Tractatus» лестницей, которую, поднявшись по ней, втягивают за собой — он отдавал себе отчет в том, что эта лестница метафизическая и хотел от нее как-то избавиться, но таким образом не удалось ему избежать критики за то, что сказанное бессмысленно именно в свете критериев, установленных говорящим. Моя лестница была другая, теоретическая, но тоже мне не помогла; видно есть в лестницах нечто фатальное.
Наконец, замечу — закрывая эту «философскую часть» — что в полемике с г. Мейбаумом я стал в большей степени конвенционалистом, чем являюсь им «в норме». Но это уже результат общей закономерности; позиция одного из оппонентов не только сильней «поляризует» позицию другого, но вместе с тем в «постоянном видении» жесткости доктрины толкает его с занимаемого на «шкале» места в сторону, противоположную той, которую занимает оппонент. Для меня не подлежит сомнению, что в дискуссии не с одним диаматиком (не обязательно с одним из авторов известного «Философского словаря») г. Мейбаум в свою очередь оказался бы субъективизирующим агностиком.
9. Хотя мое высказывание приобретает уже космические размеры, я хотел бы в заключение затронуть еще одну проблему — отношения этики и технологии, и это по поводу рецензии г. Колаковского на «Сумму» («Tworczos», № 11, 1964). По сути я занимал в книге позицию, подчеркнутую г. Колаковским, что этика из технологии невыводима, но мне кажется, что с того времени она немного изменилась. Немного, потому что определенная «ценность» должна быть установлена a priori. Когда что-либо делается и является не мертвой материальной массой, послушной законам физики, а «гомеостатом», можно выбирать также между действием и бездействием, или между продолжением и прекращением (например, перестать есть). Но возникновение ценности редуцировано до физических терминов, ибо на уровне нейронной сети конфликты ценности являются switching problems[212], проблемой предоставления «права первенства», и можно следить за их генезисом подобно тому, как автоматический прицел зенитных орудий, который, имея перед собой одновременно две цели, оказывается в конфликтной ситуации. Ценности сопоставимы, если поставлена конечная цель, а пути к ней альтернативны, и как можно «оценить издержки» пребывания каждой в «одной валюте», например, энергетической, информационной или «альгедонических личностей», если бы такие существовали.
Блаженный трепет пронизывает физика-бихевиориста, когда он слышит такие вещи. И дрожь негодования — философа. Мне кажется, что самым существенным было бы практическое определение последствий всяческого «кибернетизирования» проблем этической сферы. И это значит, например, можно ли пытаться с успехом вывести этические нормы из эмпирии, а отыскав — при помощи «стратегических машин» — оптимальные решения динамичной конструкции «общественной машины», предположить как условие для выполнения — одно только — гомеостатическую ее прочность. Мнение, что якобы машина должна стремиться — устанавливая этот «этический кодекс» — к минимуму степени личностной свободы и вместе с тем максимуму внешнего принуждения как мотора для действий индивида в интересах общества, является фальшивым мнением, поскольку правило экономии средств, составляющее по чисто технологическим причинам вступительную часть программы поступков, сделает стратегию машины отличную от «полицейской стратегии». Машина, разумеется, действовала бы не из «гуманистических» побуждений, а исключительно из таких, из которых коллеги архитектора — который вместо оптимизации конструкции, используя с необходимой рассчитанной прочностью легкие перекрытия и стены, подпирает все балками и скрепляет скобами — назвали бы его работу халтурой. И поэтому в определенной мере правило экономии средств может заменить правило «наибольшей доброжелательности» (т. е. оно составляло бы «физический эквивалент» этой последней). И если бы машина смогла сделать это только частично, для начала хорошо и это. Другое дело уже, как этот «оптимальный кодекс» провести в жизнь, чтобы это не вело к антиномии (например, как можно принуждением внедрять в жизнь правило добровольности действий).
Но это лишь первый этап. На втором мы бы желали, чтобы машина предоставила нам такую динамическую конструкцию, такой ее вариант, чтобы «построенное» согласно ей общество, в результате возникающих в нем динамических закономерностей, полностью объективных («машинных» в кибернетическом понимании) «родило» как бы «мимоходом» — и обязательным образом — некий требуемый этический кодекс как практику, как правила сосуществования, и чтобы это стало подобно тому, как динамомашина, приведенная в движение, «должна» «родить в себе» электрический ток. Разумеется, мы все время говорим о моделях, а не о реальных обществах. И мы понимаем, что чем больше в структуре предопределенности, тем она более линейная и тем самым «более строгая», и чем менее строга, тем более «ненадежна», в смысле: не для расчетов и не для прогнозов. То есть структура или «строгая», при этом прочная, или ненадежная, непрочная, но «более свободная».
Тем самым мы опять имеем антиномию, поскольку «жесткость» внешне означает ограничение свобод или ограничения, которые должны были родить этику при условии «добровольности (всеобщей вежливости, например) под принуждением». И если мы убираем ограничения, теряем в них уверенность, или в действительности происходит изменение в нелинейных процессах общественного «человеческого духа» — этика, как «модератор столкновений» этого «духа», оптимизируется также в отношении к системе как целостности (с гомеостатической точки зрения). То же самое повторим на примере с динамомашиной: если мы приравняем этику «саморождающуюся» из динамических закономерностей к току — динамомашиной можно создать ток, который ее уничтожит, или, возвращаясь к обществу, от чрезмерности каких-либо свобод может разлететься вся структура системы или дегенерировать в неизвестном направлении.
Это не звучит ободряюще. До сих пор мы не имели ввиду какое-то реальное общество, в котором более или менее (но тоже кое-как, в смысле «достаточно лишь бы как») этика функционирует позитивно в малых группах (этот физик-бихевиорист сказал бы: ее положительные влияния проявляются только в «слабых локальных поступках»). Ибо чем больше вступают в игру (не в переносном смысле, а теории игр) группы, общественные, вплоть до блоков Восток — Запад включительно, тем сильнее становится влияние «сильных воздействий», каковыми являются результаты массово-топологично-самоорганизационных процессов (сейчас это объясню), которые или слабые воздействия вообще затирают (сглаживают), или усиливают их отрицательные компоненты. Это можно показать на примере: чем меньшее количество людей, входящих друг с другом в контакты с неизбежной частотой, мы принимаем во внимание как систему относительно изолированную, тем менее эта система проявляет черт «машины» в кибернетическом понятии (система с как бы регулярной секвенцией состояний) предопределенной. И это потому, что люди могут в этом малом масштабе поступать также наперекор общему полю «сильных» поступков, например, белая женщина в Соединенных Штатах может выйти замуж за негра, фабрикант может подарить фабрику работникам, священник может постоянно навещать приятеля-атеиста без миссионерских намерений, расист может переменить убеждения и т. п. Одним словом, колебания в диапазоне малых локальных систем могут быть большие — включая диаметральные изменения позиций (этических). Зато ясно, что не подарят все фабриканты фабрики работникам (ни их значительное число), не полюбит церковь атеистов, не станут смешанные браки в США нормой в ближайшее время и т. п. Как из этого видно, я перекладываю некоторые элементы марксистской социологии на кибернетику, понимаемую с точки зрения физика. Потому что сильные поступки являются тем самым, что и обусловленности объективными системными закономерностями [классовой системы, культурной, то есть связей база-надстройка, также и вторичных процессов, таких, как самоусиление определенных явлений (лавинные процессы, процессы типа цепной реакции, которые изучаются на примере возникновения паники или фанатического ожесточения, «охоты на ведьм», в математизированной психологии групп и т. д.)]. Все же «как-то» так получается, что «удаленные» компоненты этики усиливаются легко — по крайней мере, легче — в поле сильных поступков (большой структуры, больших систем), а положительные скорее гасятся. Это «как-то» требовало, естественно, детализации и анализа — что настолько будет трудно, и даже неизмеримо трудно, что между «локальными группами», которые только очень относительно изолированы от групп вышестоящих (семья, друзья, профессиональная среда индивида и т. п.), и системой как целым удается еще, во-первых, выделить промежуточные агломераты (ведь есть целая иерархия систем относительно величины и сложности), во-вторых, выявить, что одни и те же индивидуумы одновременно принадлежат к разным системам (институциональным, групповым), и, в-третьих, распознать вращение, особенно информационное (но и материальное, например, благ) во всей этой системе, возвратное, с локальными петлями, вплоть до связей, которые соединяют оба компонента системы Восток — Запад.
Эвристика подсказывает, что где перевесит сотрудничество, должно произойти усиление «позитивных» компонентов этики («всевежливости»), а где перевесит конфликтность — там «отрицательных» (враждебность, соперничество). Я боюсь, что это не так просто и что у кибернетической этологии, когда она родится, будет достаточно твердых орехов — и того, чтобы их расколоть, потребуется создание машин, моделирующих социальные проблемы, больших чем те ускорители частиц, которые занимают сегодня несколько миль пространства.
Правда, эти ускорители строятся, чтобы познать тайны материи, и это не без связи с военными потенциалами государств. Социологов же, которые бы тоже потребовали, вслед за физиками, миллиардов на «машины для моделирования общественных процессов», еще нет, не говоря уже даже об этологах, которые в лучшем случае являются паскалевскими тростниками в бушующем мире. Но я хотел бы верить, что когда-нибудь эта ситуация радикально изменится; на этой оптимистической ноте я и закончу.
О сверхчувственном познании
Перевод Левшина И.В.
I
В последнее время оккультизм вновь в чести почти во всем мире. Он появился в новом воплощении, в новой классификации, отрекаясь от титула тайного знания, потому что сам термин «оккультизм» для многих людей мало что значит. То, что в нем абсолютно неудобоваримо для науки, его связи с «тем светом», подверглось незаметной ампутации. Однако отсеченная часть вместе с источниками, питающими ее, не была выброшена на свалку, а лишь перенята искусством, найдя прибежище в киностудиях. Там она может пугать и морочить, доставляя сильные ощущения публике, которая вовсе не смущена этим, потому что не воспринимает это всерьез. В то же время препарированная оставшаяся часть на наших глазах поспешно рационализируется. Форма изменилась основательно: никаких трансов, медиумов, эктоплазмы, сохрани боже от духов и спиритизма, остались только ясновидение, опирающееся на вещественные доказательства и содержащуюся в фотоснимках информацию, телепатическая передача, телекинез или вызывание мыслью материальных изменений, криптестезия или, наконец, психотроника.
Я высказываюсь по поводу этих вечно затягивающих в трясину дискуссий и вечно возвращающихся вопросов весьма неохотно. Однако в споре фельетонистов, подсиживающих друг друга по поводу дневников ясновидца, публиковавшихся в «Literatura»[213], было упомянуто мое имя, призванное на выручку поставленным под сомнение сверхчувственным явлениям. Отсюда возникло мнение, что я не только сам не сомневался в этих явлениях, но и осуждал тех, кто их категорически отрицает. По этому поводу я могу сказать только, что проблема эта не для фельетонных баталий.
Ч. Климушко я лично не знаю, его дневников не читал, но не считаю, что можно отделаться от них (а также от других текстов подобного рода) насмешками, ведь от этого только увеличивается полемическая неразбериха. Но раз уже на меня ссылались, я считаю дальнейшее молчание неуместным.
II
Не буду скрывать, что пишу эти слова прежде всего с ощущением скуки. Воистину оккультизм — это ванька-встанька истории или же ее неотъемлемая составляющая, выражаясь на модный философский лад. Я сам пережил эту горячку и выздоровел от нее, и после нее остались толстые тома специальных трудов в моей библиотеке и пачки карт Зеннера в ящике письменного стола, потому что я сам занимался этими проблемами в послевоенном Кракове без малого тридцать лет назад. Всю эту литературу невозможно ни объять, ни даже вкратце пересказать в такой скромной попытке, как эта, поэтому я ограничусь анекдотом. На рубеже века медиумизм праздновал свой триумф. Были такие знаменитые медиумы, как Эвзапия Палладино, итальянка, крестьянка по происхождению, на сеансах которой собирались научные светила мира и которая обратила в оккультную веру нескольких — говорят, выдающихся — ученых. Потом ее изобличили в мошенничестве, но она не потеряла всех своих сторонников; те, кто остались ей верны, утверждали, что она обманывала только тогда, когда ослабевали ее природные способности, чтобы не разочаровать участников сеанса. Как видно, volenti non fit iniuria[214]. Но не в этом соль анекдота. Медиумы предпочитали действовать в полной темноте; собственно, они были лишь рупорами эктоплазматических явлений и феноменов, которые при свете не желали приводить столики во вращение, а также выполнять тысячу других загадочных действий, скрупулезно записанных в бесчисленных протоколах. На рациональную аргументацию — например что свет — это лишь небольшой отрезок спектра электромагнитных волн, и если сверхчувственным явлениям не мешает инфракрасное излучение, допустим кафельной печи, то им не могут помешать и лучи, испускаемые лампой, — медиумы не отвечали, упорно стоя на занятых позициях. Что же с ними в конце концов произошло? Их было много, буквально тысячи, как я уже сказал, и притом большую часть таинственных явлений не удалось разоблачить как мистификации. Произошло нечто до смешного банальное: были изобретены ноктовизоры и другие устройства для видения в темноте, и после этого у всех медиумов их дар как рукой сняло.
III
Из сказанного выше можно было бы сделать вывод, что я решительный противник оккультизма или же психотроники, но это вовсе не так. Конечно, я признаюсь в скептицизме, но ведь это не то же самое, что полное и безусловное отрицание. Я привел этот пример, чтобы показать, что речь идет об области, имеющей свою долгую и запутанную историю, и это история надежд и разочарований, повторяющихся периодически, благодаря чему можно вывести свойственные ей закономерности, достойные внимания и побуждающие к размышлению.
Я отмечаю по меньшей мере две такие закономерности и готов вывести из них третью, как предположение и прогноз на будущее.
Первая закономерность этих явлений, рассматриваемых вдоль оси исторического времени, основывается на том, что не только названия, не только смысл, классификация и детальная терминология, но и то, что можно было назвать «самим существом дела», каждый раз диктуется всей этой феноменалистике духом времени. Ведь сначала это было знание тайное, высшее, а порой и единственное, потом оно ушло в подполье или же перешло в оппозицию науке, и тогда на него начали ссылаться как на сферу явлений, свидетельствующих, что научное познание не обладает универсальной компетентностью, коль скоро есть нечто такое, чего наука объяснить не в состоянии и что тем самым доказывает ее ограниченность. На исходе XIX века наконец появились первые серьезные попытки научно освоить эти явления, то есть превратить их в дисциплину, несколько обособленную, но все же принадлежащую к области научного познания.
Немцы, за которыми следует признать неизменную систематичность и точность в соблюдении методики, сделали на этом поприще особенно много. Венцом их энциклопедических усилий были объемистые тома, длиннейшая библиография, каталоги, классификационные таблицы, таксономии и протоколы, оперирующие красивой наукообразной терминологией, которые сейчас покрылись уже толстым слоем пыли. Это вовсе не значит, что их авторы были попросту сторонниками «научного оккультизма». Взять хотя бы профессора Макса Дессуара. Психолог по образованию, он занимался оккультизмом несколько десятков лет и, признав, что не во всем может усматривать мистификацию, заблуждение, недоразумение или просто мошенничество, до конца сохранил, однако, сильный скептицизм, потому что не нашел никаких позитивных экспериментов, способных выдержать огонь критики. Тогда не удалось ни отвергнуть эти загадки как фиктивные, ни решить их как реальные. И это, собственно, вторая закономерность истории оккультизма: в ней все и всегда только предвещает, начинается, прорастает, обещает, возбуждает надежду, но ничего не исполняется и не решается окончательно.
Дессуар и его современники посещали спиритические сеансы, участвовали в разговорах с медиумами, пребывавшими в трансе, наблюдали эктоплазматическое свечение и предметы, поднимавшиеся в воздух в затемненном помещении, ощущали левитацию стола, за которым они сидели, положив сверху руки, а потом все это описывали по возможности точно и дискутировали без конца, но в тридцатых — сороковых годах под влиянием новых научных веяний по примеру школы американца Райна экспериментаторы вместе с исследуемыми переселились в лаборатории на яркий свет, под надзор статистических таблиц, исследования стали проводиться в строгой изоляции и под тщательным контролем, и с этого началась уже математизация исследуемой области, а терминология пополнилась понятиями вроде уровня достоверности, статистически значимого отклонения, среднего значения, нормального распределения Пуассона[215] и т. д.
Райн в противоположность Дессуару верил в сверхчувственные способности и даже в загробную жизнь, в существование духов («spirits survival»), но, хотя он и писал об этом в трудах своего института, ему не удалось создать ни экспериментальных ситуаций, ни измерительных шкал, которые позволили бы наладить некую спиритометрию. Зато школа Райна освежающе и новаторски повлияла на аналогичные исследования англичан, которые проводились тогда еще традиционными способами. Там, то есть в Англии (а было это уже в пятидесятых годах), в «сверхчувственную веру» обратились несколько довольно уважаемых ученых (и не только психологов), которые ранее категорически отрицали реальность каких бы то ни было явлений сверхчувственного познания.
Главным орудием исследователей тогда были карты Зеннера, похожие на обычные игральные карты, но с рисунками звезды, круга, крестика и т. д.; исследователь перекладывал карты, а испытуемый должен был, не видя их, отгадать рисунок, причем на самом деле у некоторых из них количество угадываний значительно превышало ожидаемую вероятность весьма значительно, а иногда — по статистическим стандартам — их результаты были просто ошеломляющими.
Методика опытов продолжала совершенствоваться. Уже не исследователь тасовал карты, а машина, да и сами карты, орудие, на первый взгляд примитивное, позволяли проверять самые различные сверхчувственные способности испытуемого. Если исследователь смотрел на карту, а исследуемый должен был ее угадать, речь шла о выявлении телепатии или чтения мыслей; если экспериментатор сам карт не видел, а только перекладывал их из одной стопки в другую, имелось в виду ясновидение, криптестезия (терминология еще не установилась окончательно). В конце концов оказалось, что некоторые испытуемые отгадывают как будто бы не столько ту карту, которую брал в руки экспериментатор, сколько следующую, которую он возьмет затем, а это уже была премониция, предвидение будущего, феномен еще более удивительный.
В том, что отклонения от статистического ожидания происходили, не может быть ни малейшего сомнения. Была открыта даже своеобразная кривая протекания эксперимента. У человека, который исключительно хорошо читал мысли (или же закрытые карты), в начале сеанса процент угадывания был выше вероятностного, но все же не слишком высок; примерно на середине часового сеанса попадания учащались, а затем довольно быстро их число падало до чисто вероятностного уровня. Некое умение как бы пробуждалось, нарастало и усиливалось, а в конце опыта исчерпывалось словно от утомления, вызванного постоянной сосредоточенностью.
Правда, все эти данные (а испытуемыми были преимущественно студенты, которым платили за участие в сеансах, то есть люди заинтересованные) не прогрессировали. Райну вроде бы удалось однажды найти человека, который отгадывал почти 90 % всех карт, а вероятность такого чисто случайного совпадения просто астрономически низка (если все время брать по две все время перетасовываемые колоды и выкладывать из каждой колоды по одной карте, то понадобилось бы ждать миллионы лет, пока по чистой случайности карты обоих рядов совпадут на 90 %). Но в лабораторных условиях такой феномен никогда больше не повторился, и речь может идти только об отклонениях от вероятностного распределения, правда, отклонениях, импонирующих любому естествоиспытателю, — порядка 1:10 000 или даже 1:100 000, но эти явления обладали бы доказательной силой только в длительных сериях опытов. В отдельной же серии обычно было не больше, чем 7, 8, изредка 9 угаданных карт из 25, в то время как среднее ожидаемое равно пяти. Я так подробно останавливаюсь на этом, потому что это единственные полностью надежные, не подлежащие сомнению научные данные, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Ничего более значительного с тех пор не было продемонстрировано столь неопровержимо. Когда студенты измучились, фонды, предназначенные на исследования, иссякли, а вместе с ними и первоначальный энтузиазм экспериментаторов, все понемногу распалось само собой.
Наиболее радикальную гипотезу, отрицающую существование всех вообще сверхчувственных явлений в контексте исследований школы Райна, выдвинул англичанин, довольно эксцентричный мыслитель и в какой-то степени философ науки, Спенсер Браун. Он утверждал, что то, что наблюдается в описанных выше исследованиях, вовсе не реальные явления и не феномены сверхчувственного познания, но совершенно пустые, лишенные какого-либо субстрата длинные вероятностные серии. Именно такие серии, говорил Браун, имеют тенденцию к развитию отклонений от среднего вероятностного значения, отклонений, которые сперва появляются, а потом исчезают. Грубо и обиходно говоря, здесь имеют место редкие случаи или, вернее, исключительные совпадения, за которыми абсолютно ничего не стоит, так же как ничего не стоит за восьмикратно подряд выпадающим в рулетке красным цветом.
Пожалуй, в этой аргументации есть доля истины. Случаи, крайне маловероятные статистически, бывают с каждым человеком, но обращают на себя внимание только при особых обстоятельствах. Недавно, будучи на книжной ярмарке во Франкфурте, я договорился с одним американцем о встрече, но заблудился среди павильонов (а это настолько большая территория, что посетителей по ней возят автопоезда) и понял, что не найду его на условленном месте, потому что назначенный час уже миновал. Уже не надеясь на встречу, я вдруг столкнулся с ним почти в километре от назначенного места. Произошло это в толпе среди многих тысяч людей, и если бы кто-нибудь из нас появился позднее на две-три секунды или прошел через то место с аналогичным упреждением, то встреча наверняка бы не состоялась, а значит, это событие следует считать крайне маловероятным, хотя вероятность эта не поддается точному расчету.
Кстати, американец в отличие от меня не обратил внимания на обстоятельства нашей встречи, и это я объясняю тем, что я «натренирован» в мышлении категориями статистики. Если совпадение несущественно, как описанное выше, его забывают, если же оно связано с драматическим событием, таким, как чья-то смерть, болезнь, катастрофа и т. д., то сочетание случайностей выступает в ореоле таинственности и необычайности и побуждает искать объяснения, которые не сводятся к чистой случайности. А отсюда один только шаг до того, чтобы заподозрить вмешательство парапсихологических факторов.
Случайные серии имеют место также в играх (например, в азартных) в виде так называемых «полос» удач и неудач. Поскольку игрок заинтересован и эмоционально вовлечен в игру не меньше, чем приверженец парапсихологии, у них обоих над тенденцией к статистической оценке шансов одерживает верх склонность доискиваться связи между явлениями, скрытой от непосвященных. Тому, кто проиграл последнюю рубашку, играя в рулетку по «верной системе», нельзя объяснить, что он пользуется ложной стратегией, ибо шансы на выигрыш совершенно случайны; а человек, которому приснилась смерть брата за две недели до того, как тот скончался, никогда не поверит, что между его сном и этим событием нет никакой связи.
Однако (я уже писал об этом в «Фантастике и футурологии») возможно, что вещие сны и прочие формы предсказания будущего существуют и в то же время не существуют. Они существуют в субъективном смысле и не существуют как явления, которые требуют обращения к чему-либо кроме статистики совпадений в численно больших множествах. Если десять миллионов жителей большого города каждую ночь видят сны, то весьма вероятно, что какой-то их части, к примеру 24 тысячам, приснится смерть близкого человека. В свою очередь, вероятно, что в течение ближайших недель у кого-нибудь из этих 24 тысяч действительно умрет родственник или знакомый. А у кого же нет больных родственников, и среди чьих знакомых не случается несчастных случаев?
Но таким — статистическим — образом никто не рассуждает. Никто не смотрит на себя как на элемент численно весьма большого множества, и, вместо того чтобы счесть сон и явь двумя независимыми переменными, мы изумляемся тому, что предвидели несчастье раньше, чем оно произошло.
А если кому-то в течение его жизни такое совпадение встретится дважды, тут уже ничем не поможешь: ничем не выбить из головы этого человека убеждения, что его посещают вещие сны. Это касается не только снов, но и всех вообще пересекающихся множеств, между которыми нет причинно-следственной связи. Наша жизнь течет, если можно так выразиться, в море неисчислимых статистических явлений, причем цивилизация играет роль механизма, призванного реально изгнать случайность из повседневного бытия (например, врачебной профилактикой, бесчисленными мерами регламентации, например правилами дорожного движения или хотя бы страхованием, служащими для сведения к минимуму последствий случайных событий); культура же как бы устраняет случайность, особым образом ее истолковывая. Между прочим, поэтому онтологические воззрения различных верований обычно имеют «бухгалтерский» характер (ничто не происходит случайно, Провидение всему ведет счет, и за все будет награда или наказание на том свете).
Поэтому подозревать случайные явления в том, что они всего лишь видимость, за которой стоят причинно-следственные механизмы, недоступные научному объяснению, вовсе не есть нечто исключительное для поведения, подчиненного нормам культуры, а скорее естественное, хотя и несколько преувеличенное проявление этих норм.
IV
Я не берусь утверждать, что если отцедить чисто случайные совпадения из совокупности странных происшествий, то на дне наших статистических сосудов ничего не останется. Но я утверждаю, что отделение фракции таких явлений, «отягощенной сверхчувственным фактором», от явлений пустых или просто редких (обусловленных стечением обстоятельств) — одна из труднейших задач, которые можно поставить перед наукой. Я считаю также — и это не мое частное мнение, а скорее голос науки, от имени которой я в данный момент выступаю, — что все необычайные переживания, все истории, будто бы необъяснимые в рамках известных уже законов природы, истории, которым их рассказчики придают столь большое значение в силу эмоционального отношения к ним, в качестве материала исследований по парапсихологии лишены всякой ценности. Изгоняя из области своих интересов подобные сообщения, не принимая во внимание личность сообщившего, наука руководствуется не доктринерством и не скептицизмом, а лишь присущим ей методом.
То, что человеческая память подвержена ошибкам, доказано неопровержимо. Это же относится к ценности наших наблюдений. Упомянутая уже Эвзапия Палладино произвольно манипулировала учеными, которые как-никак были специалистами по части наблюдений и экспериментов, вводила в заблуждение людей, которым она в интеллектуальном отношении и в подметки не годилась.