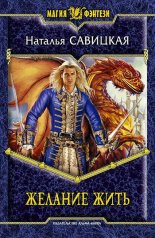Второй после Бога Ауст Курт

– Услужливый, но не бескорыстно. Однако я в нем нуждалась. Я приехала в Тёнсберг со всем своим грузом и ни разу не заплатила за него по пути. Пребывание у аптекаря во Фредрикстаде было оплачено, остановка в усадьбе Хорттен тоже, правда, шкипер на судне пытался получить больше, вы, наверное, помните. Этот юнкер позаботился, чтобы я добралась сюда.
Я это помнил.
– Ему нравилось дразнить вас, – сказала она, – нравилось…
– Дразнить меня?!
– Да. Он сказал… сказал, что вы влюблены… – Она замолчала и опустила глаза. Неожиданно я почувствовал вонь. Верзила спустил штаны и отодвинулся на скамье, насколько это позволяла цепь. Я отвернулся.
– Не смотрите туда! – велел я фрёкен Саре. Она наклонилась, желая узнать, в чем дело, охнула и отвернулась.
– Ты еще увидишь, как мужчины проделывают и не такое, – усмехнулся верзила и натянул штаны. – Подожди, тебе и самой тоже понадобится облегчиться или тебя пронесет. После двух-трех обедов в этом трактире всех проносит. Желудок никак не принимает их пищи, хе-хе.
– Вы сказали, что должны поехать с вашим женихом, – напомнил я, чтобы отвлечь ее внимание от соседа. – Сказали это аптекарю во Фредрикстаде, когда юнкер Стиг уехал.
– Я имела в виду не его, – прошептала она и прибавила еще что-то, но так тихо, что я решил, что ослышался. Невольно наклонившись к ней, я переспросил:
– Кого-кого?
– Я имела в виду вас, – повторила она. – Именно вас, хотя понимала, что все подумают, будто я имею в виду юнкера Стига. Но ведь он уже был обручен.
Я все понял.
– Вы хотели меня использовать!
– Нет, – сердито возразила она. – Вовсе нет…
Я сплюнул на пол и потрогал языком качающийся зуб. Трудно было сказать, что меня больше мучило – стук в висках или разбитая челюсть.
– А бутылка, которую вы спрятали в сундуке, когда мы были в усадьбе Хорттен? В ней был яд?
Она испуганно глотнула воздух, но ее тут же охватил гнев:
– Как вы смеете! Вы шпионили за мной?
– Да, – признался я. – Но я не знал, что это были вы, пока не увидел, как вы положили бутылку в сундук.
От гнева ее глаза потемнели, она поджала губы, и я понял, что она не намерена мне отвечать. Я прислонился к стене и закрыл глаза. Попытался забыть, что она сидит рядом со мной.
Мы долго молчали, во всяком случае, так мне показалось, в висках у меня стучало, и любовь болезненным комком застряла в горле.
– Это был бренневин, – сказала она наконец. Я от изумления открыл глаза. – Я взяла его на кухне… Хозяин… у него было так много бутылок… и я подумала, что ему вредно столько пить. Он почти перестал следить за усадьбой. Вот я и взяла одну бутылку для моего дяди.
– Решили, что вашему дяде он вреда не принесет? – презрительно спросил я. Она придумала плохую историю, хотя времени на это у нее ушло много.
– Он… – Она запнулась и начала снова: – Я нуждалась в его помощи и хотела расплатиться с ним этой бутылкой.
Я даже не стал отвечать, только мрачно глядел в пространство. Дурацкая история, такая глупая, что вполне могла оказаться правдой.
– Так вы прихватили и ту копченую колбасу, которой недосчитался хозяин? – В моем голосе слышалась насмешка.
– Нет, колбасу я не брала! – Она была не на шутку возмущена. – Я не воровка! Я бы никогда не украла…
– Нет-нет! Успокойтесь! – Я нервно покосился на своего соседа. – Я вам верю. Вы не брали колбасы… – Я был не в силах говорить о еде, о самогоне или еще о чем-то столь же незначительном. Мне хотелось только прислонить голову к стене и немного отдохнуть.
Она пошевелилась:
– Почему вы тут оказались? И нунций тоже?
Я пожал плечами.
– Недоразумение. Нас скоро отпустят.
– А я не знаю, сколько здесь просижу. – Она вздохнула.
– А в чем ваша вина? – Любопытство во мне все-таки победило.
– Продавала дорогие ткани без разрешения, как вы сами вчера видели… пока не ушли.
Я покраснел.
– Пришел нунций и увел меня. Что я мог сделать?
Она пожала плечами:
– Простите. Это недоразумение. Меня наверняка тоже скоро отпустят.
Я взглянул на нее, и со мной что-то произошло. Я неожиданно рассмеялся. Она удивленно подняла глаза. Потом улыбнулась.
– Заткни пасть, черт бы тебя подрал! – взревел бородатый верзила и замахнулся на меня кулаком. Я успел наклониться, и он завизжал, как свинья, разбив руку о стену. Нахмурившись, он облизывал ушибленную руку, а мы шепотом продолжали свой разговор.
– Я пыталась торговать и сегодня, но, видно, кто-то донес на меня, потому что стражники судьи явились раньше, чем я успела разложить свой товар. Они притащили меня сюда, потому что у меня не было денег, чтобы уплатить штраф на месте.
– Большой штраф?
– Два далера.
– Значит, вы сегодня совсем ничего не продали?
– Продала, но… я уже потратила эти деньги.
– Вы могли бы отдать судье ткань вместо денег, – предложил я.
– Я так и сделала. Но они сказали, что ткань конфискована. Сначала ее должен оценить торговец Туфт.
Я хотел сказать, что в таком случае ей придется просидеть здесь довольно долго, но вовремя опомнился. Незачем поворачивать нож в ране. Она не виновата в том, что Туфта убили.
– Что такое “кнуте”? – спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.
– “Кнуте”? – Она непонимающе посмотрела на меня.
– Ну да. Вы назвали шкипера шхуны “кнуте”, когда он хотел получить с вас лишние деньги. Когда мы пришли во Фредрикстад.
– А-а!.. – Она засмеялась. – Это голландское бранное слово. Я думаю, что так называют немцев, выходцев из Вестфалии. Но многие пользуются им, когда хотят обругать норвежцев и шведов, которых часто зовут Кнут. Они думают, что всех жителей Севера зовут Кнутами, но плохо выговаривают это слово.
– Значит, шкипера звали Кнут? – Я не совсем понял, куда она клонит.
Она удивилась.
– Нет. Я не знаю, как его звали. – Они сидела и теребила оборку на платье. – Это нехорошее слово. Норвежцев… особенно мужчин… не знаю, как это сказать… их не очень уважают в Голландии. Это все бедные переселенцы, которые еле-еле говорят по-голландски и плохо разбираются в делах торговли и деньгах. Они берутся за самую тяжелую работу, самую грязную и низкооплачиваемую, но, вместе с тем, они сильны и выносливы. Часто они попадают в сомнительные компании, их ловят на грабеже или на воровстве мелких денег, иногда их отпускают, иногда забирают у них краденое. – Она подняла глаза. – Поэтому “кнуте”, я так слышала, это бранное слово, оно означает смешного увальня или глупого проходимца. И Кнут – тоже.
Я не знал, что ей на это ответить.
– Вы ездили в Амстердам, чтобы закупить там ткани? – спросил я, уводя разговор в другую сторону.
– Я уехала туда два года назад.
– Вот как?
– Я работала в доме одного богатого торговца, ван дер Веера, ведала хозяйством, смотрела за детьми, покупала им одежду, словом, делала все. Он был так доволен моей работой, что последний год даже просил заменять его в лавке. Там я и научилась торговать тканями. Когда я собралась домой, я решила накупить разной ткани и открыть в Норвегии свою лавку. Ван дер Веер сказал мне, что я могу написать ему, когда мне снова понадобится ткань. Он мне верил, верил, что я с ним расплачусь, – гордо сказала она.
У меня в голове все смешалось.
– Значит, вы поехали в Амстердам, чтобы работать экономкой, а вернулись домой, так сказать, торговцем?
Она горько усмехнулась.
– Какая там торговля! А теперь мне уже вообще нечем торговать. Мои двухлетние сбережения оказались в кармане торговца Туфта.
– Не может быть, – сказал я.
– Поверьте, что так и есть. Торговец Туфт конфискует ткани и спустя два месяца продает их торговцам Христиании или Бергена. А деньги кладет в свой карман.
– Только не Туфт.
– Именно Туфт. Он ничем не лучше других…
– Туфт умер, – вырвалось у меня.
Она недоверчиво на меня посмотрела.
– Не может быть… Я вчера сама его видела. Да и вы тоже.
Я мысленно обругал себя за болтливость, а вслух сказал, что слышал в городе разговоры, будто он умер… этой ночью. Ей было интересно узнать, отчего он умер и откуда я это знаю, но я промолчал. Потом она спросила, почему нас арестовали, я ответил, что нам этого не объяснили, и она замолчала.
Кто-то прошел по дороге мимо ратуши, и в оконный проем подвала посыпались мелкие камешки. Больше ничего интересного не случилось. Я чувствовал, как уныние все сильнее овладевает мною, все было черным-черно. Хуже самого худшего, подумал я и опустил голову на руки. Стал тереть себе виски. Неужели она ночью побывала у Туфта? – стучало в моем больном зубе. Может, она приходила туда за своей тканью, так сказать, за своим хлебом насущным? Хотела выпросить у Туфта свой товар, но ей это не удалось?
Мы долго сидели молча. Один из узников храпел, что-то бормоча во сне жалким голосом. Другой выбранился, дернул ногой и сказал, ни к кому не обращаясь, что у нас гости. По скамье пробежала крыса, понюхала пищу, но тут же скрылась в темноте. Время шло. Без всякого приглашения фрёкен Сара тихо снова заговорила со мной, объяснила, почему поехала в Амстердам. Я думал, что она рассказывает, чтобы убить время, отвлечь мысли от холодных стен, от вони, и потому слушал ее вполуха.
Она жила в усадьбе под Тёнсбергом. Отец умер, когда они с братом были маленькими. Мать снова вышла замуж и родила от нового мужа троих детей. Потом мать умерла, и отчим, человек очень хороший, женился на женщине, у которой был один свой ребенок, со временем у них родилось еще четверо. Когда отчим умер, в маленькой усадьбе осталось десять детей. Новый муж мачехи потребовал, чтобы Сара с братом покинули усадьбу, он считал, что они уже достаточно взрослые, чтобы самим о себе позаботиться. Саре удалось уговорить его оставить брата дома еще на два года. Потом она обещала забрать его к себе. У брата было не все ладно с головой, он не мог бы жить самостоятельно и общаться с людьми.
– Поэтому я и приехала домой, – сказала она. – А то бы я осталась в Амстердаме. Когда я уезжала, господин ван дер Веер предложил мне новое место с очень хорошей оплатой, лишь бы удержать меня. – Она непроизвольно гордо вскинула голову.
– А где ваш брат сейчас?
– У сестры моей матери. Они с мужем взяли на себя заботу о нем, потому что я им за это платила.
Так вот почему у нее не было денег, чтобы заплатить штраф! И вот где оказался самогон. Если, конечно, она говорит правду.
– И вот вы сидите здесь и не знаете, когда вас отсюда выпустят.
Она промолчала.
Я тер виски и бормотал:
– Нельзя возвращаться домой! Черт меня подери, никогда нельзя возвращаться домой!
Глава 32
Дверь распахнулась, и в подвал вошли два стражника. Красномордый освободил меня от цепей, рявкнул: “Заткни пасть!”, когда я открыл было рот, и надел на меня ручные кандалы. Я слышал, как у меня за спиной второй стражник погнал нунция к двери. Все произошло так быстро, что я не успел даже бросить взгляд на фрёкен Сару, как мы уже оказались за дверью, нас протащили по коридору и подняли на первый этаж. Прежде чем нас грубо втолкнули в маленькую комнату, я успел заметить, как в ратушу с улицы вошли три или четыре благородных господина и поклонились встретившему их внушительного вида человеку в форме. Бургомистр, подумал я, и дверь захлопнулась перед моим носом.
Комната, где мы сидели, была небольшая и узкая. Вдоль стен стояли скамейки. За дверью в одной из длинных стен слышалось жужжание голосов. Я догадался, что эта дверь ведет в зал заседаний.
Нунций был бледный и выглядел усталым. Я хотел объяснить ему, что не понимаю, что происходит, но тут же рядом возник красномордый со своим вечным окриком: “Заткни пасть!”
Другой стражник открыл дверь в зал заседаний и заглянул туда. Я чуть-чуть подвинулся на скамье, чтобы у него под рукой тоже заглянуть в зал. Бургомистр, писец и городской судья с серьезными лицами сидели перед заваленным бумагами столом и ждали. Перед ними полукругом стояло много стульев, на них садились все время приходящие горожане. Они здоровались друг с другом, косились по сторонам, кланялись друг другу, смеялись или сердились, и, расправив фалды, рассаживались, положив треугольные шляпы себе на колени или на соседний стул, зажигали трубки, нюхали табак, вели беседы или же смущенно сидели, держа шляпы на коленях. Запах дыма и влажной одежды проникал даже к нам.
Подошло время собрания горожан, о котором городской глашатай объявлял вчера по всему городу. Время уже перевалило за половину одиннадцатого.
Слово взял бургомистр, он приветствовал горожан и объявил их собрание открытым. Я смотрел на людей, сидевших в зале ратуши, – важных торговцев, судовладельцев, чиновников, занимающих высокие должности, – все они расположились в первых рядах. За ними сидели ремесленники, рыбаки, мелкие торговцы и некоторые крестьяне, имевшие статус горожан. Женщин в этом собрании не было. По необъяснимой причине я подумал именно об этом. И еще о том, почему мы с нунцием вдруг здесь оказались. И что мне сделать, чтобы вызволить нас отсюда. “Надо еще раз поговорить с помощником судьи и объяснить ему, кем на самом деле является нунций”, – подумал я.
– Мне надо поговорить с помощником судьи.
– Заткни пасть!
– Но…
– Заткни пасть! – Стражник достал из кармана платок. – Убийца должен молчать!
Мне было приятно узнать, что он знает еще какие-то слова, кроме тех двух, которыми с таким удовольствием пользовался до сих пор, однако было далеко не так приятно, когда он сунул свой грязный платок в мою много раз поминаемую пасть и велел сидеть тихо.
Бургомистр изложил дело, которое, очевидно, весьма интересовало горожан: о куске земли, которую граф незаконно присвоил, “с презрением к свободным гражданам этого города”, как выразился один землевладелец. Дело слушалось долго, многие хотели высказаться. Мерзкий платок давил на мой шатающийся зуб, и я закрыл глаза, чтобы скрыть, как мне больно.
В следующем деле упоминался Королевский монетный двор в Конгсберге в связи с резолюцией от 24 октября года 1702 об изъятии из обращения спесидалеров до конца года 1703… Я потерял интерес к слушаниям и думал о фрёкен Саре, заточенной в подвале. Думал о том, что она мне рассказала, и пытался понять, что она имела в виду, говоря, что юнкер Стиг дразнил меня, – неожиданно я сообразил, в чем дело, и покраснел, вспомнив, что фрёкен Сара сказала, что имела в виду именно меня, когда говорила о своем женихе и я…
– …так, что торговец Тругельс Гулликсен Туфт и его супруга Ханне, – голос писца проник мне в уши и завладел моим вниманием, – проживающие в городе Тёнсберге в Королевстве Норвегия, с королевского соизволения освобождены от исповеди в церкви и перед властями. За то, что их ребенок родился слишком рано после вступления в брак, они ответят перед Богом, а Мы доводим до всеобщего сведения, что Мы назначили и предписали Тругельсу Гулликсену Туфту заплатить четыре десятка риксдалеров на содержание ближайшей лечебницы…”
Торговец Туфт! Неужели писец и все остальные не знают, что Туфт мертв?
Я с удивлением огляделся и увидел, что помощник судьи стоит в приоткрытых дверях и смотрит в зал. Я не слышал, как он подошел. Он коротко кивнул стражнику, распахнувшему перед ним дверь. Потом быстро прошел в нее и остановился перед тремя главными представителями власти. Наклонившись над плечом городского судьи, он что-то ему прошептал, отдал своему начальнику свернутое в трубку предписание и выпрямился. И, как солдат, застыл в ожидании за их спинами, глядя в пространство.
Зал затих, удивленный этим явно необычным появлением помощника судьи, люди наклонялись друг к другу и тихо перешептывались, пока бургомистр и городской судья читали предписание. Потом бургомистр выпрямился и оглядел собравшихся. Покашлял.
– С большой скорбью я должен сообщить вам, что в высшей степени почтенный и глубокоуважаемый гражданин нашего города торговец Тругельс Гулликсен Туфт скончался сегодня ночью от коварного удара убийцы. Он был убит в своей конторе в усадьбе Туфта иностранным убийцей. Сей чужеземец уже схвачен помощником судьи и содержится в заточении. – Помощник судьи махнул рукой в сторону нашей двери, красномордый вытащил платок, затыкавший мне рот, приказал нам с нунцием встать и торжественно повел нас в зал ратуши, где нас поставили у стены на всеобщее обозрение.
– Нашим доблестным судьей задержан также и норвежский помощник этого убийцы, – сказал бургомистр и посмотрел на нас со смешанным чувством презрения и страха. Он уже хотел продолжать, как я быстро проговорил:
– Но этот чужеземец – посол, и король…
– Молчать! – Бургомистр властно поднял руку, и ближайший стражник ударил меня в живот. – В этом зале на заседаниях горожан имеют право говорить только граждане нашего города. Ни один посторонний не может выступать без разрешения бургомистра, тем более арестант.
Я, как мог, расправил плечи:
– Но… – только и успел сказать я, как новый удар в живот опять заставил меня согнуться.
– Я, посланец двора короля Фредерика Четвертого, человек здесь посторонний, нижайше прошу вашего милостивого разрешения выступить на вашем уважаемом собрании, – услышал я знакомый голос и выпрямился. В конце зала стоял юнкер Стиг. Все с удивлением повернулись к нему, а бургомистр попросил его назвать свое имя.
– Камер-юнкер Стиг Брауншвейг-Кёнигслюттер, – назвал он себя, глубоко поклонился, сделал рукой плавное движение и тут же поднял голову, чтобы не уронить парик. Потом прошел вперед и встал перед горожанами: – Его Величество король поручил мне сопровождать сего иностранного господина, папского нунция Микеланджело дей Конти, в его поездке по Норвегии. Его секретарь-помощник Петтер Хорттен пытался вам это сказать, но, видимо, у него заболел живот. – Юнкер Стиг с кривой усмешкой посмотрел в мою сторону. – Он хотел сказать вам, что сей иностранный гость – посол Его Святейшества Папы, прибыл к нам из Святого града Рима и считается гостем нашего короля.
Я глянул в окно, в которое хлестал дождь, потом снова на юнкера, он продолжал говорить:
– Из слов помощника судьи я понял, что сегодня ночью в городе произошло убийство, в котором обвиняют нашего гостя. Я с большим недоверием выслушал это обвинение. Кроме того, и я должен сообщить об этом уважаемым горожанам… – юнкер Стиг поднял вверх палец, дабы привлечь к себе внимание, чего вообще-то не требовалось, – что папский посланец в ранге посла имеет дипломатический иммунитет и не может быть подвергнут уголовному преследованию. Ни в городе Тёнсберг, ни в любом другом городе Датско-норвежского государства, нигде, кроме Святого града Рима. Поэтому, простите, но я должен немедленно освободить посла от этих цепей, и мы покинем ваш город еще до захода солнца.
По залу прокатилось бормотание, в котором слышалось недовольство и сомнение. “Нельзя отпускать убийцу безнаказанным, даже если он папист”, – сказал какой-то судовладелец своему соседу и чуть не сломал свою глиняную трубку, когда попытался смотреть сразу на нунция и на меня.
– И еще, я, разумеется, должен добавить, – громко сказал юнкер Стиг, чтобы перекричать шум в зале, – что такой же иммунитет распространяется и на его секретаря-помощника Петтера Хорттена, которого тоже следует немедленно освободить и позволить ему покинуть город человеком с незапятнанной честью. Вряд ли необходимо вам объяснять, что такие люди не могли совершить преступление, о котором здесь идет речь.
– Откуда вам это известно? – проворчал помощник судьи, но судья тут же махнул ему рукой, чтобы он замолчал.
– У вас есть документ, подтверждающий, что вы именно тот человек, за кого себя выдаете? – спросил городской судья у юнкера Стига.
Юнкер положил перед судьей королевское письмо, которое он показывал и таможеннику, и спокойно ждал, пока трое чиновников рассматривали печать и по очереди читали письмо. Наконец бургомистр отложил письмо и обратился к собравшимся.
– Все верно, посол стоит выше закона, он неприкосновенен, – сказал он. – Содержание этого письма соответствует словам камер-юнкера Стига. – Он вздохнул и покосился на нунция. – Позвольте сказать, не вижу, к сожалению, возможности и далее удерживать этого человека в заточении или подвергнуть его суду.
Я улыбнулся с облегчением и уже наклонился к нунцию, чтобы сообщить ему эту приятную новость, как следующие слова бургомистра остановили меня:
– …однако в этом письме, или в законе, ничего не говорится, что секретарь-помощник такого посла обладает тем же иммунитетом.
Юнкер Стиг, который уже стоял возле нас и следил, как стражники освобождают нас от кандалов, замер на мгновение и медленно повернулся к бургомистру:
– Простите, что вы сказали?
– Я сказал, что этот Петтер Хорттен все еще считается арестантом. В нужное время он предстанет перед судом, и, если его сочтут виновным, его будут судить за убийство Тругельса Гулликсена Туфта.
В напряженном голосе бургомистра слышалось упрямство, словно он решил бороться не на жизнь, а на смерть, чтобы, потеряв выскользнувшего у него из рук нунция, заполучить хотя бы меня. Многие горожане встали и сердито смотрели на нас. Кое-кто возмущенно ворчал, что, наверное, им следует взять закон в свои руки – и горожанам, и, вообще, всем честным людям угрожает опасность, если убийца останется на свободе.
С тяжелым звоном с нунция упали оковы, я увидел, как юнкер Стиг схватил его за руку и потащил за собой к выходу так быстро, что папский посол чуть не падал. Несколько сердитых горожан хотели схватить нунция, но юнкер Стиг шел слишком быстро, и они не посмели его преследовать. Я видел, как кое-кто смотрел, на месте ли его шпага, и сердито косился на дверь.
Многие бросали на меня хмурые взгляды, говорящие, что хотя суда надо мною еще не было, но приговор уже предрешен. Что мне не суждено живому покинуть этот город.
Когда двери ратуши захлопнулись за юнкером Стигом и нунцием, мне показалось, что они унесли с собой и мою жизнь. Теперь я остался один. Один, я и моя тощая шея.
Глава 33
Я не видел, как он вошел.
Лишь когда стражник схватил меня, чтобы вести в подвал, я обнаружил, что Томас стоит в конце зала рядом с дверью. Он выглядел усталым, со шляпы и плаща падали капли, и он смотрел в мою сторону, но под полями шляпы я не мог видеть его глаз. Только чувствовал его взгляд. И меня охватило недоброе предчувствие.
Томас что-то сказал, но в зале стоял такой шум, что его никто не услышал.
Стражник тянул меня к двери в соседнюю комнату.
– Стойте! – Этот окрик заставил даже бургомистра умолкнуть на полуслове и поглядеть в зал. Томас снял шляпу и стряхнул с нее капли. – Одну минуту, – сказал он уже своим обычным голосом и взмахнул шляпой. – Не спешите уводить этого молодого человека.
Он подошел к бургомистру и попросил разрешения говорить. Бургомистр поинтересовался, по какому праву Томас явился сюда и требует слова на собрании горожан.
– Я вам все объясню, – пообещал Томас и получил в ответ милостивый кивок.
– Меня зовут Томас Буберг. – Два ремесленника, бочар и портной, с которыми он вчера играл в кости, удивленно разинули рты. – Его Величество король назначил меня генеральным вице-прокурором и поручил временно наблюдать за Норвегией. После посещения Христиании я два дня назад прибыл в Тёнсберг. Что может засвидетельствовать инспектор таможни, которого я имел честь посетить.
Властного вида господин в первом ряду натянуто кивнул, когда все глаза устремились на него. Томас пошарил под плащом и выложил перед бургомистром документы, подтверждающие его полномочия. Тот коротко взглянул на них и кивнул. В главе города появилось что-то бессильное, словно присутствие представителей короля, одного за другим, сделало его положение мелким и незначительным. Он пододвинул бумаги к городскому судье, который внимательно прочитал их, а потом передал секретарю.
Томас не стал ждать их признания.
– Я с прискорбием узнал, что торговец Тругельс Гулликсен Туфт скончался и что это было убийство. Я только что вернулся сюда после короткого посещения Фредрикстада, где беседовал с городским судьей Мунком об убийстве, случившемся там несколько дней назад. Должен сказать, что эти два убийства очень похожи друг на друга.
Томас оглядел зал, люди сидели, наморщив лбы.
– Вас, наверное, интересует, откуда я узнал про убийство, которое произошло во Фредрикстаде, тогда как сам находился в Христиании, об убийстве, о котором ничего не знаете даже вы, живущие на другом берегу фьорда. – Томас замолчал и прошелся по залу. “Словно пастор, идущий к своей кафедре”, – невольно подумал я. Люди глазами следили за его крупной фигурой, они медленно повернули головы направо, когда Томас пошел вдоль стены и дальше, ко мне, стоявшему в открытых дверях. Он встал между мной и стражником, словно огромный щит, повел меня обратно и поставил перед горожанами. – Я узнал об убийстве во Фредрикстаде потому, что этот молодой человек, господин Петтер Хорттен, написал мне и поведал о том, что там случилось. Он сообщил мне, что все улики указывают на то, что один крестьянин, бывший солдат, умер от яда, но что городской судья Фредрикстада счел, что эта смерть наступила в результате болезни. Как я уже сказал, я только что вернулся из Фредрикстада, где познакомился с этим делом, поговорил с городским судьей и многими свидетелями… и считаю, что господин Петтер Хорттен несомненно прав в своем предположении. А городской судья Фредрикстада ошибается.
– Однако купец Туфт умер от удара по голове, а не от яда, – раздраженно прервал Томаса помощник судьи.
Томас поднял руку.
– Позже мы выясним это вместе с вами, господин Корнелиусен. О вас идет молва, что вы прекрасно разбираетесь в своем деле, поэтому я уверен, что вместе мы придем к верному выводу.
Помощник судьи гордо выпрямился и серьезно кивнул Томасу. А я неожиданно почувствовал, что у моей шеи, возможно, есть будущее.
– Папский посол, господин нунций Микеланджело дей Конти, с которым вы уже имели честь познакомиться, прибыл в Данию месяц тому назад. Когда он изъявил желание посетить Норвегию, король назначил молодого господина Хорттена переводчиком и секретарем своего гостя, ибо наш король с большим уважением относится к способностям и честности этого молодого человека. Кроме обычной работы секретаря и слуги, в обязанности господина Хорттена входила также и охрана посла, он должен был следить за тем, чтобы с послом ничего не случилось, а также – за всеми его поступками.
Быстрым движением Томас сбросил с себя плащ, положил его на соседний стул, на него – шляпу и продолжал:
– Петтер Хорттен сразу обратил внимание на то, что с королевским гостем что-то не так, однако не мог назвать ничего конкретного. Вначале не мог. Свои наблюдения он сообщал мне в Христианию, и, когда нунций дей Конти пожелал отправиться в Тёнсберг, мы с господином Хорттеном встретились здесь, и я получил от него устное сообщение. Думаю, нет надобности говорить уважаемым господам, что нунций дей Конти, естественно, даже не подозревал, что находится под наблюдением Петтера Хорттена.
Мне захотелось сесть. Во-первых, цепь оказалась слишком тяжелой, а во-вторых, история, которую Томас, не моргнув глазом, сочинил и раздул, могла лопнуть в любую минуту.
– Однако работа секретаря-помощника Петтера Хорттена принесла плоды. Вскоре его наблюдения стали такими обоснованными и их накопилось так много, что мы увидели за ними контуры существующего заговора. Ибо, если папский посол и не убийца, то его планы так беспредельны, что их можно назвать Crimine Majestatis – Его Величество Преступление. – Томас сделал паузу, чтобы люди поняли весь ужас его слов, а потом продолжал: – Петтер Хорттен раскрыл, что нунций дей Конти приехал в Норвегию, дабы основать здесь подпольную Католическую Церковь!
Я от удивления открыл рот, потом опомнился и уставился в пол.
– Когда нунций посещал Фредрикстад, Петтер Хорттен обратил особое внимание на вышедшего в отставку военного, который многие годы был денщиком генерала Юхана Каспари де Сисиньона. Когда генерал вышел в отставку, этот человек арендовал у него усадьбу в Тросвике всего за один шиллинг, однако все это, судя по всему, не представляло большого интереса для папского посла. Петтер Хорттен видел, что его временный господин связался с этим человеком и ночью имел с ним тайную беседу. Некоторым жителям вашего города, конечно, известно, что генерал Сисиньон до самой смерти оставался истым католиком. Его большие познания в строительстве военных укреплений сделали его незаменимым для короля Христиана Пятого, таким незаменимым, что в тысяча шестьсот восемьдесят втором году король разрешил во Фредрикстаде свободу вероисповедания, собственно говоря, только из-за генерала.
Томас провел рукой по бороде.
– Но сейчас все изменилось.
Желудок у меня был совершенно пуст, в глазах рябило так, что мне пришлось сделать шаг в сторону, чтобы не упасть.
– Дайте ему стул! – рявкнул Томас на стражников. – И снимите с него эти цепи. Я еще не все сказал, что хотел.
Красномордый подошел и снял с меня ручные кандалы. Я потер запястья и сел на стул, принесенный для меня другим стражником.
– Когда папский посол со своими спутниками прибыл сюда, на западный берег фьорда, секретарь Хорттен вскоре обнаружил, что здесь тоже начинает появляться подпольное католическое движение в районах Бёрре и Тёнсберга. Возглавлял это папистское движение, по-видимому, торговец Туфт.
Возник шум, люди растерянно оглядывались по сторонам и громко выражали свои чувства. Я не мог определить, чего в них было больше, недоверия, удивления или испуга, а может, и еще чего-то, ясно было одно: слова Томаса упали как неожиданный и нежеланный камень из мирового пространства.
– Тихо! – крикнул бургомистр. Он был в испарине и стучал костяшками пальцев по столу. – Тихо! Дайте сказать генеральному прокурору.
Люди успокоились, любопытство победило, и Томас продолжал:
– Когда вчера господин Хорттен увидел, что папский посол передал торговцу Туфту какое-то письмо, он сразу понял, что дело нечисто. Что-то готовилось, в том числе и в этом городе. Возможно, какая-то новая встреча. Он сообщил мне об этом в письме и еще о том, что намерен особенно внимательно следить за послом. – Томас глубоко вздохнул и посмотрел на своих слушателей, словно хотел каждому заглянуть в глаза. – Поэтому я знаю, что Петтер Хорттен не убивал торговца Туфта. Это не входило в наши планы. Все очень просто. Должен признаться, я не знаю подробностей того, что произошло нынче ночью. И, тем не менее, – сказал он тихим проникновенным голосом, – тем не менее я ни минуты не сомневаюсь, что этот молодой человек не имеет ни малейшего отношения к смерти уважаемого торговца.
Я поднял голову и встретился с ним глазами. Усталости в них как не бывало. Теперь в них горел огонь.
– Но у Корнелиусена есть свидетель, что этот Хорттен был нынче ночью в усадьбе Туфта, – сказал городской судья и заглянул в бумаги, полученные им от его помощника. – Кто знает, может, Туфт отказался поддержать посла в его злодеянии и за это поплатился жизнью? Мне представляется вполне вероятным, что этот молодой человек мог оказаться свидетелем злодеяния и пытается скрыть преступление посла. Или, если не так, может быть, этот Петтер Хорттен взял закон в свои руки и сам убил купца Туфта. Вопреки вашим уверениям, простите меня. – Последнее было сказано с ироническим жестом в сторону Томаса, и многие горожане выразили свое согласие с судьей криками “Согласны!” и “Браво!”. Моя шея опять неожиданно оказалась уязвимой, а больной зуб задергало в такт с выкриками горожан.
– Прозелитизм!.. – крикнул Томас, чтобы перекричать шум. – Прозелитизм, то есть попытка распространить католическое лжеучение, находится вне закона и потому строго карается. По словам Петтера Хорттена, Тругельс Гулликсен Туфт в течение многих лет каждое лето устраивал католические богослужения и проповедовал ересь в маленькой церкви в Бёрре. – Гул и возгласы продолжались. Томас повысил голос. – Собрания у святого источника посещались жителями окрестных мест, и Петтер Хорттен обнаружил, что торговец Туфт не единственный человек в этом городе, который подозревается в симпатиях к папизму. – Кто-то зашикал, крики утихли. – И еще он обнаружил, что господин Туфт не единственный человек, который искал встречи с нунцием дей Конти, а потому он составил список этих людей. – В зале воцарилась мертвая тишина. Лбы под нарядными париками в первом ряду прорезали глубокие морщины.
Томас помолчал, опустив глаза. Словно задумался над собственными словами. Это и впрямь были странные слова. Обычно Томас никогда не прибегал к явной лжи.
– Нам известно, что в Тёнсберге существует неприятная традиция поддерживать жизнь в католических идеях. Сын богатого купца из вашего города, Лауритц Нильссон, под именем Лассе Монах, был одним из ярых противников новой Церкви. Вполне возможно… – Томас задумчиво прижал палец к нижней губе. – Было бы интересно посмотреть, кто из бюргеров состоит в родстве с этим старым папистом, и основательно расследовать их делишки.
Томас задумчиво повернулся к окну, позволяя людям обдумать его слова. Потом снова, прищурившись, уставился на горожан.
– Список, о котором я говорил, находится в распоряжении господина Петтера Хорттена, и я думаю, не объясняется ли стремление осудить его на смерть за убийство, которого он, без сомнения, не совершал, желанием уничтожить вместе с ним и этот список, дабы все осталось в тайне.
В ратуше воцарилась гробовая тишина, никто не хотел первым открывать рот. Я сидел, опустив голову и закрыв глаза, и тихо молился, чтобы безумные слова Томаса напугали бы горожан настолько, чтобы они поверили им и отпустили меня.
Но, очевидно, нельзя желать невозможного, никакие страшные слова не могут испугать всех без исключения. Все-таки это были только слова. В углах опять началось брюзжание, сердитые взгляды в сторону Томаса означали, что горожане не испугались, а городской судья шуршал бумагами и, по-видимому, собирался с духом для контрудара.
Томас с загадочной улыбкой поглядел на особенно недовольных и разыграл последнюю козырную карту.
– Кроме того, – сказал он, – я как генеральный прокурор не без оснований подозреваю, что здесь в городе имеется обыкновение обходить законы и указы короля, и таким образом налоги в большом количестве не доходят до королевской казны. Если господин Петтер Хорттен останется под арестом и будет ждать суда, это будет означать, что все это время я тоже пробуду в Тёнсберге и, естественно, использую это время на то, чтобы проверить счета торговцев, квитанции и договора за последние годы. Основательно проверить.
Больше Томас ничего не сказал. Этого и не требовалось. Я поднял голову и понял, что битва выиграна. Козырь все побил. Угроза кошельку действует безотказно, даже если не поражает насмерть. Достаточно одного страха перед мыслью о возможности такой угрозы. Жители Тёнсберга хотели, чтобы мы с Томасом как можно скорее убрались из их города, чтобы жизнь и торговля пошли в Тёнсберге так, как будто нас никогда здесь и не было. Таково было их единственное желание.
Я вздохнул и выглянул в окно. Дождь уже кончился.
Глава 34
“Девушка поднялась на борт судна, идущего в Амстердам, и он никогда больше ее не видел”.
История, рассказанная Катрине о письмах, не идет у меня из головы. Мысленно я все время к ней возвращаюсь. Она навязчиво напоминает мне о себе, когда я меньше всего этого жду, словно хочет мне что-то сказать. А я не понимаю, что бы это могло быть.
Он никогда больше ее не увидел. Никогда – страшное слово, такое тяжелое, такое бесповоротное. Оно как смерть – ты подходишь к границе, и стоит тебе ее пересечь, как останется только “никогда больше”. Разница лишь в том, что последствия слова “никогда” перейдут в грядущее. Только в будущем ты поймешь, что оно сохранило свою силу и свои последствия. И лишь история покажет, не ошиблось ли это слово. Зато смерть, появившись, быть может, неожиданно, последовательна с первого несостоявшегося удара сердца. Никогда не вернешься в мир живых. Никогда.
Два перепутанных письма. Думаю, оно немного вторично, это исчезающее мгновение, когда внимание человека ослабевает, и он путает письма, пишет не то имя не на том конверте, позволяет двум путям пересечься, не сознавая этого; именно это мгновение и очаровывает меня. То, что оно имеет столь важные последствия для жизни двух людей, для их любви.
Я встаю из-за письменного стола, приношу одеяло и с трудом накидываю себе на плечи, – Бог знает, где сейчас Барк, наверняка где-нибудь со своей любимой Катрине, – запахиваю одеяло на груди и в задумчивости, стоя, смотрю на дождь, который течет по стеклу, не позволяя мне видеть мир.
“Для Бога нет ничего незначительного” – говорил мне постоянно пастор, который учил меня латыни и заставлял читать Священное Писание. Он обращал мое внимание на те места в Писании, которые свидетельствовали о всемогуществе Бога.
“Бог есть во всем”. Так говорилось и утверждалось с тех пор, как Ансельм Кентерберийский сказал, что Бог – это величайшее мыслящее существо. А может, и раньше.
Другими словами, Бог присутствует в каждом событии, и в малом и в большом, и это имеет свой смысл. В случае с письмами это мелкое событие.
А что же тогда… большое? По-настоящему большое?
Капли дождя стучат в окно и медленно текут по стеклу вниз, сталкиваются с другими каплями, сливаются с ними, растут и текут быстрее. Я слежу за большой каплей, которая приближается к оконному переплету, но ее задерживает неровность стекла. Она делится пополам – вопреки здравому смыслу – одна ее половина сталкивается с другой неровностью и снова делится…
Какое это событие… большое? А то, что я наблюдаю за этим? Наблюдаю, как что-то собирается, растет, а потом, вопреки здравому смыслу, делится на более мелкие части. Как и Церковь. В этом я вижу пример большого события, в котором непременно должен был присутствовать Бог. Должен был… ибо, если Он там не присутствовал…
Это сложная мысль, ее следует обдумать с разных точек зрения, но она становится слишком огромной, и я пытаюсь отправить ее в забытье. Однако она вновь и вновь выныривает оттуда, как пробка из воды. И заставляет меня думать о ней. Тогда я пытаюсь сформулировать эту мысль в виде вопроса:
Если умысел Божий имеется во всем, то какой умысел в том, чтобы Его Церковь разделилась на две, как это случилось, когда Мартин Лютер порвал с Католической Церковью? Наверное, надо вспомнить и Православную Церковь и сказать, что Его Церковь разделилась на три церкви? Или больше, чем на три, если считать кальвинистов и всех остальных, которые считают, что истина известна только им? И, если на то пошло, может, за всеми этими событиями кроется нечто большее, чем человеческое безумие?
Ответ, к которому я прихожу, мне не нравится. Он слишком прост: нет.
Ход мысли такой: либо Бог Всемогущий не контролирует того, что мы, люди, творим в Царстве Его, и тогда Он – не Всемогущий; либо Бог имеет намерение показать людям, насколько они глупы, позволив им совершить самую большую глупость из всех – разделить Его Церковь на мелкие, враждующие между собой анклавы, которые изо всех сил стараются уничтожить друг друга. И только уничтожив все, они наконец поймут свое ничтожество, глупость и злобу, и тогда Он…
Да, что Он тогда сделает?
Моя старая голова не выдерживает таких сложных мыслей, и я со стоном падаю на стул.
Моя голова вообще является для меня предметом моих постоянно повторяющихся огорчений. Нет, не вся голова, а только та ее часть, в которой хранятся воспоминания. У меня возникают сомнения, что все, о чем я рассказываю в своей истории, именно так и было. Правильно ли я все помню или же извращаю Истину? Я замечаю, что моя голова то и дело забывает имена людей, с которыми я общаюсь, с которыми постоянно разговариваю; как, например, имя жены торговца Бурума или кучера, который наполовину норвежец и потому любит поговорить со мной. Как же я могу доверять своей памяти, если речь идет о событиях порой более чем сорокалетней давности?
Ветер попискивает в щелястом окне. Пытается проникнуть в комнату сквозь едва заметные трещины в раме, словно рвется в тепло и уют дома. Дождь барабанит по крыше, хлещет в окно, словно кто-то стоит там, за стеной, и поливает дом, ведро за ведром. Шторм не утихает уже третий день, и ни одно судно за это время не пришло на Лэссёйен и не покинуло его. Вообще-то у меня есть время ждать, но я уже готов к дороге. Организм пришел в норму, и испражнения тоже. Одна мудрая женщина, живущая в северной части острова, несколько раз заходила проведать меня, последний раз два дня назад, она говорит, что я уже могу ехать дальше. Сама она молода и здорова, хорошо разбирается в травах и растениях, и, не подозревая об этом, напомнила мне одну старую знакомую, о которой я давно не вспоминал.
Я даже поинтересовался, откуда у нее такие познания.
Женщина рассказала, что пятнадцать лет назад к ним на остров приехала некая пожилая женщина, сама она в то время была еще “смешливой девчонкой с длинными косами”, как она выразилась. Эта пожилая женщина пришла в дом ее матери, она очень устала и хотела только узнать, где именно похоронена Моди.
– Так она сказала, и моя мать разрешила ей пожить у нас.
– Моди? – удивленно переспросил я, и что-то в моей голове рухнуло обратно в прошлое, словно я находился на падающей звезде.
– Да, – серьезно ответила молодая женщина, не заметив, что это странное имя показалось мне знакомым. – Пожилая женщина сказала, что так звали ее мать, новую мать, которую она нашла, когда молодой девушкой приехала сюда на Лэссёйен. Имя было необычное. Да она и сама была необычная. Я привязалась к ней и полюбила ее. Она взялась учить меня, хотела передать мне свои знания о растениях и их целебной силе; сказала, что она решила повременить со смертью.