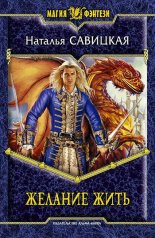Второй после Бога Ауст Курт

Беседа в зале возобновилась, как только я закрыл за собой дверь и отправился на встречу с нунцием.
Глава 4
– Сможете ли вы найти усадьбу Трооошвик? – спросил меня нунций по пути к гавани. Увидев на моем лице растерянность, он вытащил какую-то бумажку. – Gucken Sie mal: усадьба Троо-швик, – сказал он.
Я прочитал то, что было написано на бумажке, и засмеялся. Он обиженно взглянул на меня.
– Да, думаю, я смогу найти усадьбу Тросвик, – сказал я и показал на воду. – Она находится на северо-западе, вон за тем низким мысом, но это недалеко. Если мы найдем кого-нибудь, кто нас довезет, это займет меньше часа.
Перевозчик переправил нас на другой берег фьорда, но телеги с возницей мы там не нашли, и нам пришлось довольствоваться двумя клячами, что явно оказалось нунцию не по душе. Он покосился на лошадей, на меня и на крестьянина, который их нам предоставил, потом вытер нос и осторожно взгромоздился на вогнутую спину лошади. Крестьянин попросил нас не слишком гнать лошадей, так как их лучшие времена уже прошли. Я глянул на застывшую фигуру нунция и сказал, что едва ли в этом будет необходимость.
С запада дул свежий ветер, и я уже подосадовал, что надел парик, но неожиданно увидел, что нунций снял свой и сунул его в мешок, притороченный к седлу. Проделав то же самое, я позволил себе наслаждаться тем, что еду по норвежской земле.
Дорога петляла среди полей, маленькие и большие каменистые холмы поднимали из земли свои невзрачные серые физиономии и на свой грубоватый лад приветствовали меня с возвращением домой. Мне было приятно их видеть после нежного, расслабленного датского пейзажа, всегда такого чистенького и предсказуемого. Наконец-то я был дома, в этой дикой, суровой и невеселой стране, которая прячет в своей глуши гномов и троллей и способна неделями, месяцами и даже годами скрывать беглецов так, что их не могло обнаружить ни правосудие, ни королевские солдаты. “Бесконечная земля”, – сказал однажды некий приезжий, которого я провез по полям, принадлежавшим усадьбе Хорттен, и спросил, как выглядят другие страны. “Бесконечная земля. Норвегия как песня, в которой все время появляются новые куплеты, и ты знаешь, что никогда не допоешь ее до конца, никогда не познакомишься со всеми ее богатствами”. Так он сказал. И пропел мне один куплет:
- Крестьяне у моря
- Не знают горя.
- Там луга и поля,
- А тучная земля
- Прокормит плугаря.
- Знай себе паши
- От души.
- Хочешь – на паре,
- А хочешь – на трех
- Иль четырех.
- Земля тут все может,
- Скотинку множит[2].
Оглядевшись по сторонам, я увидел крестьян, поля, луга, корови овец и подумал: да, так и есть, прекрасные луга – прекрасная земля! И наконец-то ощутил, как хорошо вернуться домой.
Моя уверенность в том, что я знаю, где находится усадьба Тросвик, была несколько преувеличенной. Когда я, мальчишкой, работал в Хорттене, я один раз остался в лодке в заливе Тросвик, а другой мальчишка, Нильс, побежал наверх в усадьбу с посылкой – двумя письмами, ящиком сельди и двумя бутылками ликера. Я, можно сказать, почти был там. Посылка, насколько я помню, была от одного торговца, жившего к югу от Холместранда, который лично приезжал в Хорттен и просил, чтобы мы доставили его посылку непосредственно в Тросвик. Содержимое посылки служило явным доказательством хорошо известного обстоятельства, что тогдашний хозяин Тросвика, генерал Сисиньон, имел пристрастие к ликеру и к жареной сельди.
Из-за того, что в усадьбу тогда ходил Нильс и что было это восемь лет назад, каждый новый поворот дороги, петлявшей среди болот, перелесков и небольших хлебных полей, только усиливал мою неуверенность.
Нунций дей Конти сидел на лошади с папскими четками в руках и, с интересом поглядывая по сторонам, перебирал их; его губы слегка шевелились, и мне казалось, что он ведет внутренний разговор с Богом. Я даже испытал нечто, похожее на зависть. Нет, я не утратил веры. Напротив, время, проведенное на факультете теологии вплоть до экзамена на звание теолога, расширило мои горизонты и укрепило меня в вере настолько, что я мог лучше противостоять растущим сомнениям Томаса. Сомнениям, подкрепленным пространными научными аргументами, которыми он часто и более чем охотно делился со мной. Мои теологические познания окрепли, и я был уже способен вести богословские беседы, но что касается практической стороны дела… Мои молитвы казались мне длинными тирадами, пестрящими множеством раздраженных слов, фраз из литургии и вопросов, обращенных к молчащим и недоступным небесам – недоступным, как сказочный замок, – никогда не дававшим ничего, что хотя бы отдаленно можно было принять за ответ. Вид нунция, восседающего с достоинством в седле и непрерывно беседующего с Богом, заставил меня почувствовать себя… – даже не знаю, как это лучше выразить, – почувствовать себя сыном, у которого на глазах отец осыпал слугу дарами и золотом. Несправедливо.
– Спросите у той женщины, – неожиданно сказал он.
– Что спросить?
– Дорогу в Тросвик. Ведь вы не уверены, что мы едем правильно?
Я подъехал к оборванной женщине, которая на опушке леса срезала гроздья рябины.
– Простите, сударыня, не могли бы вы сказать мне… – Больше я ничего не успел произнести, потому что добрая женщина с пронзительным визгом бросила свой мешок и скрылась между деревьями, словно у меня на лбу росли рога.
– Наверное, она очень торопилась. – Я опешил.
– Да, я это заметил, – с намеком на улыбку сказал нунций. – Должно быть, она спешила домой, взглянуть, не пригорела ли у нее каша. К тому же рябина, говорят, ягода горькая, да и рвать ее не разрешено.
Я засмеялся. Женщина наверняка подумала, что мы хотим уличить ее в воровстве.
Вскоре на боковой тропинке я увидел едущего верхом пожилого высокого человека. Он ехал из небольшой находившейся поблизости усадьбы, держался в седле прямо и двумя пальцами крутил густые усы. Длинные седые волосы были собраны в пучок на затылке. Выправка у него была военная, но одежда крестьянская – кафтан из домотканого сукна и грубые рабочие штаны.
– Добрый человек, – обратился я к нему, придержав лошадь. – Не поможете ли вы нам найти дорогу в Тросвик?
Серые, как гранит, глаза уставились на меня; понять, что скрывается в голове у этого человека, было невозможно. Потом, через мое плечо, они остановились на нунции, и что-то в них будто шевельнулось, что-то, на мгновение выразившее узнавание, сдержанный гнев или, быть может, искру надежды? Я не понял, потому что лицо этого человека все время оставалось неподвижным. Взглянув на меня, он коротко ответил, что мы должны подняться на холм, после развилки поехать по левой дороге и тогда вскоре за деревьями увидим здание.
– Спросите у него, живет ли по-прежнему в усадьбе генерал Сисиньон? – спросил нунций у меня за спиной. Я знал ответ, но все-таки повторил крестьянину вопрос нунция.
– Нет. Генерал умер в тысяча шестьсот девяносто шестом году, – коротко ответил крестьянин нунцию.
– Спросите, живет ли по-прежнему в Тросвике патер Веймерс.
Я спросил.
Крестьянин молчал. Серые глаза долго смотрели на нунция, потом скользнули по моей особе, от макушки до самых сапог, и снова обратились на нунция.
– Нет, – бросил он и тронул коня.
Я наблюдал за нунцием, который, наморщив лоб, смотрел ему вслед, и вдруг мне захотелось, чтобы рядом оказался юнкер Стиг с его шпагой. Ответственность! Томас сказал, что я головой отвечаю за этого папского посланца. Но что бы я мог сделать, если б этот крестьянин, этот огромный детина, замыслил что-нибудь недоброе? В его сильных руках я оказался бы чем-то вроде вареного гороха.
Следуя его указаниям, мы подъехали к большому белому зданию, и служанка застенчиво подтвердила нам, что это и есть усадьба Тросвик. Однако ни хозяина, ни хозяйки в настоящее время нет дома, они уехали в Христианию, прибавила она и поспешила в хлев.
Нунций взглянул на парк и сказал, что это подходящее место, где мы можем отдохнуть и подкрепиться взятой с собою пищей. Я привязал лошадей, и мы прошли мимо низкой ограды, окружавшей клумбы и куртины, к лужайке, обсаженной с трех сторон высоким можжевельником, там стояла скамейка.
– Здесь красиво, – заметил нунций. Он остановился и огляделся по сторонам. Пока мой господин бродил по узким тропинкам, я распаковал еду. Мой желудок, который целый день оставался пустым, урчал от предвкушения, но нунций неожиданно ахнул и уставился на что-то под кустами. Он склонился так низко, что видна была только его широкая спина, потом он выпрямился и пробормотал: – Они этого не уничтожили!
Любопытство победило во мне голод, я подошел к нему и через его плечо увидел камень, на котором была выбита латинская фраза: SANCTA MARIA – ORA PRO NOBIS. Я вспомнил слова, которые он произнес утром на судне: “Святая Мария – молись за нас”. Под словами было начертано I. C. VON CICIGNON 1680.
Что-то забрезжило у меня в памяти, не сразу, но что-то забрезжило.
– Генерал был папистом? – с удивлением спросил я.
При жизни генерал Сисиньон был самым могущественным человеком в стране, подчинявшимся только наместнику и королю, так что папистом он никак не мог быть.
– Да, – выразительно сказал нунций дей Конти. – Генерал никогда не отступил от своей веры. Он был истинный слуга Господа.
В растерянности я вернулся к скамье, сел и начал есть, но в голове моей царило смятение. Как офицер, занимающий столь высокое положение, мог оставаться заблудшим еретиком? Он, главный ответственный за оборону Норвегии? Может быть, никто просто не знал, что генерал был католик? Он скрывал это. Но существование камня, даже спрятанного в кустах, указывало на то, что кому-то это все-таки было известно. Может, он пытался склонить людей в свою еретическую веру, когда ездил по стране, проверяя крепостные сооружения? Ни для кого не было секретом, что в Копенгагене велась тайная католическая деятельность. Прозелитизм, то есть попытка обратить кого-то в другую веру, был запрещен законом, один из студентов университета, с которым я учился, был разоблачен полицмейстером, когда тот собирался уехать в Страсбург, чтобы учиться в иезуитской коллегии. После долгих допросов в консистории его освободили при условии, чтобы он написал признание, в котором бы говорилось что католицизм – “мерзкая ересь, безбожие и заблуждение”. Это признание он должен был прочитать перед нами, то есть перед студентами, дабы оно послужило нам предупреждением и, вообще, нас напугало.
Нунций долго стоял на коленях перед камнем с текстом в глубокой молитве и только потом принялся за еду. Поев, он показал на холм за Тросвиком и сказал, что, по его мнению, оттуда открывается красивый вид и нам следует поехать туда.
Я быстро завернул остатки еды, и мы вернулись к лошадям. Из открытой двери хлева выглянула служанка, я подошел к ней и спросил, как нам проехать на тот холм. Она покраснела и, не поднимая глаз, объяснила, как нам ехать.
На вершине холма на большом пространстве деревья были срублены, кусты расчищены и из расщепленного вдоль бревна сделана скамья. К моему удивлению, там мы тоже нашли камень с надписью. На этот раз надпись была сделана по-итальянски: BELVEDERE PER EL MARE DE DELL SIGNOR GENERALL DE CICIGNON 1680.
Некоторое время назад Томас Буберг решил освежить свое знание итальянского языка, приобретенное им во время учения во Флоренции, потому что его включили в члены комиссии, которой предстояло выработать новый Дворцовый закон в Норвегии. Король славился тем, что обожал все итальянское с тех пор, как, будучи кронпринцем, побывал в Италии и, по слухам, безумно влюбился там в одну красивую итальянку. Поэтому итальянские выражения вошли при дворе в моду, хотя сам король плохо владел этим языком. Так или иначе Томас не хотел, чтобы “его заржавевший итальянский стал помехой его возможному продвижению по служебной лестнице”, как он выражался, когда ему приходилось защищать свои плохо скрытые амбиции. В связи с этим “освежением” Томас счел, что мне тоже было бы неплохо иметь в запасе еще один язык. Он полагал, что, чем больше языков человек знает, тем больше у него будет друзей, а значит, меньше врагов.
“Красивый вид… на море”, – перевел я про себя. Этот текст тоже принадлежал генералу. Я поглядел на море. Осенние тучи низко нависли над водой, но редкие проблески солнца подсказали нам причину, вызвавшую объяснение в любви к этому месту.
Нунций опустился на скамью и сделал знак, чтобы я сел рядом с ним.
– Как здесь тихо, – сказал он и замолчал.
Меня несколько сбивало с толку то обстоятельство, что нунций постоянно переходил с немецкого на латынь, а порой разражался и итальянскими восклицаниями. Правда, я уже начал к этому привыкать и обнаружил, что латынью нунций пользуется, когда хочет подчеркнуть что-то особенно важное или не хочет, чтобы его понял юнкер Стиг, а немецкий служил ему для ежедневного общения и для разговоров с людьми.
Я достал яблоко, разрезал его пополам своим ножом и одну половинку протянул моему господину. Некоторое время он смотрел на протянутое ему яблоко, потом взял его.
– Я понимаю, почему Мартин Лютер сократил наполовину добрые дела. Они уже не так нужны.
Вторая половинка яблока, которую я уже подносил ко рту, замерла в воздухе, и я в замешательстве положил ее на скамью между нами.
– Тот, кто считает себя грешником, к счастью для себя, пугается собственного страха перед судом Божиим, – сказал нунций, обращаясь к морю и к лесу, росшему ниже на склоне. – Он загорается новой надеждой, когда обращается к вере в милосердие Божие. И начинает любить Бога как источник справедливости, а потому враждебно относится к греху, считая его омерзительным, то есть он верит в искупление, которое должно было иметь место до крещения. – Нунций повернулся ко мне. – В конце концов, он решает принять крещение, начать новую жизнь и исполнять Божии заповеди. – Наконец нунций откусил кусок яблока, тщательно прожевал его, откусил еще и так медленно съел всю половинку. – Человек спасается добрыми делами, – сказал он, глядя на скамью. Потом протянул мне отложенную мной половинку яблока.
Я осторожно взял ее, поблагодарил нунция, откусил крохотный кусочек и долго жевал его, пока слова папского посланца кружили в моей голове. А потом начал кружить и мой ответ. Слова и фразы вроде “Человек не спасется добрыми делами” и “Если Господь принимает нас с учетом наших дел, мало кому удастся предстать перед Ним” или “Мы делаем добрые дела не для того, чтобы нас одобрил Господь, а потому что Господь уже одобрил нас”. Однако вслух я всего этого не произнес. Не смог. Ведь он архиепископ. Он ученый, тот, кто знает ответы на все вопросы, знает истину. А я всего лишь обычный теолог.
Я ел яблоко, свою половинку, как вдруг нунций встал с недовольным хмыканьем. Он не желает больше здесь ждать, он хочет походить по окрестностям. Я быстро обглодал огрызок и выбросил его в кусты.
– Помни, я иностранный делец, ищу, во что здесь можно вложить деньги, – сказал он по-немецки, глядя на другой берег фьорда и острова. – Что мне может предложить это место?
Вместо ответа я отвел его к лесопильням возле Хавслунда, где мы осмотрели балки, мачты, доски и другую древесину, сложенную штабелями, и я переводил артельному вопросы нунция о мощности лесопильни, сезонной работе, спросе на древесину, о рабочей силе, о связи с внутренними заливами и отдаленными местами, о сплаве к местам погрузки и о многом другом, о чем я сам не имел ни малейшего понятия. Нунций говорил как опытный торговец, вел себя как торговец и, неожиданно для меня, мыслил как торговец.
Он даже попросил, чтобы ему назвали разные места погрузки, хотел поговорить с фрахтовщиками о ценах на фрахт и рабочую силу, поговорить с хозяином Нюгорда о ценах на землю и строительные материалы и еще о многом, так что, когда мы к вечеру пристали на пароме к причалу Фредрикстада, уставшие, но довольные проведенным днем, я почти забыл, что он служитель Церкви, а я его секретарь. К концу поездки, после отдыха на той скамье, между нами установились свободные, почти дружеские отношения, как будто нунцию в его роли торговца не нужно было быть серьезным и сохранять чувство собственного достоинства, которое требовалось от посланца Папы. Имело значение и то, что за нами не наблюдало внимательное, неусыпное око юнкера.
Я протянул нунцию руку, чтобы помочь ему сойти на пристань, и спросил у него, доволен ли торговец проведенным днем.
– Тут есть много возможностей для будущего, – сказал он с улыбкой и оперся на мою руку. – Но мне нужно посоветоваться с Высшим Судьей, прежде чем я смогу принять окончательное решение.
Я все еще недостаточно знал его, чтобы понять, как я должен комментировать это двусмысленное замечание, а посему я промолчал и расплатился с паромщиком.
– Вот и конец миру, – пробормотал нунций у меня за спиной.
– Хорттен! – Тот, кто окликнул меня, подошел ко мне уже довольно близко и снова позвал меня: – Хорттен! – Звавший меня запыхался, но я отчетливо слышал свое имя. – Похоже, секретарь-помощник лишился рассудка и забыл, что он отвечает за жизнь…
Я обернулся и приложил палец к губам.
– Тс-с! Это еще не повод, чтобы кричать об этом на весь город, тем более если действительно эта страна так опасна, – тихо прервал я его.
Передо мной, красный как рак, стоял юнкер Стиг, держа руку на эфесе шпаги, он прошипел сквозь зубы:
– Берегитесь, несчастный! Не раздражайте меня, а не то это станет делом чести, разрешить которое сможет только оружие.
Он знал, что я не владею оружием.
– Разве вам не известно, что король запретил дуэли? – спросил я.
Юнкер Стиг криво усмехнулся:
– Сожалею, но я не слышал того, что вы сказали.
Нашу беседу прервал нунций, он обратился ко мне по-латыни:
– В чем дело?
Я ответил ему по-латыни, которую, как мы с нунцием выяснили, юнкер понимал весьма слабо:
– Юнкер гневается за то, что я позволил вам уехать из-под его надзора. Он собирается вызвать меня на дуэль.
Нунций дружески взглянул на юнкера и перешел на немецкий:
– В этой поездке господин Хорттен выполняет обязанности моего секретаря. Он подчиняется мне, и только мне. Если с ним что-то случится, вы будете отвечать за это перед королем. Помяните мое слово. – Скользнув взглядом по воде, он прибавил: – Впредь я не желаю иметь никакого дела с вашей особой.
Казалось, что юнкер вот-вот набросится на нунция, и я уже приготовился прыгнуть между ними, но юнкер повернулся на каблуках и быстро пошел к городским воротам.
Нунций похлопал себя по животу и улыбнулся:
– Этот господин возбудил мой аппетит. Я, как лев, готов сейчас слопать кого угодно. Давайте поедим, прежде чем я уясню себе, что он – человек, которого бросили на съедение львам еще до пророка Даниила.
Глава 5
– Значит, вы изучали возможности торговли в Норвегии? – Один из клиентов аптекаря придвинул свой стул поближе ко мне и, приветствуя меня, поднял бокал. – Кристофер Мунк, городской судья, – представился он и подмигнул мне, словно у нас с ним была общая тайна.
– Петтер Хорттен, секретарь, – сказал я и подмигнул в ответ.
Очевидно, перегоночный аппарат аптекаря непосредственно влияет на глаза его клиентов, подумал я, увидев, как какой-то молодой человек игриво подмигнул служанке, которая собиралась наполнить его рюмку. Она улыбнулась и, клянусь, тоже подмигнула ему. Я протер глаза, явно я слишком мало спал предыдущей ночью. Нунций уже давно лег, и юнкер Стиг – тоже. Приближалась и моя очередь.
Неожиданно я вспомнил, что городской судья ждет ответа на свой вопрос, и подтвердил, что мой теперешний хозяин итальянский торговец.
– Но сами-то вы не итальянец. – Судья улыбнулся и снова подмигнул мне. Я ответил, что я норвежец, как и все тут присутствующие, и объяснил, что служу своему хозяину в качестве проводника и переводчика, хотя на самом деле я секретарь профессора Томаса Буберга, живущего в Копенгагене.
Городской судья с недоумением уставился на меня:
– Профессора Буберга?
– Да.
– Неужели на свете действительно есть профессор с таким именем?
– Да, конечно. – Я был удивлен.
Городской судья покрутил рюмку и спросил:
– Если не ошибаюсь, этот ваш профессор мыслит научно и де-ективно?
– Дедуктивно, – поправил я судью и приосанился, сидя на стуле. – Да, это мой господин. Он прославился своей способностью к ясному и дедуктивному мышлению. Профессор систематизирует смертельные случаи и изучает разные виды убийств, что помогает ему найти преступников. Неужели его слава дошла даже до Норвегии?
Городской судья кивнул, словно в ответ на собственные мысли.
– Да, я узнал имя. Буберг, совершенно верно. – Он опорожнил рюмку и велел служанке снова ее наполнить, потом вопросительно взглянул на меня, но я прикрыл свою рюмку рукой – пора было ложиться спать.
– Да-да, Буберг. Гм-м, у нас тут о нем ходят легенды. – Судья посмотрел на сидящих за столом. – Вы слышали, этот молодой человек секретарь Буберга? Профессора Буберга.
– Буберга, того, про которого ходит столько смешных историй?
Я не понял и вопросительно посмотрел на судью, тот ответил мне энергичным кивком головы, из-за чего парик съехал ему на лоб.
– Совершенно верно. Ваш господин, несомненно, настоящий профессор. Между прочим, вы слышали последнюю историю? – Судья вытер губы и поправил парик. Потом серьезно кашлянул и произнес сладким тоном: – “Недопустимое вмешательство, – задумчиво сказал профессор Буберг, которому под парик попала блоха”.
Сидевшие за столом расхохотались. Бледный подмастерье портного начал икать, он несколько раз стукнул кружкой по столу и буквально проревел, чтобы перекричать смех:
– А вот еще! Вы только послушайте! “Все имеет свою логику, – сказал профессор Буберг и молотком смахнул с носа муху”.
Смех сотряс помещение, а я словно окаменел. Этот смех и недоброжелательство, звучавшее в их словах, приковали меня к месту. Наконец я вскочил и стукнул рюмкой о стол так, что осколки брызнули во все стороны.
– Господа! Следующего, кто осмелится нелестно отозваться о человеке, которому… которому вы и в подметки не годитесь, до которого вам далеко, до его мужества и отваги… о человеке, который никогда не позволит себе смеяться над глупостью других, даже если она настолько очевидна, как ваша… Следующего, кто позволит себе смеяться над ним, я собственноручно… отделаю так, что он подавится своими словами.
Меня трясло от гнева, я сипел и хрипел. Должно быть, я напугал их – нагнувшись над столом, я смотрел им в глаза, пока они не замолчали и с виноватой улыбкой один за другим не покинули помещение.
Городской судья смущенно кашлянул:
– Гм-м, да, некрасиво получилось. Вы – наш гость, и мы должны были оказать вам… – Он запнулся и рукавом смахнул со стола осколки стекла. Потом отвел глаза и закашлялся.
– Уважаемые господа! – Я подошел к двери. – Надеюсь, вы перемените тон и ваши злобные выпады останутся в прошлом. Доброй вам ночи!
Хотя усталость терзала меня хуже нарывов, я долго не мог уснуть. Слова горожан о Томасе Буберге растревожили меня. Кто, интересно, пустил в оборот эти истории и связал их с именем Томаса? Это были обычные не очень умные, полушутливые байки, которые уличные мальчишки и сплетницы принимают за расхожую истину. Бродячие анекдоты, которые можно услышать в любом месте. Но тут они были связаны с именем живого человека. Это было необычно и недопустимо, тем более что этим человеком был профессор Томас. Я решил завтра утром спросить у городского судьи, где он их слышал, – этому следовало положить конец. И поскольку самого Томаса здесь не было, позаботиться об этом должен был я.
Между прочим, Томас… Вот негодник! Отправился с судном дальше, в Христианию. Только сообщил мне, где будет находиться, чтобы я, в случае необходимости, мог его найти. В случае необходимости! Да нет, не нужен он мне! Как будто я сам не справлюсь! Может, он не верит в мои способности? Может, приехал в Норвегию, чтобы следить за моей работой в качестве секретаря-помощника?
Впрочем, вряд ли, ведь он уехал дальше, в Христианию.
В нижнем этаже уже давно все затихло, и весь город, казалось, отправился на покой. Я кипел от гнева, когда поднялся к себе и немного приоткрыл окно, выходившее на улицу. Мое внимание привлек слабый звук, доносившийся снизу и похожий на шепот. Я хотел было встать и взглянуть, кто это бродит по улице в такую пору, но меня одолела знакомая всем лень. Если по улице шли воры, меня это не касалось. По мне, так пусть бы всех горожан – вместе с самим городским судьей – начисто обобрали, только бы никто не тронул мои пожитки, которые в данную минуту были надежно пристроены в ногах кровати. Где-то в доме скрипнули половицы, открылась дверь, медленно, осторожно. Я насторожился. Мне показалось, что звук донесся из соседней комнаты, которую занимал нунций. Кто-то прокрался в коридор и, неслышно ступая, спустился по лестнице. Я встал и осторожно выглянул в окно. Какой-то человек с фонарем, висящим на палке, которая лежала у него на плече, ждал внизу у лестницы. Он что-то невнятно сказал тому, кто к нему спустился, и они оба пошли по дороге.
В одном из них безошибочно угадывался нунций с его угловатыми движениями, думал я, поспешно натягивая на себя одежду, потом зажег фонарь и заторопился за ними. Я видел их фонарь, мелькавший впереди между домами, поэтому с двух сторон прикрыл свой и постарался подойти к ним как можно ближе. Нунций и его спутник остановились, прислушались, подозрительно вглядываясь в осеннюю темноту у них за спиной. Я замер, прижавшись к стене и стараясь с ней слиться. За стеной дома слышался многоголосый храп.
Те двое, очевидно, успокоились и перешли через площадь. Они молчали. За какой-то оградой протяжно выли коты, их вой напоминал детский плач. Я чуть не споткнулся о гнилой кабачок, который валялся на площади после торгового дня. Бродячие собаки еще не добрались до него.
В облике незнакомца, идущего рядом с нунцием, мне чудилось что-то знакомое. Они свернули направо, на боковую улицу, а потом – в узкий проулок между двумя домами, зашли за ограду. Я крался за ними, останавливаясь и прислушиваясь у каждого угла; неожиданно я оказался в небольшом дворе, окруженном с трех сторон домами, попасть в него можно было только тем путем, которым прошел я. Двор был пуст, если не считать горы мусора. Те двое исчезли.
Я стоял в растерянности и уже жалел, что не разбудил юнкера Стига и не взял его с собой. Но извинял себя тем, что на это у меня не было времени, хотя в глубине души понимал, что не сделал бы этого ни в каком случае.
В доме передо мной было темно и тихо, в доме справа сквозь приоткрытые ставни виднелся слабый свет. Я подкрался к окну и заглянул сквозь тонкую ткань, закрывавшую щель в ставнях, но тут же отпрянул в темноту двора. Два пьяных солдата и полуодетая девка с бутылкой у рта вряд ли имели отношение к исчезновению нунция.
Неожиданно осветилось окно в доме слева. Это был солидный, но простой деревянный дом, построенный у крепостной стены и словно притулившийся к ней, как ласковая кошка. Внутри, в доме, я увидел спину нунция, она загородила от меня человека, который увел его из дома аптекаря. Я осторожно подкрался ближе, задев по пути ногой крысу, которая зашипела на меня и убежала. Следует ли мне войти внутрь?
Ничто не свидетельствовало о том, что нунций пришел сюда не по доброй воле. Он сам спустился по лестнице и встретил пришедшего за ним человека, и, когда они шли по городу, я тоже не заметил, чтобы он шел под угрозой оружия. В окне мне была видна только спина нунция, в его позе не чувствовалось напряженности, которую я непременно заметил бы, находись он здесь против своей воли.
Они тихо беседовали – сначала что-то говорил нунций, потом – незнакомец. Слов я не мог разобрать, потому что солдаты в доме у меня за спиной горланили какую-то непристойную песню и стены ближних домов отзывались эхом на их голоса. Незнакомец говорил долго, у него был низкий раскатистый голос, от которого в окне дребезжали тонкие стекла. Нунций повысил голос, похоже, он на что-то сердился, сказал по-немецки что-то про виноградник и какую-то измену, потом отошел в сторону, и я смог заглянуть в комнату.
Незнакомец стоял лицом к нунцию, и я сразу узнал его. Это был тот человек, у которого мы спрашивали, как проехать к усадьбе Тросвик, – пожилой, седой крестьянин с бравыми усами. Теперь на нем не было крестьянской одежды, ее сменила поношенная, но аккуратная офицерская форма.
Я быстро припомнил давешнюю встречу с этим человеком, не явствовало ли из чего-нибудь, что они с нунцием знали друг друга? Нет, ничего такого я не заметил. Судя по всему, та встреча была случайной. Что же тогда происходит сейчас в этом доме? У меня не было ответа на этот вопрос, и оставалось только наблюдать, слушать и запоминать.
Солдат-крестьянин вышел из комнаты и тут же вернулся обратно с двумя простыми бокалами. Он наполнил их и передал один бокал нунцию, который молча, не изменившись в лице, принял его. Солдаты в доме у меня за спиной допели свою песню и некоторое время довольствовались громкими выкриками и смехом. Нунций едва пригубил свой бокал, тогда как его собеседник закинул голову и одним глотком опустошил свой. Новая непристойная песня заглушила все остальные звуки. Солдат-крестьянин что-то сказал, но в ответ нунций только отрицательно помотал головой. Хозяин налил себе снова, хотел выпить, однако нунций произнес что-то, что заставило хозяина поставить бокал на стол и выйти из комнаты. Нунций посмотрел ему вслед, достал из кармана какой-то пузырек и открыл его. Потом быстро подошел к столу и склонился над бокалом хозяина…
У меня за спиной послышался шум, один из солдат распахнул дверь и вывалился во двор. Он был так занят, расстегивая штаны, что не заметил, как я выскользнул со двора и спрятался в темноте. Вскоре я услышал глубокий вздох и журчание льющейся на стену жидкости. Я ждал, когда он уйдет, но тут во двор вышел второй солдат, они болтали о чем-то и рыгали, пока в соседнем доме не открылось окно и сердитый голос не потребовал тишины; солдаты стали отругиваться, и тут я неожиданно увидел, что нунций вышел из дома и направляется в мою сторону. Не спуская с солдат глаз, он крался вдоль стены дома, держа перед собой фонарь, привязанный к палке. В страхе быть обнаруженным, я бросился в проулок. То обстоятельство, что я был проводником нунция и должен был охранять его во время нашей поездки, еще не означало, что он оценил бы, что я слежу за ним без его ведома. Он, несомненно, хотел скрыть от меня этот ночной визит.
Пока мы шли от этого дома к нашей аптеке, я следил, чтобы он не сбился с пути и чтобы через площадь его фонарь двигался прямо по направлению к аптеке. Успокоенный, я поспешил домой и быстро поднялся по лестнице. Я прилагал все усилия к тому, чтобы ступени не скрипели, и одновременно размышлял, не должен ли я разбудить юнкера Стига и рассказать ему о случившемся; решив, что не должен, я прошел в свою комнату, однако передумал, на цыпочках подошел к комнате юнкера и постучал. Из комнаты доносился тихий, урчащий храп. Я открыл дверь, протянул в комнату руку с фонарем и увидел на подушке его сильную шею и темноволосую голову. Под одеялом вырисовывался локоть. Я с удовлетворением отметил, что на макушке юнкера намечается лысина, объяснявшая, почему он всегда носит парик. Обрадованный этим обстоятельством, я закрыл дверь.
Вернувшись к себе, я сразу лег и вскоре услышал, как нунций поднялся наверх и проскользнул в свою комнату. Там он недолго с чем-то повозился и затих. А вскоре заснул и я.
В ту ночь мне первый раз приснился тот сон.
* * *
Я не стал будить юнкера! Не стал!!
Именно так. Как ни прискорбно, я вынужден признаться в этом самому себе.
Бедро болит, и я сдвигаю пюпитр для письма к изножью кровати, чтобы иметь возможность помассировать бок. Барк поднимает на меня глаза, но я машу ему рукой – мне ничего от него не надо.
Что это, тщеславие или приступ юношеского безумия заставил молодого человека не сделать того, что полагалось? Неужели глупая надежда обойти камер-юнкера и привлечь внимание фрейлейн Сары к своей особе не позволила мне войти в комнату юнкера, тронуть его за плечо и разбудить?
Если бы я разбудил его, возможно, все сложилось бы иначе и человеческая жизнь была бы спасена. Возможно. Скорее всего, так. Но с уверенностью этого не скажет никто.
У меня болит грудь, я кашляю, скривившись от боли. Барк встает из-за маленького столика у окна, где он вырезает ложки и черпаки. Массирует мне спину и грудь, наконец кашель успокаивается. Тяжело дыша, я опускаюсь на подушки, а он идет, чтобы приготовить мне горячее питье.
Я возлагаю слишком большую вину на молодого Петтера Хорттена. Вину за смерть человека. Это серьезное обвинение. Деве Марии это не понравилось бы, думаю я и грустно улыбаюсь при мысли о красивой деревянной скульптуре, с которой я этим летом разговаривал в церкви на Лундёйене. Она просила меня взглянуть на дело с другой стороны. С доброй.
Добрая сторона. А есть ли такая сторона в моей истории? И для кого добрая?
Возможно, разбуди я юнкера, наша поездка так и осталась бы только поездкой. Но хорошо ли это? Возможно, тогда любовь никогда бы не проявилась. Возможно, мальчик так и не родился бы на свет? Для кого это было бы хорошо?
Возможно, любовь и тоска не поселились бы и не ныли в старой больной груди?
Я вздыхаю и смотрю, как за окном падает косой моросящий дождь.
Кто знает, что хорошо, а что плохо? Что правильно, а что – нет? Целиком истина никогда не открывается человеку, и будущее всегда скрывает темные углы, которые он обнаруживает слишком поздно.
Никто ничего не знает. Независимо от желания языческой богини судьбы рыться в старых грехах, я не должен безоговорочно возлагать всю вину на свое юное “я”. Случившегося все равно не исправишь, говорю я себе. Судьба или не судьба, прошлого не изменишь. Единственное, что я могу сделать, – только рассказать…
Но я не могу удержаться и не думать о том, что мелкий, на первый взгляд незначительный, выбор может иметь катастрофические последствия.
Четверг 25 октября
Год 1703 от Рождества Христова
Глава 6
Я видел женщину, ее глаза, молящие и в то же время обвиняющие, спутанные волосы, обломанные ногти на тонких скрюченных пальцах, худую фигуру в безжалостных тисках позорного столба. Все это отчетливо, слишком отчетливо, стояло у меня перед глазами, когда я проснулся. Я ополоснул лицо холодной водой, но это не помогло. Вымыл уши – бесполезно. Я все еще слышал насмешливые крики, слышал плеск выливаемой на нее воды, видел струи мочи, мочившихся на нее мужиков, слышал, как с глухим звуком об нее разбивались тухлые яйца и яблоки. Слышал ее хриплые вопли и проклятия зрителям, предупреждения, что в следующий раз на ее месте могут оказаться они. Люди не верили ей, думал я. Человек никогда не верит, что он может оказаться следующим.
Этот сон обладал такой силой кошмара и яркостью действительности, что мне пришлось, дрожа от холода, раздеться догола, вымыться целиком и растереться грубой холстиной, прежде чем картины сна начали понемногу бледнеть. Мне помог знакомый смех, донесшийся откуда-то из дома и очистивший мои уши, – я наконец проснулся и понял, где нахожусь. Я быстро оделся и сошел вниз.
Нунций сдержанно и немногословно попросил меня запастись едой на целый день – мы покидаем Фредрикстад и едем дальше по западной стороне фьорда, сообщил он мне. Это было неожиданно, потому что не далее как накануне он говорил, что ему нравится город, и радовался возможности познакомиться с ним поближе. Я передал распоряжение юнкеру Стигу, который велел слуге уложить его вещи и вышел за дверь.
Пока возница грузил наш багаж на телегу, фрау Крамер пригласила нас к завтраку, и мы расселись вокруг стола, ломившегося от колбас и сыров, не похожих на обычную норвежскую пищу. Даже нунций немного просветлел от этого зрелища, хотя вообще-то был погружен в мрачные мысли.
– Ах… metwurst? – Фрейлейн Сара улыбнулась фрау Крамер, когда увидела колбасу. – Und kse aus Gouda! – Она взяла кусочек сыра и с наслаждением его понюхала.
К своему удивлению, я узнал, что фрейлейн Сара ночевала в доме Крамеров, однако не мог понять, где же здесь для нее нашлось место. Возможно, в доме была комната, которой я не заметил? Удобно ли ей там было спать, это уже другое дело, потому что она выглядела усталой и была не в духе и ее смех звучал немного натянуто, не так как всегда. Я понял, что семейство Крамеров пригласило ее остаться и пожить у них. Это пошло бы ей на пользу, – судя по ее виду, она нуждалась в долгом отдыхе и покое.
В дверях появился юнкер Стиг, уходивший на небольшую прогулку, он приказал своему слуге, сидевшему за столом, почистить его плащ, а сам сел на его место. Герберт бросил взгляд на свою тарелку с едой, бесстрастно поклонился и вышел с плащом в руках.
Фрау Крамер принесла юнкеру чистую тарелку и чистый бокал, предложила ему хлеба, вина и нервно кружила над ним, пока он, наконец, не был удовлетворен.
– Судя по вашему виду, вы ждете цирюльника?! – сказал юнкер нунцию и громко засмеялся.
Нунций сидел, повязав салфетку на шею, и действительно казалось, что он ждет цирюльника. Я же свою салфетку положил на пол, не зная, что мне с ней делать во время еды – она была так красиво сложена, что я принял ее за украшение. Памятуя добрые советы Эразма Роттердамского, я до сих пор вытирал пальцы о скатерть.
Нунций не ответил, но, наклонившись к фрейлейн Саре, похвалил вино, налитое в ее бокал, и предложил ей сыр, который, по его мнению, должен был ей понравиться, потому что был немецкий и по вкусу, и по аромату.
Она с благодарностью взяла сыр, а юнкер Стиг схватил с блюда колбаску и откусил большой кусок.
– Вы хоть понимаете, – он помахал колбаской перед носом у нунция, – что вы должны быть благодарны этому господину, – он ткнул себя пальцем в грудь, – за то, что вам вообще разрешили приехать в Норвегию?
Нунций тоже взял колбаску, изящно отрезал от нее кусок и положил его себе на тарелку, потом начал есть вместе с хлебом и сыром.
– Должны, должны, – упрямо повторил юнкер, – потому что король хотел отказать вам в этой поездке. Он считал, что, поскольку молодой Хорттен не владеет никаким оружием, слишком рискованно разрешать вам поездку по этой дикой стране. Вы же сами отказались взять с собой своего слугу.
Правда, я об этом совершенно забыл. Томас как-то сказал мне, что нунций дей Конти привез с собой из Ватикана слугу, но его редко видели в городе. Это был пожилой, слабый на вид человек, который совсем не годился на роль защитника папского посла. Я прекрасно понимал, почему его оставили в Копенгагене.
Юнкер Стиг вытер губы салфеткой и бросил ее на стол.
– Когда я узнал, что секретарь канцелярии уже готов остановить вас, я задержал его. И предложил себя в качестве вашего спутника и защитника в этом путешествии, и мое предложение было принято.
Он замолчал, словно в ожидании благодарного жеста или слов благодарности, но ждал напрасно. Ни выражение лица нунция, ни его поведение не свидетельствовали о том, что он вообще слышал слова юнкера.
Юнкер Стиг поджал губы и сжал лежавшие на столе кулаки, однако смолчал. Я посмотрел на его руки и увидел шрам на тыльной стороне ладони, похожий на нервно проведенную черту. Шрам от шпаги, подумал я. Или от меча.
Мы в молчании, быстро закончили завтрак, словно куда-то спешили.
Когда мы уже расплатились с аптекарем и стояли перед домом, готовые к отъезду, мимо нас с сосредоточенной миной на толстощеком лице быстро прошел городской судья. Он рассеянно поздоровался с нами, но через несколько шагов остановился и поманил меня к себе.
– Надеюсь, вы больше не сердитесь на наши вчерашние шутки? Они были вполне безобидны.
– Профессор Томас Буберг не заслужил, чтобы злословили о его особе, – сказал я. – Он известный человек, господин судья, личность, с которой вы с удовольствием выпили бы по бокалу вина.
– Мы это непременно сделаем! – взволнованно воскликнул судья и оглянулся по сторонам, словно показывая, что готов выпить с Томасом уже сейчас.
Я поспешил сказать ему, что профессор в настоящее время находится в другой части страны, так что их приятную встречу придется отложить до другого раза.
– Хорошо, мы подождем. Но… – Судья посмотрел на улицу. – Вы, кажется, сказали, что он исследует разные виды убийства?
Я подтвердил. Именно в этих исследованиях ему особенно помогает его способность к дедукции.
– Вы были его секретарем и, наверное, много знаете о его работе?
Это я тоже подтвердил, хотя подчеркнул, что сам ни в коей мере не обладаю способностями профессора.
– Пошли, – сказал судья Мунк и собрался повести меня за собой. – Мне как раз предстоит расследовать неожиданный смертельный случай и хочется посмотреть, как бы вы начали расследовать это дело.
– Но это… Это невозможно! – Я растерялся. – Мой теперешний господин должен ехать дальше, в Мосс и в Вестфолд, и я должен его сопровождать.
– Это не займет много времени, – не смутившись, изрек судья. – Скажете ему, что остаетесь в моем распоряжении на несколько часов, и он вас подождет.
В этом я не был уверен. Однако пошел к нунцию и изложил ему суть дела: городской судья просит меня помочь ему в расследовании одного смертельного случая.
Нунций был непоколебим.
– Едва ли секретарь-помощник обладает способностями, которых нельзя найти в этом городе, – сказал он с презрительной миной. – Я уверен, что людей, умеющих писать, можно найти даже в этой деревне.
Задетый за живое, я уже собирался объяснить ему, что место, где живет восемьсот человек, – это уже не “деревня”, но тут к нам подошел юнкер Стиг и пожелал узнать, в чем дело. К моему удивлению, нунций изложил ему дело так, как будто всегда считался с его мнением, и закончил свою речь, заявив, что проводник и переводчик важен для него в предстоящей поездке. Было ясно, что он не сомневался в поддержке со стороны юнкера.
Однако, к моему еще большему удивлению, юнкер Стиг без всякого раздражения в голосе заявил, что он и сам способен найти путь в Мосс и Йелёйен, где нунций сможет подождать секретаря. Я решил пересмотреть свое отношение к юнкеру, а сам тем временем наблюдал, как фрейлейн Сара прощается с господином и госпожой Крамер – значит, она все-таки решила продолжить путешествие вместе с нами.
– Я еду с вами, – решительно сказал я нунцию, который, отвернувшись от нас, с задумчивым видом наблюдал, как одинокая курица роется в пищевых отходах.
– Нет, господин юнкер прав, – медленно сказал он. – Как раз в сегодняшней поездке ваше присутствие мне не так необходимо. Однако вы должны будете как можно скорее догнать нас, вы должны быть с нами до того, как мы переправимся через фьорд на пароме.
– Хорошо, – сказал я и спросил, могу ли я отправить с ними свои вещи, на что они оба дали свое согласие. Тогда я попрощался с нунцием, кротко кивнул юнкеру и улыбнулся фрейлейн Саре, которая удивленно спросила, почему “der Sekretr” не едет вместе со всеми. С важным видом я объяснил ей, что городской судья и магистрат города нуждаются в моей помощи, но что уже к вечеру я их догоню. Она не ответила на мою улыбку и, посмотрев на улицу, поинтересовалась, что это за дело, в котором так неожиданно понадобилась моя помощь. В ее голосе прозвучали резкие нотки, каких я прежде ни разу не слышал.
Пришлось сказать, что я этого еще не знаю, однако, насколько я понял, это связано с каким-то смертельным случаем.
Мне показалось, что она хотела что-то сказать, но вместо этого с равнодушной улыбкой протянула мне на прощание руку для поцелуя, после чего быстро отошла к телеге, где стояли юнкер Стиг и Герберт.
Городской судья, который уже ушел, прислал мальчишку, чтобы тот проводил меня к нему. Мальчишка бежал впереди меня через площадь. Время от времени он останавливался и нетерпеливо ждал, когда я подойду к нему, а потом бежал дальше. Вот он свернул направо, и я прибавил ходу, чтобы не потерять его из виду. Я видел, как далеко впереди он свернул в проулок между двумя домами, и неожиданно почувствовал в затылке насторожившее меня покалывание. Это был тот самый путь, который я проделал нынче ночью. Мальчишка крутился у угла дома, и я нерешительно последовал за ним.
Городской судья стоял в маленьком дворике и разговаривал с офицером в высоком чине. Увидев меня, он махнул мне, чтобы я подошел к нему, и бросил мальчишке монету, тот ловко поднял ее с земли и убежал. Из дома, который нунций посетил всего несколько часов назад, вышел молодой служащий.
– Комендант Шторм, – сказал судья, – это молодой господин Хорттен, который должен помочь мне определить, от какой болезни скончался тот человек.
Комендант – смуглое обветренное лицо, внушительная фигура – очевидно, этот человек стремился к тому, чтобы его вид всегда соответствовал фамилии; сейчас он оценивающим взглядом смотрел мимо меня на стену крепости, словно решал, что именно в ней необходимо улучшить.
– Молодой господин Хорттен секретарь профессора Буберга из Копенгагена, – прибавил судья с тяжелым ударением на каждом “б”.
Слова достигли цели, офицерский взгляд обратился на меня, и под его тяжестью у меня дрогнули колени.
– Вот как, секретарь профессора Буберга. Вот как. – Сурово сжатые губы разомкнулись, и под усами мелькнуло что-то похожее на улыбку. Он весело хлопнул меня по плечу. – Ну, значит, наше дело в надежных руках… – Он наклонился к судье: – как сказал профессор Буберг, когда проститутка стащила с него штаны. – Комендант разразился раскатистым смехом, так что затряслось все его тяжелое тело, и повернулся к нам спиной.
Довольно похохатывая, он скрылся между домами. Молодой служащий в дверях не мог скрыть улыбку. Судья, прежде чем повернуться ко мне, попытался придать своему лицу серьезное выражение. Это далось ему с трудом.
– Мы… то есть комендант Шторм, гм-м… предоставил в наше распоряжение фельдшера Брёдермана, который сейчас осматривает покойника.
Больше всего на свете мне хотелось уйти отсюда. Меня позвали сюда только для того, чтобы посмеяться надо мной.
– Разве у вас в городе нет своего лекаря?
– Нет, нет. Хватает и Брёдермана, он и один вполне может отправить человека на тот свет… – ответил судья Мунк. В уголке губ у него еще держалась улыбка.
– Могу я взглянуть? – спросило мое любопытство. Или мое чувство ответственности? Во всяком случае, мой страх.
Улыбка исчезла. Городской судья Мунк уставился на меня, словно не понимал, почему я еще здесь:
– Да-да, конечно! Вот сюда! Но Брёдерман еще не закончил.