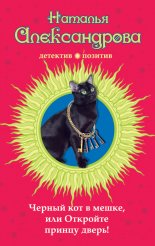В двух шагах от рая Евстафьев Михаил

– Свободны! – оборвал воспитательные уроки Прохор – из модуля трусцой бежал старший прапорщик Пашков.
Как любой прапорщик, Пашков думал, что он всех хитрей. Хитрость его прапорюжья заключалась в том, что он категорически отказывался от научных методов лечения. Набегавшись в сортир, и сообразив, что микроб просто так сам по себе не сгинет, что зацепился микроб этот за стенки кишечника, либо в желудке засел, Пашков раздобыл трехлитровую банку спирта, заперся в каптерке, и не показывал носу три дня. Нажираясь до поросячьего визга, Пашков ужасно громко храпел, присвистывая и похрюкивая.
Старшину не беспокоили, иногда лишь стучались и предлагали чайку. Правда, солдаты из наряда утверждали, и лейтенант Шарагин лично засвидетельствовал, что по ночам, когда все спали, старшина выходил из каптерки и, как тень отца Гамлета, блуждал по казарме, направляясь в сортир. Он никого не узнавал и не замечал, на человеческую речь не реагировал, и даже отдаленно не напоминал того настоящего старшего прапорщика Пашкова, что держал солдатню в ежовых рукавицах.
Все сочувствовали старшине, кроме командира роты. Моргульцев знал его по службе в Союзе, и потому, когда лейтенант Шарагин, сам мучавшийся амебиазом, в очередной раз заметил вслух, что, мол, жаль старика Пашкова – совсем загибается прапор, изживет его со света болезнь, и что пора бы и в госпиталь отвезти, не удержался и выпалил:
– Окстись! Какая, на.уй, болезнь! Запой у него очередной! Ровно раз в квартал бывает у Пашкова.
А потом, уже успокоившись, добавил:
– Впрочем, бляха-муха, у некоторых прапорщиков намного чаще случается, как месячные у бабы…
Моргульцев старшину не трогал. Он знал, что Пашков скоро отойдет и излечится сам. Как зверь раненый уходит в лес, прячется от всех, так и Пашков ушел от людей в каптерку, закрылся и лечился, то ли от поноса, то ли от тоски.
На третий день в каптерке раздался взрыв. Взрыв был не то чтобы очень сильный, похож он был на взрыв запала, но вся рота перепугалась, что старший прапорщик Пашков от беспробудного пьянства тронулся рассудком и решил покончить не только с засевшей в желудке заразой, не только с охватившей его загадочную душу тоской, но и с собой тоже.
Дверь взломали. В дыму обнаружили старшего прапорщика в состоянии белой горячки и пустую трехлитровую банку.
Пашков полулежал-полусидел на наваленных кучей солдатских вещмешках и шинелях, шевелил усами и вращал безумными зрачками, указывая на небольшую трещину в полу, откуда, твердил он, ползут скорпионы, фаланги и змеи, и вроде как он часть этих гадов уничтожил, когда метнул туда запал от гранаты. На всякий случай он держал наготове пистолет Макарова, которым собирался отстреливаться от «тварей ползучих».
– Пистолет отобрать, старшину препроводить в комнату,.издец, вылечился прапорщик! – заключил Моргульцев.
Диковинным образом спирт возымел успех и помог старшине избавиться и от афганской заразы и от тоски, и не далее как через неделю безуспешно доказывал Пашков ротному, что вовсе не хандрил, что взаправду болен был, и еще намекнул с некоторым злорадством в голосе, что если, не дай-то Бог, командира постигнет подобная напасть, и сядет он, товарищ капитан, на струю, то пусть знает, что прапорщик Пашков не жлоб, что он поможет, подскажет, где и почем достать трехлитровую банку спирта. Меньшая доза не убьет микроб, настаивал старшина как большой специалист в этом деле.
В отличие от Пашкова, лейтенант Шарагин мучился дольше, усердствуя не в питие спирта, а в регулярном приеме таблеток. Будучи человеком образованным, убежден был он, что заразу эту алкоголем не сломить, не убить до конца. Он поднялся в очередной раз среди ночи и, потный от болезни, сонный, заторопился на улицу.
Стараясь дышать через раз, при тусклом свете маленькой лампочки просматривал огрызок «Красной Звезды», затем тщательно скомкал его, чтобы размягчить жесткую бумагу.
Центральные советские издания и окружную газету «Фрунзевец» читали в полку часто, и не только тужась на очке. Читали о событиях в мире капитала, в стране победившего социализма, о парт и комсомольских съездах, смеялись над авторами афганских репортажей. Но скажи кто чужой недоброе слово против газетных историй об Афгане, встали бы как один на защиту, и клялись бы, что истинная правда написана об интернациональной помощи, и о том, как, например, подорвался бронетранспортер, потому что, лейтенант пожалел урожай афганских дехкан, вспомнив родной колхоз и родные поля, и тяжелый труд крестьянский и что сам когда-то механизатором собирался стать, но пошел в военное училище, потому что есть такая профессия – родину защищать; вспомнил об этом лейтенант и потому поехал по дороге основной, а душманы ее заминировали, конечно же…
Да и вообще, если разобраться, негоже критиковать Советскую армию: любой рассказ, любая галиматья газетная, любой подвиг, выдуманный или приукрашенный, – укрепляет дух военных людей.
…пусть живут небылицы в газетах… пусть не забывают люди, что идет война…
думал Шарагин.
…надо делать вид, что напридуманное в газетах – правда…
приезжают корреспонденты в командировки, чтобы прославиться…
как этот, например, как его там? Лобанов… писака!.. насочинил, тоже мне… себя прославил и нас зато, десантников, попутно…
Ночь, наряженная в колючие острые звезды, высилась над полком. Тихо спалось десантникам, если не считать гудящую на краю полка ДЭСку – дизельную электростанцию, к шуму которой давно все привыкли.
Шарагин остановился, чтобы очистить легкие после тяжелого въедливого запаха дерьма, закурил, любуясь шелковой луной и рассыпанным звездным бисером. Ныло внутри от болезни, весь будто ссохся он, точно выжали его, как половую тряпку, обессилел совсем, слабость наваливалась дикая.
Время от времени вверх уходили трассера – кто-то из часовых баловался, заскучав на позициях.
…как исстрадавшиеся души людей, которым надоела война, вырываются трассера и летят безмолвно ввысь, чтобы впиться в небо над Кабулом, в надежде убежать из этого города и из этой страны…
Показалось также, будто
…звезды далекие – это разбросанные по вселенной осколки разбитых душ; мерцающие в лунном свете, еще на что-то надеющиеся…
Вернувшись в модуль, он почти час ворочался, скрипя пружинами. А когда дрема начала запутывать мысли о семье и уводить в сон, на улице, почти прямо под окном раздался выстрел, и звонко вскрикнуло разбитое окно.
Женька Чистяков сорвался с койки и упал на пол еще до того, как пуля, пробив стекло, застряла в стене.
Догадавшись, что стреляли свои, что больше выстрелов не последует, как был в сатиновых трусах, нацепив кроссовки, Женька побежал на улицу.
– Бляди! – кричал он на ходу. – Смерти моей хотят!
К тому времени, как на улицу вышел Шарагин и другие офицеры, и на крыльце казармы столпилась разбуженная выстрелом солдатня, Женька успел основательно набить морду часовому.
Самоубийца-неудачник не защищался от ударов. В каске и бронежилете, солдат растерянно, сбивчиво доказывал отдельными словами в паузах между ударами, что как-то само собою у него все получилось, что не собирался он вовсе стреляться, что споткнулся. Врал, изворачивался, оправдывался.
…руку, наверняка, собрался прострелить, да испугался…
Невнятные мысли отражались на худощавом, забитом армейскими порядками лице солдата.
– Да по мне лучше бы ты тавось, застрелился! – продолжал бить солдата Чистяков. – Только по-тихому и вдали от модулей! А ты, блядь, решил под моим окном!
…затравили его деды… или служить в Афгане не хочет…
подумал Шарагин и зевнул.
…как бы Мышковского не довели до греха… отвечать-то мне…
пронеслось в голове.
Часовой походил на рядового Мышковского и внешне, и тем вызвал у Шарагина двойное чувство – жалость и раздражение. Нескладный был боец, замедленный в мыслях, судя по разговору, и в движениях неуклюж.
Каска свалилась с головы солдата, и удивительно смешно торчали уши бойца – как два куска расколотой пополам тарелки, которые взяли да приклеили к голове.
Форму молодой боец так и не научился носить, да и не могла она сидеть нормально на таком несуразном туловище.
…злость в человеке берет начало от желания отомстить… чем слабее оказывается человек, тем сильнее задавливают его, а когда наступает черед обиженного верховодить, он вымещает все на новеньких – это замкнутый круг…
…надо спать идти… пусть другие разбираются… в конце концов он не из нашей роты…
– Пойдем спать, Женька, – предложил Шарагин, когда они выкурили по сигарете.
– Какой теперь, к чертовой матери, сон?
Он прекрасно понимал Чистякова. Таким резким и вспыльчивым сделал его Афган.
…неизвестно еще, каким я буду под конец…
Чистяков протрубил в Афгане двадцать три месяца, а сейчас, вдобавок, восемь недель маялся в ожидании замены.
В столовку Чистяков ходить перестал. Питался консервами, хлебом, чаем. Подкармливали его от случая к случаю благодарные за песни и внимание барышни с товаро-закупочной базы и особенно загадочная блондинка, которую никто ни разу не видел, но которая, по рассказам, в Женьке души не чаяла.
– Она думала, что я жениться собрался, – делился с товарищами Чистяков.
– Куда ж тебе? У тебя семья, – рассудил Шарагин.
– Вот именно. Я ей так и сказал, если б не семья, увез бы на край света!
– А она что? – прислушался Пашков.
– Она, блядь, вся в слезах…
– Плохая примета, – предостерегал Моргульцев. – Скоро на боевые поедем, а бабы на войне удачу не приносят…
Весь следующий день Чистяков пролежал на кровати. Он и в город ехать отказался, когда подвернулась возможность, лежал и молчал.
– Где старший лейтенант Чистяков? – обвел взглядом подчиненных ротный.
– Их благородие отдыхают-с… – Пашков подкрутил пышные усы.
– Понятно, лег на сохранение… – капитану подобное состояние было хорошо известно. В таком настроении пребывали перед заменой многие. Береженого Бог бережет. Если начинался обстрел, самые смелые и отважные военнослужащие, ничуть не смущаясь, торопились в убежище. Кому хотелось по глупости погибнуть в последние перед отъездом домой дни?
– Блядь! Где он? – подвывал Чистяков. – Где его бога-душу-мать носит?!
– Отпуск отгуливает, – подливал масло в огонь Пашков. – Иль в Ташкенте пьянствует. Пиво сосет…
– Вот увидите, – твердил ротный. – Сейчас Чистяков кроет заменщика матом, а появится тот в полку – будет с него пылинки сдувать. Знаем, проходили…
На ужин Чистяков не пошел. Он шмякнул изо всех сил об пол консервную банку:
– …чтоб микроб внутри сдох!
Приговорив купленную у гражданских ноль-семьдесят-пять, сидел Женька за столом, курил, выпуская из ноздрей дым, и доверительно сетовал на жизнь плававшим в банке килькам, и под конец, излив душу, произнес:
– …стоит корова на мосту и ссыт в реку, вот так же человек – живет и умирает…
Когда же пришел Шарагин, пьяный Женька заметил:
– Слышь, ты всякую.уйню любишь записывать. Парадокс русской души: скоммуниздить ящик водки, продать его, а деньги пропить.
– Отстань, – Шарагин вытянулся на кровати, полежал, подумал, решил написать несколько строк домой. – Какое сегодня число, Женька?
– Сорок четвертое апреля.
– Такого в природе не бывает.
– Бывает.
– В апреле, – пояснил Шарагин, который ни накануне, ни в течение нынешнего дня не выпил ни капли, – тридцать дней.
– Я должен был замениться в апреле. И пока я, блядь, не заменюсь, апрель месяц не кончится!
Пусть и хандрил Чистяков, и пил горькую, и отлынивал от нарядов и краткосрочных выездов из части, на боевые собрался первым, и взвод настроил соответствующим образом. Настроил на войну.
– Всех пропоносило, теперь за дело! – подгонял он «слонов». – И чтоб я, блядь, ни от кого больше не слышал про болезни! – крыл он направо и налево.
Женька предвкушал войну, риск, азарт боя, и весь светился. На боевых погибнуть офицеру не страшно, страшно, а вернее обидно, по глупости пулю или осколок заработать.
Солдатам приходилось несладко. Дембеля жаждали домой не меньше, полтора года без увольнительной, без отпуска пропахали, но лишены были права выбирать, проявлять недовольство, как офицеры. Чистяков ко всем подряд придирался, щупал кулаком печень у «слонов»:
– Удар по печени заменяет кружку пива!
Загорелся Чистяков ехать на войну, ходил чумной, про заменщика забыл, чистил автомат, вещи укладывал, нож точил.
– Ох, и не завидую я духам… – качал головой прапорщик Пашков. – Откуда у него вдруг столько энергии взялось? – Старшина проверял, как закрепили на башне бронемашины станковый пулемет. – Ты что такой не веселый, Шарагин?
– Сон плохой приснился…
Глава третья
ПАНАСЮК
Служба армейская состоит из дисциплины, из самодурства, из унижений, из нарядов, из приема пищи, из переваривания пищи, из сна и ожидания – ожидания приказа, ожидания отпуска, ожидания возвращения домой, ожидания конца власти дураков и подлецов, ожидания решений судьбы. А если армия воюющая, служба подразумевает и ожидание смерти: во имя исполнения приказа, во имя интересов Родины, либо просто потому, что на этот день, на этот час выпал такой-то номер, конкретный номер, ТВОЙ номер. Ведь кого-то же надо было отдать на растерзание…
Такой выбор судьбы впоследствии чаще всего называют героизмом и до конца выполненным долгом, реже непрухой, и те, кто был рядом со смертью, придумывают чуть позже оправдания данному решению судьбы, хотя всем ведь ясно изначально отчего, за что, и как это происходит, но скрывают друг от друга люди, привязанные к армии, что им просто-напросто повезло, что в этой лотерее войны участь погибнуть в очередной раз миновала их; и лишь в мыслях, а чаще всего подспудно, не до конца осознанно возносят они хвалу той руке, что не выбросила ИХ номер…
На расстеленной меж горами равнине укрылись не присягнувшие новой власти своенравные афганские племена. Войска заняли господствующие высоты, нависли над кишлаками, над лесистой местностью – «зеленкой», затаившейся, как хищный, загнанный зверь. Войска растянулись на многие километры, окопались, ждали приказ на прочесывание. Войска знали, что одержат верх, что «зеленка» покорится им, но также знали, что за это придется заплатить.
Те, кто задумали сражение и готовились отдать приказ, уже подсчитали, во что обойдется операция, потому что война – это наука, а наука любит точность и расчеты. Война не прощает слабость, войне не знакома жалость, и потому люди, принимающие решения воевать, никогда не руководствуются этими чувствами. Они намеренно отдаляют себя от эпицентра сражений, чтобы не видеть солдат, которых отправляют на бойню, чтобы не смотреть им в глаза, они только посылают воинам напутствия, сулят награды и звания. Они знают, что после победы количество потерь не станет определяющим, потому что погибшие автоматически сделаются героями, а искалеченных, раненых вырвут из сражающихся рядов, отделят от живых, и отправят в специально придуманные для этой цели госпиталя и медсанбаты, чтобы не смущали они видом своим сослуживцев и вступающие в бой свежие подкрепления.
Взвод Шарагина скоро врос в придорожную горку, обжил ее, превратив в большое гнездовье. Как и вся рота, и весь батальон, и все задействованные на эту боевую операцию части, взвод день за днем ждал приказ, а пока ждал – дрых в тени растянутых откосом тентов, под бронемашинами, мечтал о доме, и видел дом в послеобеденных и ночных снах, жрал сухпаи и гадил вокруг позиций.
Лейтенант Шарагин боялся, что расслабуха, затянись она еще на парочку дней, всех погубит, но мало что мог предпринять в данных условиях и лишь надеялся на скорый приказ выступать.
…нас обступили горы… когда солнце уходит, и темнеет, и
горы переодеваются в фиолетово-серый цвет, и на
дежурство заступают первые звезды, солнце некоторое
время освещает обратную сторону гор, и от этого
кажется, что там еще день, и они выглядят плоскими… как
будто исполин какой вырезал из картона поникших воинов
древних, и всадников усталых, и вершины и рельеф весь –
ничто иное, как их склоненные от усталости головы, и
покатые плечи, и спины устроившихся на привал, и конские
морды… он склеил все вырезанное вместе, расставил, как
гигантские декорации, придав, тем самым, некий уют спящей
долине… долине, которую мы скоро завоюем…
Тоску и накатившееся лирическое настроение дополнил налетевший ветер-«афганец», сухой, горячий, назойливый и густой, задувший на целый день.
Освирепел «афганец», будто осерчал за что-то на весь взвод разом, и на все войска, что пришли в долину. Гнал и гнал он по воздуху мириады песчинок, скребся по брезенту, стегал по лицу, забрасывал пылью и песком сжавшихся за камнями, в окопах часовых, которые мечтали о скорой смене.
Но смена никогда не приходила в положенный час. Безразличные к тяготам молодых дедушки дрыхли, черпаки, которым следовало заступать, тянули время, урезая собственные смены.
Ветер приплясывал, хороводил по долине, непроглядным пыльным туманом застилал небо и горы. Разгуливал на просторе «афганец», напористый, капризный, беспощадный, словно чувствовал свое превосходство и безнаказанность.
…как же там было сказано? ох, как правильно там было
написано!..
Мучался Шарагин, надеясь вспомнить кусочек из Екклесиаста, вычитанный когда-то, еще перед военным училищем:
«Идет ветер к югу, и переходит к северу,
кружится, кружится на ходу своем, и
возвращается ветер на круги свои…»
…точь-в-точь про «афганец» писалось… вернусь домой, надо
перечитать…
В полку терпеть «афганец» было легче, но тоска наваливалась не меньшая, и всегда тянуло домой, а поскольку дом был далеко, тянуло напиться.
Поднятый «афганцем» песок просачивался всюду, во все щели, во все дырки, люди сплевывали, вычищали из глаз и носов; песок застревал в волосах, сыпался за шиворот. Предчувствие беды таилось в ветре.
Покуролесив вдоволь, ушел-таки «афганец» где-то под вечер. Нет, не выдохся он, не от того смолк ветер. Просто, видать, наскучило ему резвиться в этих краях, и, завернув на прощанье пару смерчей, отправился он дальше продолжать разгул на просторах иных и досаждать нежданностью людям новым.
Установилось полное затишье, высыпали звезды, холодные и далекие, а на утро возобновило истязания солнце. Солдаты, обычно говорливые и шумные, смолкли.
Шарагин в очередной раз обошел позиции. Двое солдат сопели в тени тента; один из них – Саватеев – во сне сгонял с лица муху, морщился, почесывал щеки, а когда поскреб машинально в затылке, потревоженные вши перескочили на голову приятелю.
…побрею, всех наголо побрею!..
Видел Шарагин, как разгуливает в одних сатиновых трусах, закатанных, чтобы походили они на плавки, младший сержант Титов, почесывая рукой в паху, а на бушлатах устроился сержант Панасюк с красной от загара рожей. Тут же рядом одетый по форме рядовой Сычев давил гнойные прыщи на спине у дедушки Советской Армии Прохорова.
…мерзость…
По особым, неписаным законам раздеваться имели право только дедушки. В принципе, и дедушки не имели права это делать, но любой здравомыслящий командир не замечал подобную вольность, если она ограничивалась разумными пределами. Дедушки знали, что делали, знали, что с любым командиром можно подерзить, и если не заступать за рамки, если не хамить сверх меры, не доводить его вызывающим поведением, до конфликта дело не дойдет. Надо только очень четко знать, когда остановиться. Шарагин покосился на раздетых до трусов Панасюка, Титова и Прохорова, второй раз обвел взглядом, когда шел по нужде, а когда возвращался, дедушки одевались. Поняли намек взводного. Привели себя в порядок, и пошли гонять молодых, потому что больше занятий для них в этот день не нашлось.
Скоро перенял Панасюк у взводного отдельные манеры и выражения. Копируя взводного, обращался он к чижам и черпакам на «Вы», однако с чувством дедовского верховодства; на боевых погонял сослуживцев, повторяя опять же заимствованную у нового командира фразу: «Солдат сначала идет столько, сколько может, а потом еще столько, сколько нужно».
За упрямство и упорство получил Панасюк соответствующее прозвище «горный тормоз коммунизма». На боевой машине десанта стоит так называемый горный тормоз с защелкой, поставил – двигатель реветь будет, а машина с места не сдвинется. Из-за этого же самого упрямства потерял он в первые месяцы службы передний зуб.
От раскаленного солнца и безделья люди на горке кисли, делались вялыми и глупыми. Камни жгли – ни присесть, ни прислониться. При такой жаре у любого человека мысли летят вразброс. Даже в тени человек ворочается, как в бреду, выпотевая все соки, просыпается очумевший от духоты, со слюнями на губах, с чугунно-квадратной головой, весь липкий от пота, задуренный маразмами сновидений.
…Во сне Шарагина шатало, и хотя мыслил он трезво, цельно, координация полностью нарушилась: все выбегали строиться, а Олег мычал что-то, пьяный безуспешно натягивал носки, которые были почему-то на два размера меньше и пятка от этого не налезала; он прыгал на одной босой ноге, не удерживал равновесие и заваливался назад, хорошо еще, что койка стояла за спиной, не ударился… потом фиксировал Олег сквозь тончайшую, как тюль на окне, пелену сна отдаленные голоса солдатни: «сдрейфил, салабон!.. обхезался, чадо, когда обстрел начался!.. что, разве не так?.. „, „всего в пяти метрах.бнул эрэс, и, прикинь, ни один осколок не попал в нас… „, „я, бля буду, сразу троих духов положил“, «лучше уж я в чужое дерьмо вляпаюсь, чем на тот склон пойду, у нас уже был один такой мудак, в натуре, отправился грифилечек выдавливать в поле… жопу его нашли метров за двадцать, хэ-хэ-хэ… «, «помнишь прапорщика Косякевича, помнишь, как он корчился, это самое, ну, зажали нас тогда духи в ущелье, и из ДШК как въ.бали! Косякевич и словил пулю в живот… санинструктор перевязывал его, но мы-то знали, что старшине п.здец!“, «…смерть, в натуре, она всегда бабахает неожиданно…“; а еще слышал сквозь сон Олег, как сетуют солдаты на наряды, на паек хреновый, что «вечно приходится за свои чеки хавку докупать“, проклинала солдатня последними словами и неуемное афганское солнце.
В конце концов не выдержал Шарагин эту монотонную и тупую болтовню, мешавшую ему спать, и коротким «за.бали!» оборвал разговоры солдат, после чего выпил воды из фляги и отвернулся в надежде заснуть, чтобы скоротать время до ужина.
На смену одним голосам приходили другие, и отвлекали звуки эти от сна, да и не хотел Шарагин спать, мысли различные пробегали в голове его лейтенантской.
…по сути своей, солдатня – это сброд, это оборванцы,
отрыжка нашего общества, это… черт, как быстро одичала,
очумела на воле, на выезде солдатня!.. пустячные, идиотские
мысли в голове почти каждого, от этого и чушь словесная
высыпает из каждой пасти… но если наш боец настолько туп
и бестолков, что же говорить о «соляре»?.. у мотострелков
вообще одни дебилы служат!..
– Чистяк, в натуре, муха не.блась! – как бы в подтверждение мыслей Шарагина крикнул восторженно кто-то из солдат.
– Шиза косит наши ряды! – завопил другой.
…оболтусы великовозрастные… идиоты!..
Жизни проходимцев, типа Прохорова, разгильдяев и жлобов, типа Титова, затравленных салабонов, типа Мышковского, Сычева и Чирикова, хохмачей, вроде Панасюка, и прочих характерных и нехарактерных личностей и не личностей последнего и промежуточных призывов, принадлежали Шарагину, вернее сказать, он приписан был к этому сборищу характеров, называемому взводом, и благодаря ему делался взвод боеспособным, и обязан был он ежечасно, ежеминутно, ежесекундно думать о взводе, о людях, переживать и волноваться, нервничать, принимать решения, от которых зависело, вернутся солдаты из Афгана домой или нет.
Можно было до бесконечности ругать этих призванных с разных уголков страны Советов на действительную военную службу пацанов,
…«слонов» безмозглых…
но Шарагин ругал их сейчас про себя, так же, как порой ругал и вслух, за провинности и за мелочи, на которые солдаты плевали, но которые запросто приводят человека на войне к гибели, ругал, и, в то же время подспудно симпатизировал каждому в отдельности, грустил, когда оттрубив два года, покидали его взвод окрепшие парни, будь то в Союзе или здесь, в Афгане. Ценил Шарагин то необъяснимое и уникальное явление природы, что зовется советский, русский солдат.
…откуда берутся у советского солдата порой полное равнодушие к
смерти, храбрость безграничная, отчаянная отвага?… у афганского
вояки совсем не так, попробуй сказать ему, что надо ехать из
Кабула в Кандагар, он же ни за какие деньги не поедет,
каждый из них, из афганойдов, только за собственную шкуру
дрожит, а мы охраняем их покой, мы за них всю грязную
работу делаем, мы пашем тут, как папа Карло… потому что
они все трусы, а наши пацаны рвутся в бой…
что это – романтика? да нет, насмотрелись они, и почему-то
опять лезут… дурость? не дураки они, чтобы так просто
жизнью разбрасываться… долг? нет, это для газет, пустые
слова… безрассудство русское? отчасти… не понять это
никому… также как не понять никому загадку русской души,
не разгадать… огромная, глубокая, необъятная, как наша
страна… неуправляемая, непредсказуемая… только в
русской душе, столь противоречивой, уживаются
одновременно какая-то небывалая широта, искренность,
открытость, сентиментальность, подлость, подхалимство,
низость, покорность рабская, самоотверженная любовь к
ближнему и неуважение полнейшее к человеческой жизни…
особенно для тех, кто наверху, человеческая жизнь теряет
всякую ценность, особенно в Москве, для тех гадов, которые
протирают штаны в штабах… они не разбирают нас по
именам и фамилиям, а лишь по батальонам, полкам,
дивизиям считают людей…
…хватит, Шарагин, философствовать, делом надо заниматься,
войной, а не рассуждать… с чего это я начал? ах, ну да – о
безмерной храбрости советского солдата…
Как бы не уводил себя с философского лада Шарагин, все возвращался обратно в раздумья. Перевернулся на другой бок, и стал разглядывать броню БМП, облазившую зеленую краску, прилипшую, высохшую грязь, толстый слой пыли, такой же в точности, как и у него в легких.
Люди советские в Афгане давились пылью, захлебывались, и отхаркивали ее из себя вместе с вязкой, нездоровой, как гнойной, желтой слюной.
Неожиданно для себя он подумал, что упоенье войной, романтика сражений начинают накапливаться в людях с детства, когда обрушиваются на ребенка кипы книг о войне, мозги едва успевают переваривать героические фильмы, где солдат – непременно победитель, где убивать врага – здорово.
…носятся с ясельного возраста по улице карапузы с
деревянными автоматами: пах-пах, ты убит!.. нам никто,
никогда не рассказывал, что такое настоящая война, ни в
одной книжке никто не написал, что война по природе своей –
вещь наигнуснейшая… Великую Отечественную войну
идеализировали, создали из нее фетиш… да, мы победили,
но чего нам это стоило!.. я от деда многое узнал… но об этом
ни в книгах, ни в газетах никогда не напишут!.. и выходит, что
жертва в десятки миллионов жизней обоснована, и вместо
того, чтобы осуждать того, кто допустил такие чудовищные
жертвы, осуждать людей, которым было наплевать, тридцать
или сорок миллионов будет потеряно ради победы, мы
занимаемся популяризацией подвигов, готовим следующее
поколение к самопожертвованию… мое поколение хорошо
подготовили, поэтому мы и здесь, поэтому наш советский
солдат и показывает в Афгане чудеса героизма…
Пропитавшись надуманными, сладкими, поверхностными и неправдивыми образами войны, мальчишки с деревянными игрушечными автоматами начинают рваться в бой, мечтают попасть на войну, все равно на какую.
…и, к сожалению, большинство из них так и не расстаются с
этими детскими иллюзиями, взрослея… стоп! отставить!
тогда выходит, что мы не умеем жить без надрыва, без
проявлений героизма, нам всегда нужен враг, которого
непременно надо уничтожить… получается, что все мы, вся
страна, только и ждала очередную войну, вроде Афгана?..