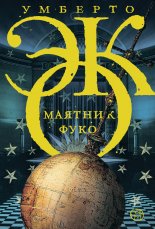Зелёная миля Кинг Стивен

Предисловие-письмо
27 октября 1995 г.
Дорогой Постоянный Читатель!
Жизнь полна неожиданностей. Предлагаемая Вам история начинается в этой маленькой книжке, а последняя своим появлением на свет обязана случайному замечанию риэлтера, которого я лично не имею чести знать. Случилось это год назад на Лонг-Айленде. Ральф Вичинанца, мой давний друг и деловой партнер (он главным образом продает зарубежным издателям права на публикацию моих произведений), арендовал там дом. Риэлтер отметил, что «выглядит дом так, словно сошел со страниц романа Чарлза Диккенса».
Ральф запомнил эту фразу и, принимая своего первого в этом доме гостя, английского издателя Малкольма Эдвардса, процитировал ее. Они заговорили о Диккенсе. Эдвардс упомянул, что Диккенс многие свои романы печатал с продолжением то ли в журналах, то ли отдельными брошюрами (под брошюрой здесь понимается книжка в обложке, но меньшей толщины, чем стандартная книга карманного формата, к каковым я всегда питал самые теплые чувства). Некоторые из своих романов, добавил Эдвардс, Диккенс, по существу, писал и переписывал по ходу издания брошюр. Чарлз Диккенс, вероятно, относился к тем писателям, которые не испытывали страха перед заранее оговоренным предельным сроком сдачи рукописи.
Диккенсовские романы с продолжением пользовались огромным успехом. Больше того, один из них послужил причиной трагедии в Балтиморе. Толпа поклонников Диккенса собралась на пристани, ожидая прибытия английского судна с экземплярами последней части романа «Лавка древностей» на борту. Из-за толчеи несколько человек упали в воду и утонули.
Я не думаю, чтобы Малкольм или Ральф хотели, чтобы еще кто-нибудь утонул, но они задались вопросом: а что будет, если в наши дни возобновить публикацию большого романа отдельными брошюрами? Каждый, разумеется, знал, что такое уже имело место (ничто не ново под луной) по крайней мере дважды. Том Вулф опубликовал первый вариант своего романа «Bonfire of the Vanities» в журнале «Rolling stone», а Майкл Макдауэлл (автор романов «The Amulet», «Gilded Needles», «The Elementals», пьесы «Beetlejuice») выпустил в брошюрах роман «Blackwater»: триллер о семействе с Юга, в котором считалось хорошим тоном в некоторых ситуациях превращаться в аллигаторов. Не самое удачное произведение Макдауэлла обернулось, однако, большим коммерческим успехом издательства «Avon».
Мужчины продолжали рассуждать о том, что может произойти, если популярный автор попытается издать свой очередной роман с продолжением, то есть отдельными брошюрами, которые будут продаваться за фунт или два в Британии и, возможно, за три доллара в Америке, где книги в обложке нынче стоят от $6.99 до $7.99. Малкольм предположил, что в таком эксперименте мог бы поучаствовать Стивен Кинг, после чего разговор переключился на другие темы.
Ральф почти забыл об этой идее, но вернулся к ней осенью 1995 года, после возвращения с Франкфуртской книжной ярмарки, международного торгового шоу, где для продавцов прав на публикацию произведений американских авторов за рубежом каждый день – праздник. Идею о выпуске романа в брошюрах он высказал мне наряду с несколькими другими, которые я сразу же отверг.
А вот публикация с продолжением меня заинтересовала, в то время как я с ходу отмел, к примеру, интервью для японского «Плейбоя» или турне по Прибалтийским странам с оплатой всех расходов принимающей стороной. Я не считаю себя современным Диккенсом. Если такой человек и существует, то речь может идти о Джоне Ирвинге или Салмане Рушди, но я всегда отдавал предпочтение романам, как бы сложенным из эпизодов. Впервые я столкнулся с таким форматом в субботнем приложении к «Ивнинг пост», и мне он понравился, потому что на финише каждого отрывка читатель становился как бы полноправным партнером писателя: ему отводилась целая неделя, чтобы подумать, в какую сторону повернет сюжет. К тому же читают такие произведения более внимательно, так как каждый отрывок достаточно короток. Подобный роман нельзя «проглотить», даже если этого и хочется (а хорошие романы, изданные отдельной книгой, зачастую именно глотают).
Но самое главное заключалось в том, что в моей семье такие отрывки часто читали вслух: в один вечер мой брат Дэвид, в другой – я, в третий – моя мама, а потом вновь наступал черед Дэвида. То был редкий случай насладиться печатным словом, как мы наслаждались телевизионными сериалами («Rawhide», «Bonanza», «Route 66»), которые смотрели вместе. Вечернее чтение стало семейным мероприятием. И только много лет спустя я узнал, что в свое время точно так же наслаждались чтением романов Диккенса, только тогда волнения о судьбах Пипа, Оливера, Дэвида Копперфилда затягивались на годы, а не обрывались через пару месяцев (даже в «Пост» роман с продолжением редко печатался больше чем в восьми номерах).
Идея мне понравилась и еще по одной причине, оценить которую в полной мере может, пожалуй, лишь автор детективов и ужастиков: именно в романе, печатающемся с продолжением, автор получает недостижимую в иных случаях власть над читателем. Попросту говоря, уважаемый Постоянный Читатель, Вы не сможете заглянуть в конец и загодя узнать развязку.
Я до сих пор помню, как однажды, когда мне было двенадцать лет, я вошел в гостиную и увидел, что мама, сидя в своем любимом кресле-качалке, читает последние страницы детектива Агаты Кристи, хотя по закладке видно, что прочла она от силы страниц пятьдесят. Я ужаснулся и немедленно заявил ей об этом (двенадцатилетние мальчики зачастую полагают, будто им известно все), ведь заглядывать в конец детектива – все равно что съесть начинку марципана, выбросив все остальное. Мама рассмеялась своим чудесным, добродушным смехом, признала мою правоту, но отметила, что иной раз она просто не может устоять перед искушением. Такое объяснение я мог понять и принять: в двенадцатилетнем возрасте искушений более чем достаточно. И вот теперь наконец-то обнаружился превосходный способ преодолеть это искушение. Пока последняя брошюра не появится на прилавках книжных магазинов, никто не сможет узнать, куда приведет «Зеленая миля»… в том числе, возможно, и я.
Хотя Ральф Вичинанца и не подозревал об этом, он завел разговор о романе с продолжением в очень удачный психологический момент. Я давно обдумывал идею романа, сюжет которого строился бы вокруг электрического стула (я знал, что рано или поздно напишу такой роман). «Старая Замыкалка» зачаровала меня после первого увиденного мною фильма с Джеймсом Кэгни[1], после первых прочитанных мною рассказов об участи смертников (в книге под названием «Двадцать тысяч лет в Синг-Синге», написанной надзирателем Льюисом Е. Лоуэсом). Это творение человеческого разума вдохновляло темную сторону моего воображения. Каково это, гадал я, пройти последние сорок ярдов к электрическому стулу, зная, что на нем тебя ждет смерть? А что ощущает человек, который должен привязать осужденного к электрическому стулу… повернуть рубильник? Что делает с человеком такая работа? Сводит с ума?
За последние двадцать или тридцать лет я не раз пытался в различных произведениях подойти к ответам на эти вопросы. Я написал одну удачную повесть, действие которой разворачивается в тюрьме («Rita Hayworth and Shawshank Redemption»[2]) и пришел к выводу: тема эта очень благодатная, как раз для меня, и высказать мне удалось далеко не все, что хотелось. Особенно меня привлекала возможность предстать перед читателями именно рассказчиком. Вот когда они могли бы услышать истинный голос Стивена Кинга, негромкий, честный, иной раз даже чуть удивленный рассказываемой историей. Короче, я принялся за работу, еще не зная, куда она меня приведет, бросая ее и вновь начиная. Например, большую половину второй части я написал, застигнутый проливным дождем в Фенуэй-Парке!
Ральф позвонил, когда я уже исписал целый блокнот. Вот тут я и понял, что пишу новый роман, «Зеленую милю», вместо того чтобы очищать стол от черновиков другого романа, уже законченного («Desperation»[3] – Вы его скоро увидите, Постоянный Читатель). Как раз в этот момент с «Милей» я находился на перепутье: отложить (и, возможно, больше не возвращаться) или отбросить все остальное и писать дальше?
Ральф предложил третий вариант: роман, написанный так, как он и будет читаться, – отдельными эпизодами. Мне понравилось и то напряжение, которое должны привнести в работу поставленные условия: сбавь темп, в назначенный срок не положи на стол издателя оговоренное число страниц, и миллион читателей потребуют твоей крови. Никто лучше меня не знает, что это такое, разве что моя секретарша, Джулиан Эгли. Каждую неделю мы получаем десятки раздраженных писем, требующих очередную книгу из цикла о Темной башне (терпение, поклонники Роланда, еще год – и ваше ожидание будет вознаграждено, обещаю). Один читатель прислал полароидную фотографию плюшевого медведя, закованного в цепи, с посланием из печатных букв, вырезанных из газетных заголовков и обложек журналов: «ОПУБЛИКУЙ СЛЕДУЮЩУЮ «ТЕМНУЮ БАШНЮ», ИЛИ МЕДВЕДЬ УМРЕТ». Я оставил фотографию в кабинете как напоминание о моей ответственности перед читателем, а также о том, сколь близко к сердцу принимают люди создания, вызванные к жизни воображением писателя.
Так или иначе, я решил публиковать «Зеленую милю» отдельными брошюрами, тоненькими книжицами в обложке на манер XIX века, в надежде, что Вы напишете мне и скажете: а) понравился ли Вам роман; б) устраивает ли Вас столь редко используемая, но небезынтересная система общения с читателем. Она, несомненно, интенсифицировала процесс написания романа, хотя на текущий момент (дождливый октябрьский вечер 1995 года) еще многое предстоит сделать даже в черновом варианте, а итог вызывает определенные сомнения. Все это является дополнительным стимулом, хотя… пока я еще не выехал из густого тумана и не вижу конечной цели.
А больше всего мне хочется сказать следующее: если Вы получите от чтения хотя бы половину того удовольствия, которое испытывал я при написании «Зеленой мили», будем считать, что мы оба в выигрыше. Наслаждайтесь. А почему бы Вам не почитать роман вслух подруге или приятелю? Уж во всяком случае Вы скоротаете время, оставшееся до появления на лотке или в Вашем местном книжном магазине следующей брошюры.
А пока берегите себя и будьте добры к своим близким.
Часть первая
Две мертвые девочки
Глава 1
Случилась эта история в 1932 году, когда тюрьма штата находилась в местечке, известном под названием Холодная Гора, а одной из достопримечательностей тюрьмы являлся электрический стул.
Заключенные постоянно вышучивали стул, как люди зубоскалят над тем, чего боятся, но от чего не могут избавиться. Как его только не называли. И Старая Замыкалка, и Хватунчик. Не остался забытым счет за электричество, выписываемый всякий раз после использования стула по назначению. Высказывались предположения, что именно на нем начальник тюрьмы Мурс в эту осень готовил обед на День благодарения[4], поскольку его жена Мелинда болела и не могла встать к плите.
Но у тех, кому действительно предстояло сесть на этот стул, чувство юмора отшибало сразу. Во время службы в этой тюрьме я присутствовал при семидесяти восьми казнях (эту цифру я никогда не перепутаю, буду помнить даже на смертном одре) и думаю, что для большинства этих людей осознание происходящего с ними приходило в тот самый момент, когда их лодыжки привязывали к массивным ножкам Старой Замыкалки. Внезапно они понимали (а это читалось по меняющемуся выражению их глаз), что ноги уже отслужили свое. Кровь еще бежала по венам, мышцы сохраняли силу, но они больше не пригодятся. Ни для того, чтобы прошагать еще одну милю, ни для того, чтобы потанцевать с девушкой. Известие о смерти клиентам Старой Замыкалки поступало от лодыжек. Да, после того как они произносили последнее слово, им на голову надевали черный шелковый мешок-маску, который даже глушил пару-тройку фраз. Вроде бы мешок этот придумали для их блага, но я всегда считал, что пользу он приносит только нам, избавляя от лицезрения ужаса, застывавшего в их глазах, когда им окончательно становилось ясно, что они должны умереть с согнутыми коленями, сидя на Старой Замыкалке.
В тюрьме «Холодная гора» крыло, предназначенное для смертников, отсутствовало. Его заменял блок Е, отстоящий от четырех остальных и по размерам вчетверо меньший, кирпичный, а не деревянный, с некрашеной металлической крышей, сверкающей на солнце, словно глаз дьявола. Состоял блок из шести камер, по три с каждой стороны широкого центрального прохода, каждая в два раза больше камер в обычных блоках. Само собой разумеется, одиночек. Неслыханная роскошь по тюремным меркам (особенно в тридцатые годы), но заключенные блока Е с радостью махнулись бы на любую камеру в другом блоке. Поверьте мне, махнулись бы.
За те годы, что я проработал старшим надзирателем блока, не было случая, чтобы на шесть камер приходилось шесть заключенных: возблагодарим Господа за те маленькие радости, что видят от Него тюремщики. Обычно число смертников не превышало четырех, белых и черных (в «Холодной горе» для ходячих трупов сегрегации не существовало), но и этого нам хватало с лихвой. Однажды в блоке Е появилась женщина, Беверли Макколл. Черная, как туз пик, и прекрасная, как грех, совершить который у тебя никогда не хватит духу. Шесть лет она сносила побои мужа, а вот измены не пожелала терпеть и дня. И в тот же вечер (о проделках мужа Беверли узнала несколькими часами раньше) она подстерегла несчастного Лестера Макколла, которого друзья (и, видимо, любовница) звали Брадобрей, на верхней площадке лестницы, ведущей в их квартиру из его парикмахерской. Подождав, пока он начнет снимать пиджак, она выпустила его кишки в его же тапочки, воспользовавшись одной из бритв Брадобрея. За две ночи до встречи со Старой Замыкалкой Беверли Макколл вызвала меня в свою камеру и заявила, что во сне к ней явился дух ее африканского предка, который приказал ей отречься от рабской фамилии и принять смерть под фамилией свободной – Матуоми. Вот она и потребовала, чтобы при зачтении смертного приговора ее называли не иначе как Беверли Матуоми. Как я догадался, африканский предок не успел дать ей другого имени или она не сумела его придумать. Я ответил: пожалуйста, нет вопросов. Годы службы научили меня никогда не отказывать смертникам, если только они не просили совсем уж невозможного. А в случае с Беверли Матуоми, как выяснилось на следующий день, мой ответ вообще не имел ни малейшего значения, потому что в три часа пополудни позвонил губернатор штата, чтобы сказать, что Беверли смертная казнь заменена на пожизненное заключение в женской тюрьме в Травяной Долине. И я, скажу вам, только порадовался, когда круглая попка Бев, миновав мой стол, продефилировала налево, а не направо.
Тридцать пять лет спустя, а может и того больше (но не меньше тридцати пяти, это уж точно), я наткнулся на ее фамилию в разделе некрологов, под фотографией худой чернокожей старушки с седыми волосами и в очках в роговой оправе. Последние десять лет Беверли прожила на свободе, говорилось в некрологе, практически в одиночку поддерживая на плаву библиотеку маленького городка Рейнс-Фоллз. Она также преподавала в воскресной школе и пользовалась в этом захолустье всеобщим уважением. Предварялся некролог заголовком «БИБЛИОТЕКАРЬ УМИРАЕТ ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА». А ниже самым мелким шрифтом указывалось: «Отсидела двадцать лет в тюрьме за убийство». Глаза Беверли за стеклами очков остались прежними. Большие сверкающие глаза женщины, которая и в семьдесят лет не колеблясь полоснет опасной бритвой, если того потребуют обстоятельства. Убийцы узнаются сразу, даже если они заканчивают свой век библиотекарями в Богом забытых городках. По крайней мере узнаются теми, кто провел рядом с убийцами столько же лет, сколько я. И лишь один раз я задался вопросом: а в чем суть всей моей работы? Потому-то, наверное, я все это и пишу.
Широкий коридор между камерами блока Е покрывал линолеум цвета перезрелого лайма, отчего в «Холодной горе» его называли не Последней милей, как в других тюрьмах, а Зеленой. Тянулся он с юга на север, если мне не изменяет память, аж на шестьдесят больших шагов. Один конец коридора упирался в изолятор, другой оканчивался Т-образным перекрестком. Поворот налево означал жизнь, если считать таковой прогулки по залитому солнцем тюремному двору. Многие и считали, проводя в тюрьме год за годом и не испытывая никаких видимых неудобств. Воры, поджигатели, насильники разговаривали, прохаживались, обделывали свои мелкие делишки.
С правым поворотом дело обстояло иначе. Сначала вы попадали в мой кабинет (на зеленый ковер, который я все хотел поменять, да так и не дошли руки) и проходили мимо моего стола, осененного двумя флагами: американским – слева и штата – справа, держа путь на дальнюю стену с двумя дверями. Одна вела в маленький туалет, которым пользовались я и надзиратели блока Е (иногда и начальник тюрьмы Мурс). Вторая приводила в помещение, похожее на чулан или кладовую. Там и обрывалась жизнь тех, кто проходил Зеленую милю. Миновав ее (дверь низкая, мне приходилось наклоняться, а Джон Коффи и вовсе согнулся в три погибели), человек попадал на небольшую площадку и по трем бетонным ступеням спускался на деревянный пол. Отопление отсутствовало, а от неба комнатушку отделяла все та же металлическая крыша. Поэтому зимой изо рта шел пар, а летом здесь царила жуткая жара, от которой при казни Элмера Манфреда, то ли в июле, то ли в августе тридцатого года, девять свидетелей лишились чувств.
На левой стороне кладовой (опять левой!) властвовала жизнь. Инструменты в специальных шкафах, запертых на амбарные замки (словно хранились в них винтовки, а не лопаты и мотыги), мука, крупы, другие непортящиеся продукты, мешки с семенами для весенних посадок на тюремном огороде, коробки с туалетной бумагой, стопки бланков для тюремной канцелярии… даже белый порошок для разметки футбольного и бейсбольного полей. Имелась в тюрьме площадка, именуемая Лугом, на которой заключенные осенью играли в эти игры.
Справа же царствовала смерть. Там, вознесенная на деревянный постамент в юго-восточном углу кладовой, стояла Старая Замыкалка. С мощными дубовыми ножками, широкими дубовыми подлокотниками, впитавшими пот ужаса десятков людей, сочащийся из всех пор в последние минуты их жизни. Металлический колпак свешивался со спинки, словно шлем в книжке комиксов о рыцарях короля Артура. От колпака отходил шнур, исчезая в кольцевом изоляторе-уплотнении, встроенном в стену из шлакоблоков. У одной из ножек Старой Замыкалки стояло ведро из оцинкованной жести. В нем лежал кусок губчатого материала, вырезанный по контуру металлического колпака. Перед казнью губка пропитывалась соляным раствором для обеспечения надлежащего контакта между металлом и черепной коробкой, чтобы постоянный электрический ток, поступающий по проводу, беспрепятственно проникал через губку в мозг приговоренного к смерти.
Глава 2
1932-й стал годом Джона Коффи. Подробности вы найдете в газетах, если у кого еще возникнет такое желание… Для этого требуется чуть больше сил, чем осталось у немощного старика, доживающего свой век в доме престарелых в штате Джорджия. Той осенью, помнится, стояла ужасная жара. Октябрь практически ничем не отличался от августа, и жена начальника тюрьмы, Мелинда, попала в больницу с приступом какого-то хронического заболевания. В ту осень и я подхватил тяжелую урологическую инфекцию. В больницу не лег, жутко мучился всякий раз, когда приходилось сходить по малой нужде. То была осень Делакруа, низкорослого лысоватого француза с мышью, который прибыл в блок Е летом и придумал тот хитрый трюк с катушкой. Но главным образом запомнилась та осень появлением Джона Коффи, приговоренного к смерти за изнасилование и убийство девочек-близнецов Деттериков.
Каждую смену в блоке Е дежурили четыре или пять надзирателей, хотя далеко не все служили у нас постоянно. Дин Стэнтон, Гарри Тервиллигер и Брут Хоуэлл (парни дали ему прозвище Зверюга, разумеется, в шутку, так как без необходимости он и мухи бы не обидел, несмотря на внушительные габариты) уже умерли, как и Перси Уэтмор, вот уж кто действительно был зверем… да еще и глупцом. Перси совершенно не подходил для работы в блоке Е, где люди с таким поганым характером не просто бесполезны, но даже опасны, однако он состоял в родстве с женой губернатора, поэтому вопрос о его увольнении даже не поднимался.
Именно Перси Уэтмор привел Коффи в блок смертников, предваряя его появление ставшими у него традиционными криками: «Идет мертвец! Сюда идет мертвец!»
Жара по-прежнему не спадала, хотя на дворе стоял октябрь. Дверь в тюремный дворик распахнулась, в коридор хлынул поток яркого света, а следом вошел гигант, каких я не видел никогда, разве что нынче, во время трансляций баскетбольных матчей по телевизору, что стоит в комнате отдыха в этом доме для старых доходяг, среди которых мне суждено умереть. Гигант был закован в цепи, в наручниках и в ножных кандалах. При каждом шаге по покрытому линолеумом полу железо звенело, словно рассыпанная пригоршня монет. Справа от него шел Уэтмор, слева – тощий маленький Гарри Тервиллигер. Выглядели они словно дети, шагающие рядом с дрессированным медведем. Даже Брут Хоуэлл в сравнении с Коффи смотрелся мальчиком-подростком, а Брут вытянулся за шесть футов, выделялся шириной плеч и неплохо играл в защитной линии футбольной команды школы. Его даже пригласили выступать за университет, но там он не прижился и вернулся в родные пенаты.
Черный, как и большинство временных постояльцев блока Е, которые оставались на нашем попечении, прежде чем умереть в объятиях Старой Замыкалки, ростом шесть футов и восемь дюймов, в остальном Джон Коффи ничем не напоминал гибких баскетболистов с телеэкрана. Его отличали широченные грудь и плечи, бугрящиеся могучими мускулами. Его одели в тюремную униформу самого большого размера, какой только имелся на складе, однако брюки заканчивались на середине голени, над кандалами. Куртка не застегивалась на груди, а рукава едва скрывали локти. Шапку Коффи держал в здоровенной лапище. Оно, наверное, и к лучшему. На его огромной лысой голове она смотрелась бы как на обезьянке шарманщика, разнясь только цветом: синяя, а не красная. Казалось, что для Коффи разорвать цепи – все равно что ребенку развязать ленты рождественского подарка, но, взглянув ему в лицо, я сразу понял, что таких мыслей у Джона нет. И читалась на этом лице не тупость, как полагал Перси, который вскорости прозвал Коффи Дурнем, а потерянность. Гигант оглядывался и оглядывался, словно не понимая, где он. Может, он даже не понимал, кто он. Увидев его, я сразу подумал, что передо мной черный Самсон… аккурат после того, как Далила своими маленькими ручками обрила его наголо и лишила куража.
– Мертвец идет! – гремел Перси и тянул за наручник этого медведя в человеческом облике, словно искренне верил, будто может заставить Коффи сдвинуться с места, если тот вдруг решит, что дальше ему идти не хочется. Гарри ничего не сказал, но чувствовалось, что ему эти вопли не по душе. – Мертвец…
– Достаточно, – оборвал я Уэтмора.
Я сидел на койке в камере, приготовленной для Коффи. Мы, разумеется, знали о его прибытии и готовились к встрече, но я и представить не мог, какой он гигант, пока не увидел Коффи собственными глазами. Перси бросил на меня красноречивый взгляд: мол, все знают, что ты козел (кроме, разумеется, этого дуболома, который знал только одно: как насиловать и убивать маленьких девочек), но промолчал.
Вся троица остановилась у открытой двери в камеру.
– Вы уверены, что хотите остаться с ним, босс? – нервно спросил Гарри Тервиллигер.
Я кивнул. Нечасто мне доводилось видеть нервничающего Гарри Тервиллигера. А он стоял рядом со мной во время мятежа шесть или семь лет тому назад и не дрогнул, когда пошли разговоры о том, что у заключенных есть оружие. Сейчас же он заметно нервничал.
– Надеюсь, мы поладим с тобой, здоровяк? – Я опустился на койку, стараясь, чтобы ни голос, ни внешний облик не выдали меня, не показали, насколько замучила меня урологическая инфекция, о которой я уже упоминал. Потом, правда, мне пришлось еще хуже, но и этот день не слишком меня радовал.
Коффи медленно покачал головой. Она двинулась направо, потом сместилась налево, затем застыла посередине. Как только его взгляд остановился на мне, он уже не отрывал от меня глаз.
Гарри держал в одной руке папку с сопроводительными документами Коффи.
– Передай папку ему, – попросил я. – Сунь в руку.
Гарри исполнил приказ. Коффи взял папку, словно лунатик.
– А теперь, здоровяк, давай ее сюда, – обратился я к нему, и Коффи, гремя цепями, принес папку мне. Ему пришлось наклонить голову, чтобы войти в камеру.
Я смерил его взглядом, еще раз убеждаясь, что он действительно так высок. Все точно, никак не меньше шести футов и восьми дюймов. Но вот вес его, двести восемьдесят фунтов, уж точно указали на глазок. Он весил триста сорок, а может, и все триста пятьдесят. В графе «Шрамы и особые приметы» значилось одно слово, напечатанное Магнуссоном, ветераном регистрационного бюро, – «много».
Я оторвался от бумаг. Коффи чуть сдвинулся в сторону, и теперь я видел Гарри, стоявшего в коридоре перед камерой Делакруа, который до прибытия Коффи был нашим единственным постояльцем. С лица невысокого лысоватого Дела никогда не сходило выражение тревоги. Чем-то он напоминал бухгалтера, знающего, что его манипуляции с цифрами вот-вот всплывут наружу. На плече у Делакруа сидел ручной мышонок.
Перси Уэтмор привалился к двери камеры, в которой только что поселили Джона Коффи. Дубинку он уже достал из чехла и постукивал ею по ладони левой руки с таким видом, словно хотел пустить ее в дело. Вот тут я понял, что больше не могу его выносить. Может, причиной стала невероятная жара, может, досаждающая мне урологическая инфекция, может, злость на судью, приславшего на казнь черного идиота, по спине которого Перси явно хотел пройтись дубинкой. Возможно, сработали все факторы сразу. В результате я решил проигнорировать политические связи Уэтмора.
– Перси, лазарет переезжает.
– Этим занимается Билл Додж.
– Я знаю. Пойди и помоги ему.
– Это не моя работа. Моя работа – вот этот дылдон.
Словом «дылдон», обозначавшим нечто среднее между дылдой и болваном, Перси называл крупногабаритных заключенных. Их Перси не любил. Сам он был маленького росточка и не такой худой, как Гарри Тервиллигер. Из тех петушков, которых хлебом не корми, а дай затеять ссору, особенно если преимущество в силе на их стороне. И еще он очень трепетно относился к своей шевелюре. Каждую минуту то расчесывал, то приглаживал волосы.
– Здесь твоя работа закончена, – отрезал я. – Ступай в лазарет.
Перси выпятил нижнюю губу. Билл Додж и его люди переносили ящики с лекарствами, простыни, матрацы, кровати. Лазарет переезжал в новое здание, построенное в западной части тюрьмы. Работа тяжелая и потная, особенно в такую жару. Перси Уэтмору не хотелось принимать в ней участие.
– Народу у Билла достаточно.
– Все равно иди туда. Будешь его заместителем. – Я возвысил голос и, поймав укоризненный взгляд Гарри, предпочел сделать вид, будто ничего не заметил. Если б губернатор заставил начальника тюрьмы Мурса уволить меня за то, что я не слишком любезно обошелся с его родственничком, кого бы Хол Мурс поставил на мое место? Перси? Это вряд ли. – Мне без разницы, чем ты займешься, Перси, лишь бы ты убрался отсюда.
На мгновение я подумал, что он заартачится и устроит скандал. Коффи же все это время стоял столбом, словно самые большие в мире остановившиеся часы. Но Перси кинул дубинку в чехол и ретировался в коридор. Я не помню, кто из надзирателей сидел за столом дежурного, наверное, один из временно прикрепленных к блоку Е, но Перси не понравилась его физиономия, потому что, проходя мимо, он прошипел:
– Сотри дебильную ухмылку со своей сраной рожи, а не то этим займусь я.
Загремели ключи, волна горячего воздуха захлестнула коридор, и Перси Уэтмор на какое-то время избавил нас от своего присутствия. Мышонок Делакруа перебегал с одного его плеча на другое, воинственно топорща усики.
– Успокойся, Мистер Джинглес, – обратился к нему Делакруа, и зверек замер на его левом плече, словно понял. – Сядь и замри. – Делакруа говорил с акцентом, так что «замри» прозвучало как «шамри».
– Тебе бы прилечь, Дел, – бросил я. – Поспи. Наши дела не имеют к тебе никакого отношения.
Делакруа подчинился. Он изнасиловал молодую девушку, убил ее, потом принес тело к пансиону, в котором она жила, облил минеральным маслом и поджег, надеясь скрыть следы своего преступления. Распространившись на здание, огонь сжег его дотла. При пожаре погибли еще шесть человек, из них двое детей. Других преступлений за Делакруа не числилось, и теперь он вновь стал мягким, сереньким человечком с озабоченным лицом, плешью и отросшими на затылке, длинными волосами. Ему предстояло посидеть на Старой Замыкалке, дабы она отправила его в мир иной… Однако нечто, сотворившее весь этот ужас, уже ушло, и теперь Делакруа лежал на тюремной койке, а его маленький дружок бегал у него по рукам. Пожалуй, в этом и заключалась самая большая трагедия: Старая Замыкалка никогда не сжигала то, что сидело у них внутри, как и нынче инъекции не отправляют это нечто в глубокий сон. Оно уходит, чтобы вселиться в кого-то еще, позволяя нам убить оболочку, которая по большому счету и так не живая.
Я вновь сосредоточился на гиганте.
– Если я разрешу Гарри снять с тебя цепи, ты будешь паинькой?
Он кивнул в той же манере, как и качал головой: вниз, вверх, вновь к середине. Странные его глаза все смотрели на меня. В них застыла умиротворенность, которой я, однако, боялся довериться. Рукой я дал сигнал Гарри, подошел, чтобы разомкнуть цепи. Теперь он не выказывал никаких признаков нервозности, даже когда опустился на колени между огромными ногами Коффи, чтобы снять ножные кандалы, и мне как-то полегчало. Гарри нервировало присутствие Перси, а интуиции Гарри я доверял. Собственно, я доверял интуиции всех постоянных сотрудников блока Е, за исключением Перси.
Перед всеми новоприбывшими я произношу короткую установочную речь, но в случае с Коффи я заколебался. Мне казалось, что по умственному развитию он ближе к дебилу, чем к нормальному человеку.
Пока с Коффи снимали цепи, кандалы, наручники, он стоял не шевелясь, спокойный, как першерон[5]. Когда Гарри вышел из камеры, я вновь оглядел своего нового подопечного и постучал пальцем по папке.
– Ты можешь говорить, здоровяк?
– Да, сэр босс, я могу говорить. – Голос густой, грохочущий, вызывающий ассоциации с ревущим тракторным двигателем. Говорил Коффи без южного акцента, но фразы строил как южанин. С одной стороны, он жил на Юге, с другой – не стал его частью. Вроде бы я не мог назвать его безграмотным, но и образования он явно не получил. В речи его, как и во многом другом, присутствовала какая-то тайна. А более всего меня тревожили его глаза, полные отстраненной умиротворенности, словно мыслями он был далеко, очень-очень далеко.
– Тебя зовут Джон Коффи.
– Да, сэр босс, совсем как напиток, только буквы другие.
– Так ты можешь произносить слова по буквам? Читать и писать?
– Только свою фамилию, босс, – искренне ответил он.
Я вздохнул, а потом произнес установочную речь в сокращенном варианте. Я уже понял, что лишних хлопот Коффи нам не доставит. Но в своем предположении оказался прав и не прав одновременно.
– Меня зовут Пол Эджкомб. Я старший надзиратель блока Е, здешний начальник. Если тебе что-то надо, обращайся ко мне по имени. Если меня нет, зови этого человека. Его зовут Гарри Тервиллигер. Можешь звать также мистера Стэнтона или мистера Хоуэлла. Ты это понимаешь?
Коффи кивнул.
– Само собой, ты можешь получать только то, что мы сочтем нужным для тебя. У нас не отель. Тебе это понятно?
Вновь он кивнул.
– Местечко здесь тихое, здоровяк. Не то что остальная тюрьма. Ты да Делакруа – вот и все наши постояльцы. Работать тебе не придется, сиди себе на койке. У тебя будет время все обдумать (слишком много времени для большинства из них, но этого я им никогда не говорил). Иногда мы включаем радио, если вы ведете себя примерно. Ты любишь радио?
Он кивнул, но с некоторым сомнением, словно не очень-то знал, что такое радио. Позднее я выяснил, что в принципе так оно и было: Коффи узнавал то, с чем сталкивался раньше, но в промежутках забывал, что это такое. Он мог назвать персонажей передачи «Наше веселое воскресенье», но даже о предыдущем выпуске у него сохранялись самые смутные воспоминания.
– Будешь вести себя как полагается, тебя будут все время кормить и ты никогда не увидишь одиночную камеру в конце коридора. Не наденут на тебя и брезентовую смирительную рубашку с пуговицами на спине. Два часа в день, с четырех до шести, ты будешь гулять во дворе. Исключение составляют субботы, в этот день заключенные других блоков играют в футбол. Свидания тебе разрешены по воскресеньям, если кто-то захочет тебя повидать. Есть такие?
Коффи покачал головой.
– Нет, босс.
– А твой адвокат?
– Кажется, я его больше не увижу. Адвоката назначил мне суд. Не верю, что он сумеет найти сюда дорогу.
Я пристально всмотрелся в его лицо, стараясь понять, шутит он или нет. Вроде бы не шутил. Другого я, собственно, и не ожидал. Кассационные жалобы не для таких, как Коффи. Они предстают перед судом, а потом мир забывает о них до того момента, как в газете появляется короткое сообщение о казни некоего гражданина на электрическом стуле. Легче, конечно, держать в узде человека, который с нетерпением ожидает воскресенья, когда к нему могут прийти жена, дети, друзья. Если есть необходимость держать его в узде. В случае с Коффи таковая отсутствовала, и это не могло не радовать. Очень уж здоровенный достался нам осужденный.
Я попытался усесться поудобнее, понял, что кое-каким частям моего тела станет лучше, если я встану. И встал. Коффи подался назад, освобождая мне место.
– Относиться к тебе тут могут как хорошо, так и плохо. Все зависит только от тебя, здоровяк. Должен сказать, что и ты можешь сильно облегчить нам жизнь, тем более что конец все равно один и тот же. Что ты заслужил, то и получишь. Есть вопросы?
– Вы не гасите свет после отбоя? – без запинки спросил Коффи, словно только этого и ждал.
Я вытаращился на него. От новичков блока Е мне доводилось слышать самые странные вопросы (однажды меня спросили размер груди моей жены), но такого мне еще не задавали ни разу.
Коффи застенчиво улыбнулся, словно хотел сказать: понимаю, что вы принимаете меня за придурка, но не могу не спросить.
– Дело в том, что я иногда боюсь темноты. Особенно если оказываюсь в незнакомом месте.
Я посмотрел на него (бояться при его-то габаритах), чувствуя, что слова Коффи не оставляют меня равнодушным, и мысленно облегченно вздохнул: если видишь в осужденных что-то человеческое, значит, они не предстанут перед тобой в своей темной ипостаси, не дадут вырваться демонам, что прячутся у них в душе.
– По ночам тут довольно светло, – ответил я. – Половина ламп на Миле горит с девяти вечера до пяти утра. – Тут я понял, что он понятия не имеет, о чем я вещаю. Ему все одно, что Зеленая миля, что Миссисипи. – В коридоре, – уточнил я.
Коффи удовлетворенно кивнул. Возможно, он не знал и что такое коридор, но мог видеть двухсотваттные лампы, забранные решетчатыми колпаками.
А потом я сделал то, чего раньше никогда не бывало: протянул Коффи руку. Даже сейчас не могу объяснить, почему я так поступил. Может, из-за его вопроса о лампах. Тервиллигера, к вашему сведению, аж перекосило. А Коффи аккуратно пожал мою руку, она просто исчезла в его лапище, и на том наша первая беседа окончилась. В мою ловушку угодил еще один мотылек.
Я вышел из камеры. Гарри задвинул дверь и запер ее на оба замка. Коффи постоял мгновение-другое, словно не зная, что делать дальше, и сел на койку, зажав руки между колен и наклонив голову, как человек, который о чем-то скорбит или молится. А потом своим громовым голосом произнес две фразы. Услышал я их совершенно отчетливо и, хотя тогда я еще знал не слишком много о его проступке (в этом в принципе нет необходимости, если тебе надлежит только кормить человека да приглядывать за ним до того момента, когда ему придется расплачиваться за содеянное), по моей спине пробежал холодок.
– Я ничего не смог с этим поделать, босс. Пытался загнать это обратно, но было уже слишком поздно.
Глава 3
– С Перси ты наживешь себе неприятности, – заметил Гарри, когда мы шли по коридору к моему кабинету. Дин Стэнтон, мой второй заместитель (до появления Перси в такой градации необходимости не было), сидел за столом, приводя документацию в соответствие с текущим моментом, до чего у меня никогда не доходили руки. Он коротко взглянул на нас, поправил очки и вернулся к прерванному занятию.
– С тех пор как появился этот козел, у меня сплошные неприятности. – Я чуть приспустил брюки в надежде что жжение в паху поутихнет. – Ты слышал, что он кричал, когда привел этого гиганта?
– Лучше б мне не слышать, – ответил Гарри. – Но пришлось. Не затыкать же уши.
– Я сидел в сортире и то слышал, – внес свою лепту Дин. Взяв лист бумаги, он увидел кофейное пятно и бросил испорченный лист в корзинку для мусора. – «Мертвец идет». Должно быть, вычитал эту фразу в одном из своих журнальчиков.
Дин наверняка попал в десятку. Перси Уэтмор обожал «Фрегат», «Кавалер», «Мужское приключение». Тюремная библиотека выписывала все эти журналы, и Перси прочитывал каждый номер от корки до корки, словно прилежный студент рекомендованный профессором учебник. Скорее всего он не знал, как себя вести в новой обстановке, и надеялся найти ответы в этих журналах. Уэтмор появился у нас вскоре после того, как, сидя на Старой Замыкалке, расстался с жизнью Энтони Рэй, убийца, орудовавший топором. Перси еще не принимал участия в казнях, хотя и наблюдал за одной из щитовой.
– У него есть связи, – заметил Гарри. – Уэтмор может кое-кому шепнуть на ухо пару слов, и тебе придется отвечать за то, что ты выгнал его из блока. За это могут строго спросить. С другой стороны, не жди, что ему можно доверить серьезную работу.
– Я и не жду. – Я действительно не ждал… но надеялся. Билл Додж не из тех, кто будет просто смотреть на сачкующего напарника. – Меня больше интересует этот здоровяк. Возникнут у нас с ним проблемы?
Гарри решительно покачал головой.
– На суде в округе Трейпинг он больше всего напоминал барашка. – Дин снял очки и потер стекла о жилетку. Разумеется, его всего обвешали цепями, но при желании он мог бы разорвать их, как нитки. В этом я не сомневаюсь.
– Знаю, – кивнул я, хотя услышал об этом впервые. Просто не мог допустить, чтобы Дин Стэнтон хоть в чем-то оказался более осведомлен, чем я.
– Этот Коффи – довольно крупный парень, – продолжал Дин.
– Да уж, – согласился я. – Гора, а не человек.
– Не развалится Старая Замыкалка под его задницей?
– За Старую Замыкалку не беспокойся, – рассеянно ответил я. – Она выдержит и не такого.
Дин потер переносицу там, где краснели два пятна от очков, и кивнул.
– Пожалуй, в этом ты прав.
– Ты знаешь, где он обретался до того, как появился в… Тефлоне? Городок называется Тефлон, так ведь?
– Да, – кивнул Дин. – Тефлон, округ Трейпинг. Никто вроде бы не знает, откуда этот парень туда пришел и что делал раньше. Я думаю, бродяжничал. Если тебя это интересует, поройся в газетах тюремной библиотеки. Библиотека вроде бы переезжает только на следующей неделе. – Он улыбнулся. – Заодно и послушаешь, как пыхтит и стонет наверху твой маленький приятель.
– Пожалуй, загляну туда, – ответил я и заглянул во второй половине дня.
Тюремная библиотека располагалась в здании, которому предстояло стать тюремным авторемонтным цехом, по крайней мере так планировалось. Я сразу понял, что цель этой перепланировки одна – кому-то хотелось положить в карман кругленькую сумму. Но Великая депрессия продолжалась, поэтому я предпочитал держать эти мысли при себе. По этой же причине мне не следовало цепляться к Перси, но иной раз очень трудно удержать рот на замке. Рот может причинить человеку гораздо больше неприятностей, чем его краник. С авторемонтным цехом, кстати, ничего не вышло. Более того, следующей весной вся тюрьма перебралась на шестьдесят миль ближе к Брайтону. Полагаю, опять кто-то кому-то дал на лапу. И отхватил солидный куш. Впрочем, не мое это дело.
Администрация тюрьмы уже переехала в новый корпус в восточном секторе. Лазарет как раз переезжал (интересно, кому могла прийти в голову мысль разместить его на втором этаже). Часть книжного фонда библиотеки тоже вывезли. Остальное ждало своей очереди. Старое здание с облупившейся штукатуркой с двух сторон зажимали блоки А и В. Причем окна их туалетов выходили сюда, так что административный корпус постоянно окутывал запах мочи. Наверное, это обстоятельство и могло служить единственной веской причиной переезда. Библиотека занимала L-образную комнату размерами ненамного больше моего кабинета. Я поискал глазами вентилятор, но его уже увезли. Температура в библиотеке зашкалила за сто четыре градуса[6]. У меня снова жгло в паху. Ощущение такое, как если бы болел зуб. Я понимаю, сравнение абсурдное, учитывая орган тела, о котором идет речь, но другого подобрать не могу. И мне становилось гораздо хуже, когда я справлял малую нужду и сразу после этого. А я посетил туалет, перед тем как идти в библиотеку.
В библиотеке я парился не в одиночку: компанию мне составлял старик Гиббонс, с надвинутой на глаза шляпой дремлющий в углу над вестерном. Жара ему не досаждала, так же как и звуки передвигаемой мебели, охи и редкие ругательства, доносящиеся сверху из лазарета (температура там была градусов на десять повыше, и я надеялся, что Перси Уэтмор просто счастлив). Я тоже не стал беспокоить Гиббонса и прошел к полкам с газетами. К счастью, их не вывезли вместе с вентиляторами. Экземпляры с историей близнецов Деттериков я нашел без труда: она занимала первые полосы газет с момента совершения преступления в июне до суда в конце августа и начале сентября.
Скоро я позабыл про жару, шум наверху и всхрапывания старика Гиббонса. Все мое внимание сосредоточилось на девятилетних девчушках со светлыми волосами и обаятельными улыбками и громадном черном, как эбеновое дерево, Коффи. Учитывая его габариты, не составляло труда представить себе, как он пожирает их, словно великан из сказки. Но он сотворил с ними нечто худшее, и ему просто повезло, что его не линчевали прямо на берегу реки. Если, конечно, считать везением прогулку по Зеленой миле и последующие объятия Старой Замыкалки.
Глава 4
На Юге король Хлопок слетел с престола за семьдесят лет до описываемых событий, и вновь королем он уже не стал, хотя в тридцатые годы производство хлопка чуть оживилось. Прежние хлопковые плантации канули в Лету, но в южной части нашего штата процветали сорок или пятьдесят ферм, на которых выращивался хлопок. Одна из них принадлежала Клаусу Деттерику. По стандартам пятидесятых годов на социальной лестнице он бы встал разве что на ступень выше голодранцев, но в тридцатые по праву считался зажиточным гражданином, поскольку в конце каждого месяца оплачивал наличными счет в магазине и мог смело смотреть в глаза президенту банка, встречаясь с ним на улице. Помимо хлопка, его благополучие зиждилось на курах и коровах. Дружная семья Деттериков состояла из Клауса, его жены и троих детей: сына Говарда, лет двенадцати, и девочек-близняшек, Коры и Кэти.
В ту теплую июньскую ночь девочки попросили разрешения лечь спать на крытой веранде с окнами, забранными сеткой для защиты от насекомых, которая занимала всю боковую стену дома. Им разрешили, чему девочки очень обрадовались. В девять вечера мать, поцеловав девочек, пожелала им доброй ночи. В следующий раз она увидела их только в гробиках, после того как в похоронном бюро сделали все возможное, чтобы привести близняшек в божеский вид.
В те дни на фермах ложились спать рано (как говорила моя мать, едва темнело под столом) и спали крепко. Для Клауса, Маджори и Говарда Деттериков не стала исключением и та ночь, когда похитили девочек. Клаус, несомненно, проснулся бы, если б гавкнул Боузер, их колли, но Боузер не лаял. Ни в ту ночь, ни потом.
Клаус поднялся на рассвете, чтобы подоить коров. Относительно веранды коровник находился по другую сторону дома, так что у Клауса не возникло и мысли посмотреть, на месте ли девочки. Не обеспокоило его и отсутствие Боузера. Пес презирал коров и кур и обычно не вылезал из конуры за коровником, пока не заканчивалась дойка. Если, конечно, его не звали… причем приказным тоном.
Маджори спустилась вниз через пятнадцать минут после того, как ее муж натянул сапоги и потопал в коровник. Она поставила на плиту воду для кофе, потом начала жарить бекон. Привлеченный запахами готовки, на кухне появился и Гови, но не близняшки. Маджори послала его за ними на веранду, уже разбивая яйца над сковородой. После завтрака девочкам предстояло собрать в курятнике свежие яйца. Только в то утро в доме Деттериков так и не позавтракали. Гови вернулся с веранды белый как полотно, с круглыми от ужаса глазами.
– Их нет, – выдохнул он.
Маджори пошла на веранду скорее раздраженная, чем обеспокоенная. По ее словам, сначала она подумала, что девочки на заре отправились собирать полевые цветы. В их возрасте такое возможно. Но Маджори хватило одного взгляда, чтобы понять, почему так побелел Гови.
Она закричала… нет, пронзительно завопила, зовя Клауса, и тот сломя голову примчался из коровника в белых сапогах, опрокинув на них ведро с молоком. От увиденного у него ослабли колени. Да и едва ли кто из родителей в такой ситуации смог бы устоять на ногах. Одеяла, под которыми девочки прятались от ночной прохлады, были отброшены в угол. Забранная сеткой дверь сорвана с верхней петли. На досках пола и на ступенях капли крови.
Маджори умоляла мужа не искать девочек в одиночку или хотя бы не брать с собой сына, если уж он пойдет на розыски, но она лишь впустую сотрясала воздух. Дробовик хранился в комнате, где Деттерики держали рабочую одежку, в отдельном ящике под самым потолком, где до него не могли добраться дети. Гови Клаус вручил револьвер двадцать второго калибра, который родители хотели подарить мальчику на день рождения в июле. Отец с сыном вышли из дома, не обращая внимания на истеричные крики Маджори, желающей знать, что они будут делать, если наткнутся на банду бродяг или ниггеров, которые сбежали с фермы у Ладуса, куда их определили на исправительные работы. Я, кстати, думаю, что мужчины поступили правильно. Кровь еще не запеклась, цвет ее из алого еще не превратился в бурый, значит, с момента похищения не могло пройти много времени. Клаус, должно быть, понял, что у него еще есть шанс спасти девочек, и он решил им воспользоваться.
Но ни Клаус, ни тем более Гови не умели идти по следу: фермеры не охотники, привыкшие выслеживать по лесам лося или оленя. Отец с сыном обошли коровник и сразу поняли, почему Боузер не лаял. Он лежал, наполовину высунувшись из конуры, сработанной из обрезков досок, оставшихся после постройки коровника (фасад конуры украшала аккуратная надпись «БОУЗЕР» – я видел фотоснимок в одной из газет), со свернутой на сто восемьдесят градусов головой. Только человек невероятной силы мог сотворить такое с довольно-таки крупной собакой. Эти слова произнес прокурор перед присяжными на процессе Коффи… и многозначительно посмотрел на гиганта-подсудимого, который, низко опустив голову, сидел за столиком защиты в новеньких, купленных штатом широких штанах и куртке. Рядом с собакой Клаус и Гови нашли кусок сосиски. По версии обвинения, которая мне представляется более чем логичной, Коффи сначала прикормил собаку, а потом, когда Боузер начал есть последний кусок, протянул руки и одним движением свернул псу шею.
За коровником начинался северный луг Деттериков, но в тот день коровы на нем не паслись. Траву покрывала утренняя роса, и на ней четко выделялась идущая по диагонали на северо-запад цепочка следов.
Даже находясь на грани истерики, Клаус Деттерик заколебался. Не потому, что испугался мужчину или мужчин, похитивших его дочерей, а из страха, что похититель пришел по этой тропе, уйдя совсем в другую сторону. Клаус боялся, что он потеряет драгоценные секунды, не приближаясь, а удаляясь от похитителя.
Эту дилемму разрешил Гови, заметив на кусте клочок желтой материи. Клаусу показали этот клочок, когда он сидел в кресле для свидетелей, и он заплакал, потому что его дочь Кэти спала в пижамке из той самой материи. Через двадцать ярдов на можжевельнике они нашли зеленый клочок. От ночной рубашки, в которой Кора подходила вечером к маме и папе, чтобы пожелать им спокойной ночи.
Деттерики, отец и сын, чуть ли не побежали по цепочке следов, выставив оружие перед собой, словно солдаты, идущие в атаку под сильным огнем противника. Просто чудо, что мальчик, отчаянно пытающийся не отстать от отца, не упал и не выстрелил Клаусу в спину, случайно нажав на спусковой крючок.
На ферме был телефон, еще одно свидетельство процветания Деттериков в те печальные времена, и Маджори воспользовалась им, чтобы обзвонить соседей и сообщить об обрушившемся на них словно гром с ясного неба несчастье. Она знала, что после каждого звонка известие об этом будет распространяться дальше, как круги по воде. Последний раз сняв трубку, она произнесла фразу, традиционную для тех времен, во всяком случае на сельском Юге: «Алле, центральная, вы на связи?»
Центральная была на связи, но телефонистка от ужаса на какие-то мгновения лишилась дара речи. В конце концов она сумела ответить:
– Да, мэм, миссис Деттерик, святой Боже, я молюсь, чтобы с вашими маленькими девочками ничего не…
– Спасибо, – оборвала ее Маджори, – но вас не затруднит подождать с молитвой и соединить меня с управлением шерифа в Тефлоне?
В округе Трейпинг шерифом служил красноносый старикан с огромным животом и седыми, коротко стриженными волосами. Я хорошо его знал. Он не раз появлялся в «Холодной горе», чтобы проводить, как он говорил, «своих мальчиков» в мир иной. Свидетели казни сидели на складных стульях, какие вы могли видеть на похоронах, церковных ужинах или концертах (мы занимали наши у баптистской церкви), и всякий раз, когда шериф Гомер Криб опускался на стул, я ожидал треска с последующим грохотом падения шерифа на пол. Но конфуза так и не случилось. А вскоре, где-то на следующее лето после похищения девочек Деттериков, шериф умер в своем кабинете от сердечного приступа, трахая семнадцатилетнюю негритянку Дафну Шуртлефф. О его любовных похождениях говорили много и с удовольствием, хотя перед каждыми выборами Гомер Криб с гордостью представлял избирателям свою жену и шестерых детей. Но лицемер людям всегда по душе, знаете ли, в нем они признают своего. У многих поднимается настроение, когда кого-то другого прихватывают со спущенными штанами и настроенным инструментом.
Мало что лицемер, шериф еще отличался вопиющей некомпетентностью, относясь к той категории начальников, которые с удовольствием сфотографируются с кошечкой какой-нибудь старушки, когда кто-то другой, к примеру помощник шерифа Роб Макги, рискуя сломать себе руку, карабкался на дерево, чтобы снять с вершины и вернуть затем кошку хозяйке.
Макги выслушивал несвязное бормотание Маджори Деттерик не больше двух минут, затем оборвал ее четырьмя или пятью вопросами, короткими и точными, словно удары боксера-профессионала, которые вроде бы незаметны, но так сильны, что кровь выступает до того, как появляется ощущение боли. Выслушав ответы, он бросил в трубку: «Я немедленно звоню Бобо Марчанту. У него есть собаки. Вы оставайтесь в доме, миссис Деттерик. Если ваши муж и сын вернутся, пусть тоже останутся. Постарайтесь их убедить».
Ее муж и сын тем временем шли по следу похитителя в трех милях к северо-западу и потеряли его, когда поля сменились сосновым лесом. Фермеры, а не охотники, как я уже говорил, они знали только одно: уходил от них зверь – не человек. По пути они нашли желтенькую пижамку Кэти и еще клок ночной рубашки Коры, пропитанные кровью. Ни Клаус, ни Гови уже не спешили, как в самом начале погони. С каждой минутой им становилось все яснее и яснее, что живыми девочек они не увидят.
Отец с сыном зашли в лес, но не обнаружили признаков того, что похититель побывал там до них. Они вышли на опушку, зашли вновь, чуть в стороне, с тем же результатом, в третий раз повторили маневр и наконец наткнулись на кровяное пятно, чуть более вытянутое в одном направлении. По нему они и пошли, потом вновь начали кружить по лесу в поисках новых следов похитителя. Около девяти утра до них донеслись крики людей и лай собак: Роб Макги организовал разыскную команду. К этому времени шериф Криб заканчивал завтрак чашкой кофе, щедро сдобренного коньяком. Пятнадцать минут спустя Макги и его люди наткнулись на Клауса и Гови Деттериков, вышедших на опушку. Вскоре разыскная команда двинулась дальше, возглавляемая Бобо и его собаками. Макги позволил Клаусу и Гови идти с ними (запрету они бы не подчинились), но заставил их разрядить оружие. Ружья у всех не заряжены, заявил им Макги, так безопаснее. Однако отдать ему патроны помощник шерифа попросил только Деттериков. Вне себя от горя, жаждущие только одного: скорее бы закончился этот кошмар – они подчинились. Заставив Деттериков разрядить оружие и отдать ему патроны, Роб Макги, возможно, спас жизнь Джону Коффи, во всяком случае продлил ее на несколько месяцев.
Лающие, рвущиеся с поводка собаки две мили тащили их по лесу, держа курс на северо-запад. Наконец они вышли на берег Трейпинг-ривер, в этом месте довольно-таки широкой, неспешно несущей свои воды на юго-восток, к невысоким, поросшим лесом холмам, где жили семьи с фамилиями Кроу, Робинетт, Дюплесси, которые все еще сами мастерили мандалины и выплевывали прогнившие зубы прямо на пашню. В жуткую глухомань, где воскресным утром мужчины демонстрировали умение брать змей в руки, а тем же вечером укладывались в постель с собственными дочерями. Я знал эти семьи. Время от времени их представителей скармливали Старой Замыкалке. На другой стороне реки в лучах июньского солнца блестели рельсы ответвления Великой южной дороги. Справа от них, в миле вниз по течению, реку пересекал мост, и железная дорога уходила к угольным шахтам Уэст-Грина.
Здесь преследователи нашли участок примятой травы, сплошь залитый кровью. От этого жуткого зрелища многих мужчин бросило обратно в лес, где они и оставили свои завтраки. Там же валялась ночная рубашка Коры, и Гови, до того державшийся молодцом, привалился к отцу и чуть не лишился чувств.
На этом месте первый и единственный раз мнение собак Бобо Марчанта разделилось. Их было шесть, две ищейки, две гончие и два терьера, с какими в тех краях охотились на енотов. Терьеры рвались на северо-запад, вверх по течению Трейпинг-ривер, остальные – в противоположном направлении, на юго-восток. Поводки перепутались, и, хотя в газетах об этом ничего не написали, я могу себе представить, как Бобо кроет их проклятиями и руками и ногами наставляет на путь истинный. Я знавал нескольких охотников, державших своры, и должен отметить, что люди это совершенно особые, похожие друг на друга как две капли воды.
Бобо удалось распутать поводки, потом он сунул собакам в морды ночнушку Коры Деттерик, дабы напомнить им, зачем они мотаются по лесам в столь жаркий день, окруженные тучами комаров. Терьеры хорошенько принюхались, признали свою неправоту, и вся свора с оглушительным лаем устремилась вниз по течению.
Не прошло и десяти минут, как мужчины остановились, осознав, что слышат не только собачий лай. Его перекрывал вой, который не мог вырваться из пасти собаки. Такого звука они никогда еще не слышали, но инстинктивно поняли, что исходит он от человека. Так они говорили, и я им верю. Наверное, я тоже узнал бы этот вой. Думаю, я слышал людей, которые кричат точно так же, когда их ведут к электрическому стулу. Кричат немногие, большинство держат себя в руках, даже шутят, но такое случается. Обычно кричат те, кто верит, что ад действительно существует, и знает, что именно он ждет их за Зеленой милей.
Бобо взял собак на короткий поводок. Они стоили немалых денег, и он не хотел, чтобы какой-то психопат, а кто еще мог так выть, свернул им головы. От этого воя мужчин бросило в холод, а пот, выступивший под мышками и на спинах, разом стал ледяным. Когда такое случается, мужчинам необходим лидер, который поведет их за собой, и роль эту взял на себя помощник шерифа Макги. Он выступил вперед и решительно зашагал (готов поспорить, что на душе у него кошки скребли) к ольховой роще. Остальные затрусили следом, держась в пяти шагах позади. Остановился Макги лишь раз: знаком дал команду Сэму Холлису, самому крупному мужчине из всех, держаться рядом с Клаусом Деттериком.
По другую сторону ольховника вновь продолжался луг, справа упиравшийся в лес, а слева полого сбегавший к воде. Миновав ольховник, все застыли словно пораженные громом. Я думаю, они дорого бы дали, чтобы никогда такого не видеть, так как картину, что возникла перед ними, никто из них не сможет забыть до конца жизни. Кошмар, что открылся их глазам, находился за пределами мира, к которому они привыкли: мира церковных ужинов, степенных прогулок по улицам, честной работы, любовных объятий в супружеской постели. В тот день эти люди увидели звериный оскал смерти.
На берегу реки в вылинявшей, запачканной кровью безрукавке, сидел мужчина невероятных габаритов – Джон Коффи. Огромные босые ноги, красная бандана на голове. Черное облако слепней у самого лица. А в каждой руке тело обнаженной девочки. Их светлые волосы, когда-то кудрявые и легкие как пух, прилипли к голове и покраснели от крови. Мужчина, держащий их в руках, выл, уставившись в небо, словно полуночный волк, по коричневым щекам катились слезы, лицо перекосила гримаса боли. Вой обрывался, мужчина набирал полную грудь воздуха и вновь начинал выть. Мы часто читаем в газетах: «Убийца не проявлял никаких признаков раскаяния», но к Коффи это не относилось. Джон Коффи убивался из-за содеянного… но остался в живых. А девчушки – нет. Он не просто отправил их на тот свет, но и надругался над ними.
Никто потом не мог вспомнить, сколько они простояли, глядя на воющего гиганта, который сидел, обратившись лицом к реке. На другом берегу загрохотал поезд, мчащийся к мосту. А черный человек качался взад-вперед, и вместе с ним качались Кора и Кэти, куклы в руках великана. Вымазанные в крови мышцы гигантских рук напрягались и расслаблялись, напрягались и расслаблялись.
Первым очнулся Клаус Деттерик. С громким воплем он бросился на монстра, который изнасиловал и убил его дочерей. Сэм Холлис попытался перехватить Клауса, но не сумел. Ростом на шесть дюймов выше Клауса, весом больше его на семьдесят фунтов, он обхватил Деттерика руками, чтобы тут же как пушинка отлететь в сторону. Клаус в мгновение ока преодолел расстояние, отделявшее его от Коффи, и с ходу ударил его ногой по голове. Сапог угодил точно в левый висок Коффи, но тот словно и не почувствовал удара. Так и сидел, качаясь взад-вперед и не отрывая глаз от реки. Эдакий персонаж проповеди на Троицын день, верный слуга Христа, вышедший из сосновых лесов и выискивающий взглядом Святую землю… Если б не трупы.
Понадобились усилия четырех человек, чтобы оттащить обезумевшего фермера от Джона Коффи, но прежде чем им это удалось, Клаус нанес Коффи несчетное количество ударов. Коффи их не заметил, как и первый. Все качался и смотрел за реку, качался и смотрел. И выл, выл, выл. Что же касается Клауса, то он сник, как только мужчины оторвали его от Коффи, словно Деттерика подпитывал поток энергии, бьющий из черного гиганта (вы уж меня извините, что я часто использую в сравнениях электрическую тему: сила привычки). Но контакт разорвался, источник энергии отсоединили, и Деттерик обмяк, словно после удара настоящим электрическим током. Он упал на колени, закрыл лицо руками и зарыдал. Гови присоединился к нему, и они плакали, обняв друг друга.
Двое мужчин приглядывали за ними, остальные же с ружьями наперевес взяли в кольцо раскачивающегося, воющего черного человека. Тот все еще не понимал, что он уже не один. Макги шагнул к нему и несколько раз переступил с ноги на ногу, прежде чем решился заговорить.
– Мистер, – тихонько произнес он, и вой разом прекратился. Макги заглянул в покрасневшие от слез глаза и увидел в них завесу, словно кто-то внутри не хотел, чтобы его видели. Эти глаза плакали… оставаясь отстраненными. Разговаривая с Джоном, я понял, что мне еще не доводилось встречать таких глаз. То же самое почувствовал и Макги. «Как глаза зверя, который никогда не видел человека», – перед самым судом объяснял он репортеру по фамилии Хаммерсмит.
– Мистер, ты меня слышишь? – спросил Макги.
Коффи медленно кивнул. Руки его все еще сжимали уже неговорящих кукол, их подбородки прижимались к груди, так что стоящие вокруг не могли разглядеть их лиц: Господь в милосердии своем оберег их от этого зрелища.
– У тебя есть имя?
– Джон Коффи. – Голос подрагивал от рыданий. – Фамилия совсем как напиток, но пишется иначе.
Макги кивнул, потом указал на оттопыренный нагрудный карман безрукавки Коффи. Макги решил, что там револьвер, хотя Коффи мог уложить кого угодно и без оружия.
– Что там, Джон Коффи? «Пушка»? Револьвер?
– Нет, сэр, – ответил Коффи, и эти странные глаза, плачущие снаружи и отсутствующие, отгородившиеся изнутри, как будто настоящий Джон Коффи находился где-то далеко-далеко и видел перед собой совсем другое, уж во всяком случае не мертвых девочек, не отрывались от помощника шерифа Роба Макги. – Там всего лишь мой ленч.
– Всего лишь ленч? – переспросил Макги.
Коффи кивнул и ответил:
– Да, сэр. – А слезы все так же капали и капали.
– И что ты собрался съесть на ленч, Джон Коффи?
Макги заставлял себя сохранять спокойствие, хотя до него уже доносился идущий от девочек запах, он видел, как мухи летают и садятся на кровь. А волосы девочек… ничего страшнее он не видел, потом говорил Макги. В газеты это не попало. Редакторы сочли, что такое не для семейного чтения. Нет, все это я узнал непосредственно от репортера, автора статьи, мистера Хаммерсмита. Я разыскал его, потому что Джон Коффи обернулся для меня идеей-фикс: я хотел докопаться до сути. Макги сказал Хаммерсмиту, что белокурые волосы девочек побурели. Кровь с них подтеками, как краска для волос, запеклась на щеках, и не требовалось иметь врачебный диплом, чтобы определить, что черепа девочек раздавлены могучими руками Коффи, словно грецкие орехи. Может, они плакали. Может, он хотел, чтобы они замолчали. Если девочкам повезло, случилось это до того, как он их изнасиловал.
Видя все это, человек с трудом подчинялся разуму, даже такой человек, как помощник шерифа Макги, специалист своего дела. А неразумные действия могли привести к ошибкам, даже кровопролитию. Поэтому Макги глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться.
– Ну, сэр, точно не помню, честное слово. – Голос Коффи по-прежнему перехватывало от рыданий. – Кажется, сандвичи и маринованный огурчик.
– Если ты не возражаешь, я взгляну. – Макги приблизился к Коффи еще на шаг. – Не двигайся, Джон Коффи. Даже не шевелись, потому что на тебя направлено достаточно ружей, чтобы превратить твою грудь в решето.
Коффи смотрел на другой берег реки и не шевелился, пока Макги доставал из кармана что-то завернутое в газету и перевязанное бечевкой. Макги сдернул бечевку и развернул газету, уверенный, что найдет там именно то, о чем говорил Коффи: его ленч. Сандвич с помидорами, огурчик в отдельной бумажке. Сосиски отсутствовали, они достались Боузеру.
Макги передал сверток одному из мужчин, не отрывая глаз от Джона Коффи. В итоге ленч, вновь завернутый в газету и перевязанный бечевкой, оказался в рюкзаке Бобо Марчанта, рядом с едой для собак (и, как мне представляется, приманкой для рыб). Ленч не стал вещественным доказательством, представленным в суде. Правосудие в тех краях вершилось быстро, но не столь быстро, чтобы сандвич с помидорами и беконом не успел протухнуть. Однако его фотографии присяжные увидели.
– Что здесь произошло, Джон Коффи? – хрипло спросил Макги. – Ты хочешь сказать мне, что здесь произошло?
И Коффи сказал Макги и остальным практически то же самое, что услышал от него я. Именно этими словами на суде закончил свою речь прокурор.
– Я ничего не смог с этим поделать. – Джон Коффи продолжал сжимать в руках обнаженные тела девочек. – Пытался загнать это обратно, но было уже слишком поздно.
– Парень, ты арестован за убийство, – объявил Макги и плюнул в физиономию Джона Коффи.
Присяжные совещались сорок пять минут. Этого времени вполне хватило бы на ленч. Только не знаю, смогли бы они что-нибудь съесть.