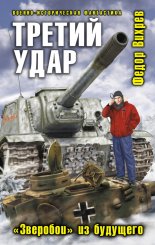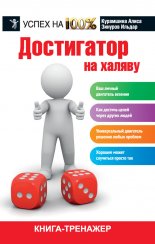Дневник Нагибин Юрий
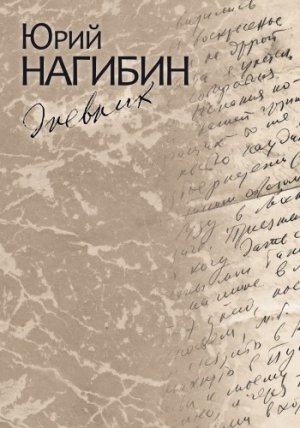
А лето уходит. И я так боюсь первого желтого листа. Порой мне кажется, что я этого не переживу. Я так многого жду от каждого лета, что теряю его впустую; его истинные, весьма скромные возможности кажутся столь ничтожными перед величием смутно воображаемого, что пропускаешь их мимо себя, остается пустота…
В лесу вдруг остро вспомнилась встреча с Верой и Аркадием Первенцевыми в «Русском поле» минувшим апрелем. Я не узнал ее и продолжал не узнавать, когда она подошла ко мне и спросила: «Юра, вы меня забыли или я стала такой старой?..» И вспыхнуло: «О, рыцарь, то была Наина!» Отку да в опыте юного Пушкина могло быть подобное потрясение?
Потом, в перерыве между двумя сериями «Тиля Уленшпигеля» я поздоровался с Первенцевым, пожав большую, вялую, бескостную руку. «Не могу смотреть Уленшпигеля!» — сказал он странным, плачущим, смущенным голосом и, волоча парализованную ногу, повлекся к дверям. Я встретил его впервые осенью 1939 года после нашего романа с Верой, когда она сделала из меня мужчину, у подъезда Клуба писателей. Двухметрового роста, загорелый, красивый, веселый, он сказал с добродушной улыбкой: «Знаю, знаю, как вы с моей женой гуляли!»
Что ни говори, а исход жизни по — своему интересен. Последний акт недолгого действия жалок, страшен, гадок, но не лишен какойто поэзии.
На днях был у В. Роскина. Он звонил чуть не каждый день, и — деваться было некуда. Я боялся этой встречи. Боялся, что он будет заносчив и жалок и постарается всучить мне свою живопись. Я не хотел, чтобы на Оськину память наложилось чтото унизительное, недоброкачественное. Но всё обошлось, даже осталось в душе чемто трогательным. Он не собирался ничего мне навязывать, он даже мои упорные неподходы к телефону объяснил благородно: «Осины товарищи избегают меня, им будто совестно, что Ося погиб, а они уцелели». Это сказал ему Лева Тоом, о самоубийстве которого восемь лет назад Владимир Осипович не слышал. И еще: он забыл, что мы виделись с ним после войны на улице Мархлевского, у Осиной матери, недавно умершей. В нем немало сохранилось от прежнего, несмотря на его восемьдесят лет. Он так же худ и строен, изящен в движениях, хотя при резких поворотах его слегка заносит. Чуть — чуть дрожат руки, но он ловко справлялся с кофейником и рюмками. Прилично одет: коричневые хорошо отглаженные брюки, коричневая шерстяная рубашка, узконосые ботинки. Он очень много работает и уже после выставки[114] написал с десяток полотен. Он облысел, отчего округлился свод черепа, и голова утратила свою продолговатую форму. Теперь он больше похож на Оську. Купили у него после выставки мало и заплатили дешево. Практически он живет с женой на две пенсии: свою и ее. А ведь надо покупать краски, холсты, подрамники, содержать машину. Он впервые сел за руль в пятьдесят пять лет.
Но они както сводят концы с концами. У них хорошая квартира в одном из домов общества «Россия», раз — другой ездили за границу, отпуск проводят на Черном море, встречаются с друзьями. Роскин сказал, что не садится за стол без двух рюмок коньяка.
В нем стало куда меньше гонора, заносчивости, напряженного самолюбия, что отличало его в молодости. Правильней было бы сказать, что он вообще изжил в себе эти свойства. Он прост, скромен, исполнен достоинства и доброты. Прекрасно, с умом и любовью, говорил об Оське, которому, похоже, наконецто узнал цену. Прежде он считал сына милым, беспредметно одаренным шалопаем. Мы многих вспомнили. Художник Лопухин, наш теннисный партнер, жив, а Джон Левин недавно умер. Я не знал, что накануне покончила с собой 87–летняя Лиля Брик. Она сломала тазовые кости и, поняв, что они не срастутся и ей грозит полная неподвижность, отравилась. Она оставила записку, что «никого в своей смерти не винит», а Катаняну успела сказать: «Я очень тебя любила». Она ушла гордо, без жестов. Лет десять назад «Огонек» разжаловал ее из любимых женщин Маяковского. Основание: Маяковский не мог любить жидовку. Он должен был любить прекрасную русскую женщину Иванову. Поэтому смерть Лили прошла незаметно.
Еще несколько лет, и поколение Роскина, поколение моей матери будет подобрано подчистую. Я поймал себя на странном свойстве: пока не исполняется ста лет со дня рождения давно ушедшего человека, я числю его среди живых.
Съездил на машине по «Золотому кольцу». Загорск — Переславль — Залесский — Ростов — Ярославль — Кострома — Суздаль — Владимир — Москва. Перед Ярославлем заглянули (я ездил с Гришкой Ширшовым) в Карабиху — усадьбу Некрасова. Обычная липа: ни одной некрасовской вещи, всё — «того времени». Потрогал старое ржавое ружье, висящее на стене, и подивился его весу. «Милицию вызвать?» — послышался тут же окрик молоденькой экскурсоводки. «Так уж сразу — милицию?» — спросил я. «Да, так уж сразу!» — нахально подтвердила девка. «А без милиции никак нельзя?» Тут она вдруг чтото смекнула про себя и заткнулась. До чего все граждане настроены на хамство, угрозы, репрессии! Казалось бы, у нас должно было возникнуть отвращение ко всякого рода насилию — какое там! Так и рвутся в экзекуторы. Этой славной девушке медово рисовалось, как вызванный ею милиционер крутит руки пожилому седому человеку и тащит в участок. Там избивают до полусмерти, после чего, обвинив в сопротивлении властям, подводят под указ о пятнадцати сутках, о чем сообщают на работу, где начинаются свои репрессии. Этот противный эпизод только и остался во мне от посещения приюта певца обездоленных и униженных.
Впечатление от Ярославля лучше. Город зеленый, светлый, сверкающий куполами, с чудным кремлем, красиво» Волгой, старинными домами, не задавленными стеклянными башнями. Новостройки — по окраинам. В городском музее — великолепная выставка из частного собрания д — ра экономических наук Рубинштейна: первая треть двадцатого века. Тут много акварелей и карандаша театральных художников: Якулова, Исаака Рабиновича, которого я никогда не встречал на выставках, Вильямса и др. И прекрасные работы художников, оставшихся почемуто в тени; их фамилий я раньше не слышал и потому не запомнил. Но, ей Богу, они нисколько не уступают «первачам». Русское искусство начала века куда богаче, чем мы привыкли думать. Просто ктото успел выскочить до революции или в первые годы после переворота, а ктото по тем или иным причинам, к творчеству отношения не имеющим, задержался и канул в Лету.
Из Ярославля мы рванули в Кострому, в образцовый сов хоз «Костромской,», где нам стараниями Гриши, курирующего этот совхоз по линии «Сельхозтехники», была приготовлена квартира. Гриша возлагал на этот визит большие надежды. С одной стороны, он хотел поднять свой престиж, с другой — нанести удар по моему скепсису в отношении нашего сельского хозяйства.
В образцово — показательном совхозе осуществляется вели кая идея о переводе сельскохозяйственного производства на фабричные рельсы. Высокоорганизованная кормовая база должна обеспечивать ежедневный прирост мяса от всего тысячного стада на определенную запланированную цифру. Рассчитано с математической точностью: столькто килограммов сена, комбикорма, сенной муки, зеленой массы и т и. — столькото добавочных тонн говядины. Кроме того, в совхозе создана громадная птицеферма, где от каждой несушки получают триста шестьдесят яиц в год. Гриша обещал показать мне импортные машины, создающие бледно — зеленые цилиндрики пресованной сенной муки, мясо — молочное хозяйство, птицеферму с неистовыми несушками, поля и луга. Ничего из этого не вышло. От ужасных дождей раскисли Дороги — не пройти, не проехать. Французский агрегат стал — сгорел мотор. Оказывается, хрупкая и несовершенная иностранная техника требует постоянного напряжения для своей работы, а на перепады отвечает тем, что выходит из строя. Картофельное поле похоже на рисовое, так залито водой. Картошка только начинает цвести — и это в середине августа, нечего рассчитывать даже на малый урожай. Травы и колосья полегли и так нагрузли водой, что смешно пытаться взять их косилками или комбайном. Хотели выгнать скот на пастбище, но тучные и тонконогие французские коровы вязли в топком грунте и ломали ноги. Пришлось нескольких пристрелить, остальных с великим трудом загнали назад в хлев. Собралось бюро обкома: что делать? Надои катастрофически падают, о нагуле веса и думать не приходится, хоть бы сохранить скот. Решили косить вручную. А где взять косарей? Настоящих мужиков в сельском хозяйстве не осталось, а механизаторы и руководство махать литовкой не умеют. Какуюто жалкую бригаду всетаки набрали. К своему неописуемому ужасу туда вошел второй секретарь обкома, ловко махавший косой на собственном приусадебном участке. В общем эта бригада напоминает тот скорбный отряд косцов, который собрал Пашка Маркушев в «Председателе». А ведь не успел фильм появиться на экране, как рецензенты принялись утверждать, что в нем изображен давно пройденный этап в жизни нашего сельского хозяйства.
Впервые на моей памяти Гришка омрачился. «Ну, если и тут не вышло, не знаю, что и будет», — сказал он так серьезно и горько, что стало ясно: никаких других идей в этой области хозяйственной жизни не существует. Дожди пришибли не одну Костромскую область, а все Нечерноземье.
С яйцами тоже беда. При мне директор совхоза звонил в Ростов: почему не шлют ракушник, обещанный восемь месяцев назад. Курам не из чего строить яичную скорлупу. Ответ из Ростова был неутешителен.
Вечером в нудный серый дождик из низких волглых туч ударила гроза. Такого я еще никогда не видел. Обвальный ливень ворвался в редкие тонкие нити вялого дождишка, вмиг превратив территорию совхоза в костромскую Венецию. Когда ливень ушел с затухающим шумом, в нашу дверь постучали. Разумеется, мы не ждали гостей и были смущены. Оказалось — группа ленинградских студентов, присланная на уборку картофеля. Они ошиблись дверью. На Гришку жалко было глядеть.
На другой день познакомились с Костромой. Город невелик и невзрачен, во дни Кустодиева он был неизмеримо приглядней. Главная достопримечательность — ампирная каланча. Но хорош Ипатьевский монастырь, меж Волгой и ее при током. Там похоронен Пожарский. В магазинах — серая ливерная колбаса, изза которой убивают, сыр (!), овощные консервы, супы в стеклянных банках с броской надписью «БЕЗ МЯСА», какието консервы из загадочных рыб, которые никто не берет. Есть еще «растительное сало», помадка, пастила и сахар. Остальные продукты в бутылках: водка и бормотуха. Много пьяных на улицах и много печали во всем. Зашел побриться в парикмахерскую. Воняла мыльная пена, воняли руки парикмахера, вонял паровой компресс, нестерпимо вонял одеколон.
В Суздале мы съели ужасающий обед в «харчевне». Он до сих пор отрыгивается мне и снится по ночам. Я просыпаюсь с криком.
Из повести Л. Токарева: «Могилы больших человеческих умов хранит моя родная земля». Что правда, то правда: земля наша — могила для человеческого ума.
У нас идет естественный отбор навыворот: выжийают самые бездарные, никчемные, вонючие, неумелые и бездушные, гибнут самые сильные, одаренные, умные, заряженные на свежую и творящую жизнь. Всё дело в том, что это не естественный, а искусственный отбор, хотя внешние формы его порой стихийны.
Болеет чумкой, и болеет жестоко, наш бедный черный Митенька. Из одной смерти Алла его вытащила: был отек легкого, но он сразу устремился в другую — чумная бацилла поразила ему мозг. Он почти не может ходить, шатается, лапки расползаются, падает на спинку. Всё его маленькое тело исколото шприцами, он весь напичкан и, наверное, уже отравлен мощными шарлатанскими лекарствами, и с каждым днем ему всё хуже и хуже. От бесконечных мук он озлобился и кусает до крови ухаживающую за ним Аллу. Смотреть на него невыносимо больно, но права врачиха: «Куда чаще не выдерживают хозяева, чем собаки». Учись у Аллы, скотина!
Здорово придумано: людей, не принимающих данной идеологии, или — что чаще — искажений идеологии, считать уголовными преступниками. До этого не додумался даже Николай I при всем своем полицейском цинизме. Он называл декабристов «бунтовщиками», а не хулиганами, взломщиками, бандитами.
Пять дней Ленинграда. Ездили на машине. Обрадовал материал «Седых волос»[115]. Найдена очень хорошая, добрая интонация, обаятелен, как в своих ранних фильмах, но по — новому, по — взрослому, Алексей Баталов. Трогательна впервые снимающаяся Лупиан, и все другие на месте. Худенький Ефимов, некогда игравший солдатика — связиста в «Ночном госте», разжирел, заматерел и оказался отличным «Художником». Чудно поет свою песенку Ирэна Сергеева. По ходу съемок мы совершили на стареньком катерке объезд всех ленинградских каналов. Я как будто наново увидел Ленинград. Город кажется куда более старым, значительным и подлинным, нежели с суши. Утро было по — воскресному малолюдным, к тому же на многих набережных нет автомобильного движения. Я чувствовал себя в Петербурге прошлого века. Город, который я прежде там любил, а в последнее время подутратил, вернулся ко мне. Правда, без фигур, оживляющих пейзаж, — эти окончательно выродились.
Всё страшнее становится Шредель. Огромный, брюхастый, с вываливающейся челюстью, с больными ногами, в которых умерли пульсы, с перспективой нищенства на старости лет. Мрачен почти всерьез. Игры осталось с гулькин нос, иссякло остроумие, — тяжелый, скучный, вечно брюзжащий и недобрый человек. Следить за ним интересно, жутковато и горько. Остальных и вовсе не хотелось видеть. Отношения вянут и умирают, если их не питает чтото реальное: совместная работа, помощь одного другому, единомыслие, общая любовь, общие пороки.
На обратном пути заехали в Берендеев лес, в то самое место, где когдато заблудились. Набрали полную корзину грибов и опахнулись былым ужасом. До чего же там хорошо!
А сейчас — дача и дождь, и ненужные звонки, и уже проснувшееся раздражение на ожидающую меня ложь, уклончивость, мерзкое морочение головы — опять началась норвежская эпопея.
Уж как не хотели пускать меня в Норвегию, а пришлось. Почему не хотели — не знаю. Донос? Скорее всего, но ума не приложу, что могло послужить для него поводом. И кому нужно доносить на меня?.. Написал письмо Маркову[116]— серьезное и горькое, — подействовало. Всетаки сейчас можно пробиться к разуму власть предержащих, прежде это было невозможно. Впрочем, не исключено, что сработало другое — нежелание скандала. Но и тут участвует разум. Словом, приметен какойто сдвиг.
Норвегия была прекрасна пейзажами и убога людьми. Самое яркое впечатление произвели дебилы (я посетил их резиденцию километрах в шестидесяти от Осло), в них есть самобытность и независимость. Остальные скучны и запуганы. Бацилла страха запущена нами. Норвежцы опасаются стукачей, доносов, телефонов и т. и. Порой у меня возникало такое чувство, будто я не уезжал. Вот что значит общая граница. Тоска и бездуховность сменили прежний подъем. И виной тому страх.
Причина моей нынешней художественной непродуктивности в мне самом, а вовсе не в сценарной замороченности, редколлегиях, самотеке, возне с молодыми авторами и назойливости так называемых друзей. Я сам источник суеты, придумываю себе неотложные дела, липовые обязательства, лишь бы не заниматься тем единственным, для чего родился: писать рассказы. Бороться надо с самим собой, всё остальное не страшно.
Поездка в Москву на прием. Мы ехали по такой темной, непроглядной ночи, что аж оторопь брала. Уже не встречаются освещенные участки шоссе, нет света в деревнях, погружены во мрак новые районы Москвы (Теплый стан, Черемушки), даже центральные улицы столицы освещены в полсилы: фонари горят через один. Что случилось? Месячник экономии электроэнергии на смену месячника пристегнутого ремня? Богатая всетаки у нас жизнь, не дает застояться. Но ехать было трудно, тем более, что аккумулятор включился в игру и не давал фарам энергии. И в домах черно, и черно небо, и черный дождь лупит в лобовое стекло, и черные люди выметываются изпод колес. Похоже, тут достигнут некий абсолют, нужный властям, но смысл его от меня ускользает.
Вчера в полдень умер Антокольский. Он давно уже был очень плох: мозговые явления, чудовищная эмфизема, пробитое инфарктом, изношенное сердце, бездействующий желудок — в нем не оставалось ни одной здоровой точки. Но он знал часы просвета, чтото читал, даже какуюто работу делал — разбирал рукописи и т. и. Само умирание не было особенно долгим, но мучительным. Началось с того, что он упал с кресла, ушиб голову и потерял сознание. Ночью он снова упал, вернее, выметнулся из кровати и опять ушиб голову. И тут начались чудовищные боли в суставах. Он не мог найти такого положения, чтобы хоть сколькото ослабить боль. К тому же он задыхался и у него раскалывался череп. Он якобы натер себе какуюто железку, и это отдавалось в голове. Он умоял врачей дать ему болеутоляющее или сильное снотворное, но те опасались, что это повредит его драгоценному здоровью. «Зачем вы мучаете несчастного старика? Как вам не совестно?» — кричал Павел Григорьевич. Но те хранили верность «врачебной этике». Время от времени забытье освобождало его от адских мук, затем всё начиналось сначала. Толя Миндлин был у него накануне исхода и говорит, что смотреть на Павла Григорьевича было невыносимо, а Толя человек крепкий. Под байковым одеялом не было плоти, лицо, обтянутое пергаментной кожей, усохло в детский кулачок. Он давно уже ничего не ел: глоток чая, чуточку потертого яблока. Примерно за неделю до этого Толя читал Павлу Григорьевичу свои записки о Володиной гибели. Павла Григорьевича давно уже перестало трогать всё, связанное с убитым сыном. Он сам сказал об этом Толе с легким и не смущенным удивлением. Видимо, поэтому Толя счел уместным угостить умирающего таким развлекательным чтивом. С холодной ухватчивостю Павел Григорьевича заметил неудачную фразу: «Разрывная пуля разорвалась во рту». Толя рассказывал, что Наташа — Кипса, старшая дочь Павла Григорьевича и наша приятельница с довоенных коктебельских времен, поражала всех своей выдержкой и толковой распорядительностью у тела отца, но, увидев Толю, отбросила палки-костыли, упала ему на грудь и разрыдалась.
Вот и ушел последний из «Четверки», что так радостно соединилась в дружбе четверть века назад, когда на смену московской пришла «дачная» жизнь. Я помню, как радовалась Зоя Николаевна, что у всех «такие красивые дома», и как иронизировала над этим мама, считавшая, что красивый дом только у нас. Дружба стариков была настоящей, они любили друг друга.
Антокольский не дотянул трех месяцев до возраста Якова Семеновича[117]. Вот что значат злоупотребления: табак, водка, бабы, суета. Работа тоже укорачивает век, когда она взахлеб. А Павел Григорьевич все делал на пределе. А если серьезно: он ирожил на редкость счастливую жизнь: без тюрьмы, без сумы, в известности, пришедшей рано, в единодушном признании (с одной маленькой осечкой в период «космополитизма»), во всеобщей любви; из двух несчастий, выпавших ему на долю: гибель сына и смерть Зои — он извлек свои лучшие стихи, позволившие ему быстро успокоиться. Поверхностный, талантливый, ничем всерьез неомраченный, послушный властям без малейшего насилия над своей сутью, с жадным вкусом к жизни, людям, книгам, неразборчивый и отходчивый, он являл собой в наше мрачное и тягостное время некое праздничное чудо. К его детской постельке явились все феи — в полном составе.
Оказывается, за это время както незаметно умер бывший теннисист и многолетний узник Правдин, побив рекорды долголетия. Люди, проведшие много лет в узилище, как правило долго живут. Выключенность из житейской нервотрепки укрепляет организм и делает его маловосприимчивым к мышьей суете жизни, что возращается вместе со свободой. Уходят последние красивые люди, остается та нежить, что искушала св. Антония на знаменитом полотне Босха.
Вчера у меня в гостях был Мохаммед Маджуб, суданский поэт, некогда председатель суданского Союза писателей, что пригласил меня в 67–м году в Судан. С ним пришел и Абу-Баккар — египетский переводчик, женатый на русской. Баккар — мало интересен, он настолько, ассимилировался, что стал большим москвичем, нежели я. А вот старик Маджуб меня разволновал. Одиннадцать лет назад он приезжал ко мне вместе с Абдаласи, молодым, молчаливым прозаиком с раздвоенным на кончике розовым носом. Я был на пороге новой жизни: только что освободился от Геллы, сблизился и расстался с Аллой, не ведая, что это моя судьба. Мне нужно было пройти через Любанчика и весь тусклый разгул, чтобы раз и навсегда соединиться с собой окончательным. И как всё изменилось за эти одиннадцать лет! Не стало мамы и Я. С., Антокольских и Правдивых, уехали Кауль[118] и Мурад с Шушей, исчезли из моей жизни Россельсы, Галя Нейгауз, Окуджава, Салтыков, Левитанский, почти исчезла Лена и многие, многие другие.
Но у нас это — работа времени, а в Судане — самум африканских социальных страстей. Я видел по телевизору, как вели на расстрел однофамильца моего гостя, секретаря Суданской компартии. Он помнится мне толстым, большим, веселым, размашистым человеком, а на экране был худенький подросток. «А где Абдаласи?» — спросил я. «Умер». — «Отчего? Он же молодой человек». — «Не знаю. Взял да умер». Это было в стиле покойного, тот тоже не любил углубляться в подробности жизни. Бывало я спрашивал его во время поездки по Судану: «Что это за птица, Абдаласи?» — «Не знаю. Просто птица». «А журналист — инвалид, который ездил в коляске?» — «О! Хорошо! Он женился, родил трех детей и попал под грузовик». — «А Хадиджа?» — спросил я с некоторым трепетом, — мне очень нравилась эта молодая красивая писательница и деятельница обновляющегося Судана. «Пишет докторскую диссертацию. Литературу бросила. Общественную работу — тоже. Ее муж опозорился на весь Судан — украл экзаменационную тему, чтобы помочь дочери поступить в колледж». Попутно выяснилось, что муж красавицы Хадиджи педераст. А я, идиот, остановился на полпути, когда мы с ней сидели в машине на берегу Нила, уверенный, что она упоена своей брачной жизнью со смазливым богачом. Союз суданских писателей тоже умер, и Маджуб остался при своей малодоходной книжной торговле.
Перед расставанием он произнес прекрасную фразу: «Наступил час, когда все слова уже сказаны и остается только плакать».
Позвонила Лена и грубым мужским басом, как Лёля когдато, сказала: «Вы будете смеяться, но Мура умерла». Му ра, она же Мэри, жена Мити Федорова, Сашиного отца, моя юношеская любовь, сильно подвинувшая меня к пониманию сути женщины. Изза нее во время войны Митька бросил Лену. Шестнадцатилетним я до глубокой ночи вышагивал с нею по аллеям Долгой Поляны в таком возбуждении, что непонятно, как я уцелел. Первая женская грудь, которую мне дозволили ласкать, первые колена и бедра — всё это Мура. Аркадский пастушок, бля, — я спал в холодном росном саду, дрожа от стужи, чтобы потру проснуться от Мур иного поце луя. Внезапно из чуть переспелой девушки Мура превратилась в роскошную даму. Стремительный этот расцвет не только не восхитил меня, напротив — оттолкнул. Она этого не понимала, убежденная в неотразимости своих чар. Странно, ее по — прежнему тянуло ко мне, хотя она уже вовсю жила напряженной женской жизнью. Помню, как я водил ее в нашу школу устраиваться в десятый класс. Она была густо намазана, вся в кольцах, браслетах, на высоких каблуках, ее высокая крепкая задница вела отдельное, бурное существование. Мура сразила подвернувшегося нам возле учительской географа Ивана Дмитриевича Лосева, старого пьяницу и, как неожиданно выяснилось, пылкого кавалера. Он рассыпался перед ней бисером, уверял, что кончать она должна только нашу школу, где все преподаватели — кандидаты наук. Как ни странно, сам Лосев действительно был кандидатом — единственным на всю школу, к тому же автором учебника по географии. Мура кокетничала с ним, и вид у нее был такой блядский, что даже мне — слепому дурню — стало стыдно. По счастью, ее приметил наш директор, и когда я пришел к нему для переговоров, он сказал почти жалостливо: этой даме совсем не нужно среднее образование. Но Мура и сама это поняла. Вскоре она вышла замуж за журналиста — шпиона Клавдиева. Новая наша встреча произошла во время войны, когда я вернулся с Воронежского фронта. Мурин муж лежал в госпитале, тяжело раненный, она же, мало опечаленная, цвела яркой и довольно вульгарной красотой и охотно позволяла целовать себя. Я уже потерял Машу и ступил на путь греха, но чтото мешало мне сойтись с Мурой. А что — до сих пор не знаю. Скорей всего, память о ней прежней — долгополянской. Потом выяснилось, что в это время у нее начинался роман с Митькой Федоровым. Встретил я ее снова лет через десять в Доме журналистов, где она вела какойто кружок, не то кройки и шитья, не то стенографии. За это время она из вульгарно — соблазнительной дамы превратилась в старую уродливую еврейку. Она сделала вид, что не узнала меня, я охотно поддержал эту игру.
И вот Мура умерла — в одночасье, от инфаркта. Не идет ей ранняя опрятная смерть. Она должна была пережить Митьку, пережить всех, расползтись, стать чудовищем, долго болеть, ковылять на распухших ногах, показывать соседям свои молодые карточки и, обезножив, спустить на сиделок накопленное Митькой имущество. И всетаки, она была добрая баба. Всё время хотела примирить Сашку с отцом, звонила Лене — настойчиво и серьезно. Но в Сашке воспитали такое ожесточение против отца, что из этого ничего не вышло. А Мура оказалась очень хорошей и преданной женой Митьке, но ребенка ему дать не смогла. Мир ее праху.
Были у Пети на дне рождения, которое на самом деле приходится на 19 декабря. Ему исполнилось 60, в газете «Московский художник» опубликовано мое искреннее поздравление. Но Петю уже не интересуют никакие поздравления, он грозно болен. Чтото с печенью, очень плохое, видать. Он выглядит так ужасно, что это отражается на фальшиво — бодрых лицах окружающих. Он худ и желт, как голодающий китаец. Бедный, бедный Петух, неужели с ним, действительно, случилось самое страшное?.. И всё же… В последней, тайной глубине старым людям всегда приятно, когда умирают их сверстники. Это — как в марафоне: еще один отстал, а ты продолжаешь бег к непонятной и недостижимой цели. Отвратительно? Да, но что поделаешь, если люди такие гады. И ведь это не мешает ни боли, ни смертной жалости, ни слезам, и я не знаю, чего бы ни отдал лишь бы Петя жил.
Прежде я очень любил подводить итоги прожитому году. Для чегото это было мне нужно? Для самоуспокоения, что ли?.. Сейчас во мне нет такой потребности, но надо заговорить зубы странному беспокойству, терзающему меня с самого утра. Так чем же примечателен минувший год? Я написал «Беглеца», «Один на один», «Лунный свет», «Замолчавшую весну», «Еще раз о бое быков» и неважный рассказ «Телефонный звонок». Написал хорошую статью о чеховской редактуре. Лихо выступил по телевизору. Два месяца провел во Франции и разлюбил соотвечественников д'Артаньяна, был в Испании — это прекрасно, был в Норвегии — охладел и к этой стране, прекрасной лишь пейзажами. Много мучал ся с делами и неприятностями, с повышенным давлением, простудами, да и вообще, чувствую себя неважно. Провел семинар в Софрино, одарил бедных ребят хвастливой игрой в доверительность, независимость, внутреннюю свободу. Ужасно, гибельно болел Митя. Умерли Атаров и Антокольский. Что еще вспомнить? Приезжала Елена Кохрам из Мичиганского университета, защитившая по мне докторскую диссертацию. Был вечер Сосинского, посвященный воспоминаниям о Цветаевой, я председательствовал. Получил несколько трогательных читательских писем. Что еще было?.. Отвратительная возня с детективным сценарием, Шредель едва не изгадил хороший фильм по «Чужим волосам», гнусное Вороново с дивной лошадью, живущей ни от кого не зависящей жизнью. Но только сейчас я понял, как богат был этот год, как насыщен поездками, работой, телеигрой, борьбой, событиями, значительностью утрат. Я сравнительно мало читал и всё както случайно. Глубину переживания дали лишь роман Кортасара да вновь перечитанный Платонов.
Я еще вспомню этот год, когда пусть трудно, порой мучительно, но всё получалось.
1979
Был в США. Об американских впечатлениях написал всё, что мог. А что не мог, отыгралось бессоницей, повышенным давлением, упадком сил, полубезумием.
Только что уехали от нас Сосинские: старик, Алеша, Сережа с чудовищной бородой. Парни мрачны, особенно старший, он погрустнел, постарел, никакой игры; младший еще пыжится: путешествует, блядует, играет в супермена. Оба зло утверждают: там жить нельзя. Старик радостно их под держивает. Ему нигде не светит, но тут на него находится какойто спрос. Читал удивительные письма дочери Цветаевой, адресованные ему. Особенно прекрасно письмо, посвященное смерти его жены Ариадны Викторовны. Какое чувство, какие слова и какая душа! Господи, что же Ты так извел русских людей, ведь они были ближе всего к Твоему замыслу? Неужели Ты американцев любишь?.. Но почему у нее не получилось с мемуарами? Может, она не может писать подцензурные вещи? Так бывает.
Вчера после долгого перерыва был у нашего фантастического парикмахера Святогора Соломоновича Галицкого. Он сказал, что на недавнем состязании лучших парикмахеров всех поколений «положил молодежь на лопатку». «Это новая прическа? — кричал он, ероша мои неприлично отросшие седые волосы, — Это прическа середины XVIII— начала XIX века. И называлась «аристократическая», по — ихнему «гарсонсазон». Так причесывались Пушкин и Лермонтов. Они, вы не думайте, были не такие уж дураки. И Чернышевский — тоже, и Белинский, может, слышали? Да и Тургенев, как сейчас помню».
Какой жалкий фарс — приезд Елены В.! И ведь этой трепачке удалось обмануть всех: и осторожного, испытанного в обманах всех родов, прожженного Феликса Кузнецова, и холодного проницательного Булата (он всё же был обманут меньше других), и многодумного Трифонова, и меня, что не трудно, но, по чести, я всё время подозревал липу. Это было какоето животное чувство, а не мозговое понимание. Так же инстинктивно я не взлюбил Бобчина. И тут попадание. Но как роскошно — в смысле драматургии — был обставлен финал ее вояжа. В последнее, буквально самое последнее мгновение, когда багаж уже уходил, таможенницу осенило свыше, и она устроила грандиозный шмон, не побоявшись задержать отлет самолета. Добыча была что надо: рукопись Феликса, иконка за два рубля, какието письма. На самом деле, всё это выеденного яйца не стоит, но ведь у нас мало что делается всерьез, таможенники притворялись, будто ими изъята диссидентская рукопись, икона Феофана Грека и тайные послания сионских мудрецов. Погорели блистательные планы Е. Так ей и надо. Скоько форса было в Ирвайне, как презрительно обрезала она добродушного Мунира, и при этом всё делала плохо, нечетко, необязательно. Мунир догадался, что она ничего не стоит. А я таки попался на ее апломб. К тому же меня сбило серьезное отношение к ней Феликса К. Уж онто знает, что к чему! Да ни черта не знает, весь ум таких, как он, годен для местных низкопробных интриг, а вышел за ворота и обосрался.
Как нищ стал наш сад после минувшей зимы. Погибли яблони, сливы, ежевика, крыжовник, кусты жимолости, боярышника, часть сиреней. Вымерзли розы и почти все остальные цветы маминого сада. Уцелела смородина, малина, два-три сиреневых куста. Грустно.