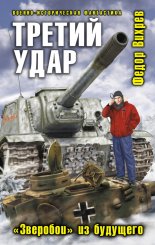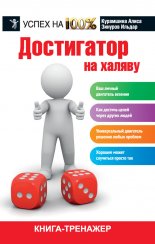Дневник Нагибин Юрий
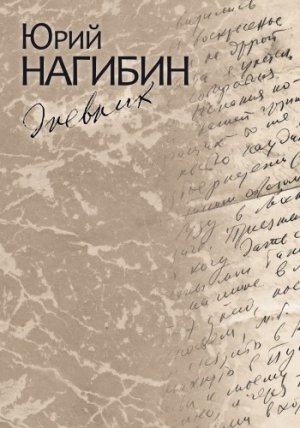
Нельзя понимать только свой характер, нельзя обладать христианским всепрощением только к самому себе. Надо понять и маленького беззащитного человека, без прочного дела в руках, без поддержки и опоры, которому, как в смех, в из бытке давно всё то, что другим, менее щедро наделенным, обеспечивает простое счастье, если не счастье, то покой, домашнее теплишко, надежность завтрашнего дня.
Из нас двоих виноват один я, пусть даже без вины виноват, но виноват, и наказан, во всю полноту вины перед ней и перед самим собой.
Если мне удастся сделать свою боль мягкой, я спасен.
Сегодня опять мука мученическая. Хожу среди людей, как призрак, ни с кем не вступая в контакт, со страстным ощущением собственной незримости.
Скользнула мимо, не задев во мне ни единого волоконца моего существа, полная, хорошая, добрая, серьезная баба из Свердловска. Я ее видел как будто на другом берегу озера, неясно, зыбко, порой и вовсе не видел, не слышал, не понимал, чего она от меня хочет. Странно, что она не почувствовала, что имеет дело с призраком, впрочем, иногда она, кажется, догадывалась об этом и спрашивала: где ты?
Далеко, очень далеко: в маленькой комнатке Динка грызет, слюнявит мяч, и скоро придет Евдокия Петровна, надо одеваться, и пора: отдано всё, но то, что осталось, лишь усилилось, углубилось, обогатилось с этой утратой, оно рвется наружу, к писанию, книгам, другим людям, которые при ней были и нужны, и интересны. Даже ты, бедняга, была интересной и хоть немного нужной, тогда я не глядел сквозь тебя, как сквозь мутное стекло.
Порой я чувствую, что Мара должен быть предан вторично. Есть же такие обреченные люди, которых предают и прижизненно, и посмертно.
Самое горестное, самое глубокое переживание моей жизни творится в обстановке удручающей пошлости: «Комбайнеры», «Мурзилка», Турчанский и Гена Шапиро из литкружка, которым я почемуто должен руководить.
Я все время хотел почувствовать себя настоящим. Всё мое существование наполнено было ложью, потому что я всегда был очень хорошо защищен, я никогда не страдал по — настоя щему. Я натравливал себя на страдание, от которого тут же ускользал с помощью нехитрого защитного маневра. Я игра.1 с собой во всякие игры: в признательность, в жалость, в любовь, в заинтересованность, но всегда гдето во мне оставался твердый, холодный, нерастворимый осадок. И смутно ощущая его в себе, я думал: нет, это еще не я, это еще не моя жалость, любовь, заинтересованность. И вот я в первый раз растворился весь, без осадка, я будто впервые за тридцать пять лет уви дел себя. Ведь чтобы узнать себя по — настоящему, надо узнать себя жалким.
Есть такая убогая фраза: нас многое связывает. С нелю бимым человеком пе связывает ничего: ни совместно пережи тая смерть близких, ни годы, прожитые бок о бок, ничто не заносится ему на текущий счет. С любимой связывает всё, пельмени ВТО, афиши, морщины па собственной руке, каждая малость полна после разлуки глубиной и силой, потому что любимый человек пронизывает собой всё: теряя его, теряешь весь мир, который затем надо воссоздавать наново, наново обставлять пустоту, как обставляют новую квартиру.
Порой мне кажется, что, когда утихнет боль, я буду благодарен Аде за эту боль не меньше, чем за радость; быть может, даже больше. Пусть очень жестоко, очень мучительно, но она вырвала меня из топи мелкого преуспевания, которая засасывала меня всё сильнее.
Хорошо бы печаль, вместо боли, чеховское, вместо шекспировского.
Когда это пройдет, я буду гордиться тем, что умел так глубоко чувствовать, я опять стану пошляком.
Жаль, что нет в человеке прерывателя, который бы перегорал от слишком сильного накала и размыкал цепь, спасая ап парат от гибели.
Страдаю тупо, невдохновенно и беззащитно, как пожарник, которого бросила кухарка.
Почему эти два года я не записывал каждый день Ады?
Пока можно и не записывать — эти дни вернулись. Надолго ли?
Надо лишь не лениться писать хорошо. Не лениться писать, как Бунин.
Обозлился на смерть Верони, застигшую меня в разгаре моей суеты.
Словно не было всех этих лет жизни — снова передо мной бледная, красивая и безнадежно тупая рожа Борисова. Этот человек не продвинулся ни на шаг, вот в таких, как он, заспиртовано всё худшее, что было во времени.[42]
Сегодня мы с Адой случали карликовых пинчеров, ее Динку и крошечного, элегнтного, черного Тишку.
Ада держала Динку за задние ноги и даже направляла пальцем красный членик Тишки. Меня это зрелище взволновало. Вспомнилось, как Лукреция Борджиа устраивала для своих любовников зрелище яростной любви лошадей. До чего же измельчало человечество! Вместо могучего, разъяренного жеребца — игрушечный Тишка, вместо крутозадой кобылицы — жалкий лемурёнок Динка, вместо бешеной, великолепной похоти — муравьиная страстишка, и вместо тех неистовых наблюдателей — мы, бедные, запутавшиеся людишки, робкие в чувстве, и в слове, и в желании.
Здесь я понял с тайной радостью, что Ада совсем не эротична. Она по духу — женщина — мать. Она не побоится ради мужа никакой, даже самой грязной работы, не проявит брезгливости к его нездоровью, будет возиться с плевками и дерьмом, не перебарывая, не ломая себя. Словом, это наиболее близкий мне тип женщины.
Одолевают людишки, одолевают мелкие дела и заботы, блошиные страстишки. Всё дальше ухожу от себя, теряю себя, свою единственно хорошую привычку — недопущение людей в себя.
— Мисюсь, где ты? — хочется мне воскликнуть порой себе.
Когдато — Вероня только заболела — я решил, что если она умрет, я всё отложу в сторону и напишу о ней книгу. Про сто для себя и для тех, кто ее знал. И верил в это. Но вот она умерла — и никакой книги не пишется. Я пересказываю «Бемби», потом буду править повесть, может быть, напишу еще праздничный рассказ для «Вечерки». Или всё запаздывает в жизни, по мелочам исчерпывает свою трагическую суть, или не надо верить в действительную силу скорби.
Уж больно мы все живые, живые и мелкие. Скорей бежать дальше, не останавливаясь, не задумываясь, дальше, дальше… А полезно было бы хоть раз до конца пережить, передумать кончину близкого человека, м. б., мы стали бы чуть добрее, чуть умнее, с теми, кому еще жить?
А то ведь нехорошо: и для живых не находишь слова, и для мертвых.
Вероне, уже умирающей, то и дело казалось, что я возвращаюсь из школы. Надо меня встретить, покормить… Мы вернули ее умирать туда, где прошло почти всё ее скудное и героическое существование, всё вокруг напоминало ей о давнем, молодом, — понятно, что и нас она вспоминала молодыми, более трогательными, более мягкими.
И жизнь, и мы, вышвырнувшие ее из дому, к сестре, казались ей теперь мягче, заботливее.
— Разве у тебя кофе! — говорила она Кате. — Вот Ксения Алексеевна варила мне кофе!..
Так обернулись для нее бесчисленные стаканы кофе, которые она влила в маму за свою жизнь.
Я пе шел ее навещать — от разбалованной слабости.
— Юра всё работает, — сказала она и заплакала от жалости ко мне, предателю.
Наша скверна казалась ей в отдалении добром и милостью. У нее было не размягчение мозга, а размягчение сердца. А может быть, она, поняв, что мы ее предали, изыскивала для нас какието оправдания?
На каждом этапе жизни важно определить для себя главную беду. Я всегда плохо жил, мучительно, безалаберно и трудно, но это не мешало мне «низать слова», как любит говорить Я. С., иной раз даже помогало. Сейчас я теряю себя в мутной дряни, где намешаны: неудовлетворенное, подрезанное на первом разлете тщеславие, гаденький страх разоблачения в личной жизни, халтурное отношение к своим делам и обязанностям, которые меня, в самом деле, не занимают. Не нужно было мне соваться не в свою область, а уж сунувшись, нужно было извлечь ту единственную пользу, ради которой я затеял весь сыр — бор. Опять недоделал, опять не закрутил гайку на последний виток. Надо хоть сейчас взяться за ум: разделаться с тем, что я взвалил на себя, и, жестко отказываясь от всего лишнего, мешающего, опять стать писателем.
И не переставать думать о себе и об окружающем.
Изумительный, до костей продирающий каждым своим изгибом Ленинград и жутковатое очарование проходимца Гиппиуса, о котором почти тоскую.
Для памяти. Ленинград. Встреча с Соловьевым Леонидом, всё так же похожим на набалдашник. Бредовые рассказы, противоречия на каждом шагу, распад сознания. Жена — урожденная баронесса Гипцбург, зубной врач. Дверь, открывающаяся прямо в неопрятную, с красной ситцевой подушкой без наволочки, коекак застланную кровать.
Сейчас вдруг понял, что со мной происходит. Я просто — напросто снизил требовательность к себе. Я успокоился на том, что среди второсортных людишек моего окружения я еще коечто. Я перестал соперничать с Прустом и Буниным, мои соперники — Брагинский и Радов. Я примирился с новой судьбой, а этого ни в коем случае нельзя делать, ибо это не облегчает, а отягощает жизнь, снижает шансы в борьбе за существование, делает до конца несчастным и негордым. Когда же я не смирялся с действительностью, я мог позволить себе с барственной щедростью человека, созданного для лучшего, находить и в ней порой свои «пригорки — ручейки», хотя бы ту же Татьяну Петровну и всё то, где я совпадал в искренности с нужным.
Каждая баба, даже самая дурная, считает своим долгом чтото отдать понравившемуся ей мужчине, хоть какую — то частичную девственность. Одна из тех, кого называют «заверни — подол», долго мучилась, что бы из остатков невинности мне подарить. Наконец, мило зардевшись, она сказала, что я первый мужчина, видевший ее зад.
УЕЗЖАЯ В ФИНЛЯНДИЮ. ЛЕНИНГРАД Я очень любил ее на вокзале, где страшная толчея не могла заполнить образовавшейся после ее ухода пустоты. Я любил ее до слёз на борту парохода, когда катера отводили йас от дебаркадера, и вода была темной, печальной, тронутой странной желтизной, как перед концом света. Я любил ее в каюте под скрип какихто досок и медленную качку. Я любил ее в автобусе, везшем нас по мокрому, неприютному Хельсинки. Я чуть меньше любил ее в Лахти, озаренном зелеными и красными огнями реклам, с витринами в сиреневом, дневном свете. Я перестал ее любить при въезде в тусклую, желтую вечернюю зарю на взгорбке близ Хяменлинны.
Привычка к постоянному обману заставляет наших туристов спрашивать о том, что и так видно, понятно.
— А. А., что это — мост? — спрашивает ктонибудь при въезде на мост.
— Башня, правда, разрушена? — спрашивает другой, глядя на великолепно сохранившуюся башню.
Годовой надой на корову — 3 200 литров. Урожайность на юге — 30 центнеров с гектара, за полярным кругом — 25 ц/га. Пахотной земли — 2,5 млн га. 44 % хозяйств — от 2–5 га. 5% — свыше 25 га. Крестьяне, сдающие молоко, являются акционерами молочного предприятия. 300 литров — одна акция.
Отель «Ауланка» — Хяменлинна. Из окна виден пруд в окружении аккуратно подстриженных, почти круглых лип. Слева — парники и какието домики под красными, черепичными крышами, и пунцовая, без единого листика, рябина.
Впечатление от страны примерно то же, что и от Германии — царство прямых линий. Видимо, это характерно для Европы: прямизна всех плоскостей, из которых слагается материальный, созданный руками человека мир. Та же прямизна и в поведении, в отношениях между людьми, в общественном бытии. У нас же все очертания зыбки, у нас нет плоскости — либо впадина, либо бугор; вместо царства отвеса — царство кривизны, всё горбится, западает, всё волнисто, нечетко, лживо.
НА КОНСЕРВНОЙ ФАБРИКЕ Я посмотрел на нее очень внимательно и нежно, когда она промывала в стеклянной ванне какието кишки. Я еще раз посмотрел и улыбнулся ей. Она тряхнула головой, и промелькнувшая мимо лица прядь скрыла ответную улыбку. Наша группа двинулась к выходу. Я оборачивался. Она подошла к стеклянной двери. Затем я увидел ее возле сгустков печени, идущей на паштеты, она провожала меня мимо запеканок, селитряно воняющей требухи, наконец, нас разлучил фарш…
1956
Вокзал — чистота, пустота и какаято незнаемая гулкость чужого мира. Стрелки, указатели, большие буквы: «и», «D», очень красная афиша на сером столбе — как будто так все оно и ожидалось…
Безлюдье разрушенных, полуразрушенных, уцелевших и восстановленных улиц. Странное и мучительное безлюдье, какое бывает среди декораций до начала съемок. Странен мир, созданный человеком, без человека. Тот город, что угадыватся за сегодняшним, непривлекателен. Это на редкость непоэтичный город. Отель «Адлон», в котором мы остановились, всем своим обличьем, сумеречностью коридоров, лестниц и переходов наводит на мысль о мелких политических убийствах и грязно — скучном немецком разврате. Потом мне сказали, что этот отель, в самом деле, постоянно фигурировал и в скандальной газетной хронике, и в детективной литературе.
Поездка за город по красивой Шпрее[43]. Чудные, но какие-то необычные, «готические», вытянуто — заостренные дикие утки. Много катеров, байдарок, колесных пароходиков с вереницей баржей, на которых сушится разноцветное белье. Наш пароходик тоже колесный, с пьяным капитаном. Вкусный кофе в частной гостинице. Элегантный хозяин отеля, сам подающий гостям кофе и пиво. Наши удивлены — вот так капиталист!..
Вечером — Фридрихштрассе — пятнышко света в темноте, неоновое пятнышко подлинной Европы, единственное располагающее место в этом очарованном городе. Но и тут в рекламах, в шуме кабачков, долетающем на улицу, в редких парочках и еще более редких пьяницах — чтото ненастоящее, незаземленное, как в пассажирах на перроне и в привокзальном ресторане: сейчас поезд тронется, и всё разом опустеет. Да это, пожалуй, соответствует и внутреннему состоянию этих людей. Они не чувствуют себя здесь всерьез, навсегда.
Поездка в Тюрингию. Сосны с надрезами и стаканчиками под белыми ранами для стока смолы. Все сосны, тысячи деревьев, надрезаны и капают смолой в берестяные туесочки, похожие на бумажные стаканчики для мороженого. Всё это дело рук одного человека — лесника. Один человек может сделать грандиозно много, если он работает на совесть. А у немцев это еще сохранилось. Там, где у нас не управляются десять разгильдяев, над которыми стоят еще двадцать бездельников, у них — один работяга. Взять хотя бы переправу через Эльбу, в летней резиденции Августа Сильного. Стареньким, но очень опрятным катерком управляет такой же старенький, чистый немец. Он ловко, бочком проводит катер через реку, причаливает с поразительной ловкостью к пристани, набрасывает цепь на причальный столб, отодвигает железную дверцу и скидывает трап; он сам продает билеты, искусно выбрасывает сдачу из механизированной кондукторской сумки, помогает старикам и детям. И всё это без суеты, без задержки, без лишнего слова. У нас бы на этой работе было бы занято человек десять: машинист, водитель, кондуктор, контролер, бухгалтер, счетовод, начальник отдела кадров, директор, профорг, секретарь партийной организации. А над ними стояли бы контролер из Главка, контролер этого контролера и т. д.
Людей всюду, кроме Лейпцига, удивительно мало, но те, что есть, поддерживают необходимый порядок в хозяйстве своей страны. Порядок в речной службе, в гостиницах, в парках и оранжереях, в немногих действующих музеях, даже в развалинах. Восстановление идет крайне медленно — не хватает людей. Вместо восстановления разрушенных зданий, всюду — и в Берлине, и в Дрездене, и в маленьких городах — создаются улучшенные «Песчаные»[44]. Вообще, «Песчаная» — это символ нашего созидания. И не случайно все эти немецкие «Песчаные» носят название «Сталинских». Огромная Песчаная, возникшая в пустоте, — город Сталинштадт[45], тут плавят привозную руду на привозном коксе. Сталин — аллее[46]— Песчаная, переместившая в Берлине историческое ядро города кудато на окраину. То же и в Дрездене: хотя центр города представляет собой отличную строительную площадку, его не трогают; строительство идет на периферии — целые кварталы Песчаных.
Чудесный Мейсен с горбатыми, то взбегающими ввысь, то падающими вниз улицами. На входных дверях — древние эмблемы города, чтото медное, покрытое зеленым окислом, а рядом кнопки электрических звонков. Вид с высокой площади на громоздящиеся в ладном беспорядке красные черепичные крыши, на Эльбу, стянутую поясом современного моста. Медные ворота, наглухо скрывающие тайну маленьких дворов. В витринах обычный набор: «вильдледершу»[47] на эрзац — резиновой подошве, зеленые, с грубым начесом, мужские демисезонные пальто, посредственное дамское белье и чулки, приводящие наших туристок в шоковое состояние. Красивая площадь перед ратушей, отданная детям: спортивные снаряды, площадки для игр, множество ярких разноцветных флажков. «Детей надо приучать к яркому, праздничному», — сказала мне по этому поводу одна немка.
Наконец, Лейпциг, подавивший наши слабые туристские души тем, что мы сызмальства связывали с манящим, запретным и сладостным словом: заграница. Кабачок Ауэрбаха, где бывал Гёте, и где, по утверждению Гёте, бывали и Фауст с Мефистофелем. Сцены из «Фауста» на стенах, гигантская бочка, медные клешни с электрическими лампочками, на застекленных стеллажах — книги отзывов в свиных переплетах и реликвии Гёте: волосы его возлюбленной, долговые расписки, неоплаченные счета. Да еще — жерло подземного хода, прорубленного студентами, чтобы тайком посещать Ауэрбахскеллер…
1 мая… Сижу в гостинице. За моим окном трепещет флаг, красный с белым крестом. Не знаю, чей это флаг, и не уверен, что это известно вывешивавшим его немцам. Но немцам положено быть со всеми в любви и дружбе, и демонстрировать это при каждом удобном и неудобном случае, поэтому они где только можно вывешивают флаги: русские, английские, французские, шведские, новозеландские, польские, зулусские, бушменские, марсианские. Это свидетельствует о мягкости и миролюбии их демократического сердца. Невдалеке безумолчно звучит пионерский барабан, и с главной площади доносятся голоса, знакомые до зубной боли. Даже голоса становятся на один манер при тождестве строя…
Из какого сосуда ни пей мертвую воду, она может принести только смерть.
Из картин, виденных в музеях и замках (Цвингер пока еще закрыт) наибольшее впечатление произвело «Изгнание менял из храма» Луки Кранаха. Живописно вещь несобранная, но замечательная по характерам. Христос — это озверевший, неистовый еврей, сжимающий в мускулистой руке пук хлёстких розог. Апостолы — синагогальные уродцы, от которых так и прёт алчностью, честолюбием и уже нескрываемым желанием урвать как можно больше от Христова пирога. От Учителя и учеников крепко пахнет потом, мясом, кровью…
Всюду ощущается громадное уважение к своей стране, земле, ее прошлому, настоящему и будущему.
Очень хорошо делали «на плечо» и маршировали с четкостью, которая порадовала бы и Фридриха Великого, дружины по охране общественного порядка (кажется, так они называются). В их рядах, как выяснилось, находится немало эсэсовцев. Немцы охотно дают себя учить любезной их сердцу науке, охотно напяливают на свои плечи и до боли знакомые шинели, и, на худой конец, просто портупею. На первомайской демонстрации «ура» кричали только этим дружинам, чувствуя в них ядро будущих военных соединений.
Промелькнули Эйзенах, Гарц, Вернигероде. Мешанина видов, дат, имен. Под конец подвернулся какойто Меланхтон[48]. После битвы при Вернигероде он остановился с друзьями — соратниками в доме на центральной площади городка, о чем оповещает мемориальная доска. Рядом с домом, где пировал Меланхтон, старинное здание ратуши, где теперь танцзал. В этом здании есть кабачок, тоже очень старый, прокопченный и засаленный.
Когда мы ехали по Гарцу, по неправдоподобно прекрасному Брокену (там шабашили гётевские ведьмы и гдето поблизости базировался Мефистофель), я ничего не уловил, кроме бесконечных известковых и песчаных карьеров да замков графа Вернигероде. Насколько я понял экскурсовода, этот граф раздолбал Мюнцера, что не мешает немцам чтить его память столь же высоко, как и память крестьянского вождя, быть может, даже больше, ибо немцы уважают победителей.
Крепость Вартбург под Эйзенахом. «Подожди, скала, — сказал основатель крепости, одолев отлогую кручу, — ты станешь крепостью», — отсюда и название Вартбург[49]. Дети и новобрачны подымаются к Вартбургу на осликах; когда то на осликах сюда подвозили воду. Я видел одну юную пару, совершавшую подъем на четвероногом вездеходе. На месте новобрачного я бы прежде всего не женился и уж во всяком случае не стал бы утруждать крошку — ослика грузом этой большой и безрадостной бабы с толстыми, раскоряченными ногами.
Из крепости открывается прекрасный вид на окрестность. Смотришь и понимаешь, что эту землю надо любить до слез.
В крепости скверная стенная роспись, кажется, Шика, — деяния св. Элеоноры. В главном зале гигантская фреска, посвященная знаменитому состязанию миннезингеров[50]. Побежденный — Генрих фон Офтердинген (кошмар моих детских лет) на коленях просит Элеонору даровать ему жизнь. Его горячо поддерживает какойто пожилой и неистовый венгерский бард. Офтердингена победил молодой, медоточивый Вольфрам фон Эшенбах, закладом же была жизнь. На переднем плане в позе, соответствующей его яростной музе, — Вальтер фон дер Фогельвейде. Не поймешь, то ли он подначивает палача в красном скорее сделать свою работу, то ли присоединяет голос в защиту Генриха. (Последнее, как я потом узнал.)
Еще мы видели столовую времени Элеоноры со щитами, шкурами, рогами, с гигантскими металлическими кружками, что и поныне украшают каждый приличный немецкий дом; кресло с откидным сиденьем, деревянный трон, камин. Покои Элеоноры внизу, каменные, до дрожи холодные, с золотой мозаикой. Комната, где Лютер переводил Новый завет, одним махом обогатив немцев новой религией, новым языком, новой грамматикой и, конечно же, новой войной.
Письменный стол Лютера, жесткое кресло, китовый позвоночник, служивший ему ножной скамейкой, изразцовый, зеленый камин. Близ камина со стены ободрана вся штукатурка. По преданию, сюда угодила чернильница, которой Лютер швырнул в нечистого. Поколения экскурсантов, темных, как первые обитатели крепости, ободрали на память драгоценную штукатурку.
Легенда возникла вот из чего: «Я борюсь с нечистым пером и чернилами», — сказал Лютер, к тому же на стене действительно была клякса. Служители не ленились восстанавливать эту кляксу, как дух Кентервилей восстанавливал кровавое пятно красками бедной Вирджинии.
Меня тут взволновало одно: когда Лютер работал, он видел из окна неизъяснимо прекрасный лик родной земли: тающие в голубой дымке взгорья, поросшие елями и соснами, склоны, сопрягающиеся так нежно и мощно, что спирает сердце. Ему, видно, хорошо тут писалось, если он мог за год отмахать свой гигантский и чудовищный по следствиям труд.
Весна в Тюрингии. Весна на склонах Вартбурга. Распустившиеся, нежно — зеленые листочки буков; лопнувшие, но лишь по крошечному бледно — зеленому росточку выпустившие, толстые, в детский кулачок, почки тополей; густая, более темная зелень елок — всё просквожено солнцем, нежнейшим запахом, всё окутано какимто истомным маревом, соединяющим зримое в одну цельную, не члененную на подробности, картину. И моя нервность от осязаемого бессилия передать всё это на бумаге.
Прогулка по вечереющему Эйзенаху. Узенькие улочки и молодой человек, звонящий у какогото подъезда. Позвонит раз, два, три, нетерпеливо и робко, и тут же отбежит на противоположную сторону, чтобы его увидели из окна. Улочки горбатые и прямые, и косо убегающие вниз, в тень надвигающегося вечера. Улочки, искривленные в самом конце, обещающие тайну.
Домик — музей Баха. Человечество играло и играет на всем, на чем только можно и нельзя: на дереве, на стекле, на бамбуке, на меди и стали, на кости, на коже бычьей и, кажется, на мочевом пузыре. Удивительный инструмент — водяное пианино, привезенное в Европу Франклином, с нежнейшим, чуть певучим звуком. Принцип простой: поет же бокал, если провести по его стенке влажным пальцем. Круглые цилиндры из грубого стекла помещены в сосуд, наполовину полный воды. С помощью ножной педали цилиндры начинают вращаться, прикосновения пальцев исторгают из них тоскующие, долгие, тихие звуки, которые медленно, словно неохотно сопрягаются в мелодию.
Верстах в пятнадцати от города, «под небом Шиллера и Гёте», находится Бухенвальд, самый «прославленный» из гитлеровских лагерей смерти. Лагерь сохраняется в том самом виде, в каком его застало освобождение. На воротах чугунная надпись: «Каждому — свое», и еще одна — «Право оно или не право, но это твое отечество». Здорово утешительно! Сразу за входом, слева, очередная могила Тельмана, здесь он был расстрелян. Бараков, где обитали узники, не сохранилось, но уцелел карцер. Узкий коридор, по обе стороны — камеры Железная дверь, узкий глазок, задраенная дыра, через которую заключенным подавали еду и воду. Внутри — койка, где откидная, где обычная. В одной камере, где сидел какойто пастор, — шандал с огарком свечи.
Другая постройка с высокой четырехугольной трубой, не без изящества отделанной деревянными планками, — фабрика смерти. Здесь находились печи. Перед каждой печью — железная тележка на колесах. На этих тележках к печам подвозили трупы, а иногда и полутрупы. Тут же помещение, где расстреливали. В стену вделан прибор для измерения роста. Планка, отмечающая рост, бегала по вертикальной сквозной щели. За стеной, против щели, стоял эсэсовец. Когда планка останавливалась над макушкой узника, он стрелял ему в за тылок. Обычно пуля оставалась в черепе, но случалось, про ходила навылет. Чтобы не видно было пулевых пробоин на противоположной стене, ее завешивали длинными ремнями. Чудесная предусмотрительность, напомнившая мне о целлулоидных мешочках, висящих над умывальником в дрезденской гостинице. Я долго ломал голову: для чего они? Оказывается, туда надо складывать выпавшие во время причесывания волосы. Их потом собирают и используют для набивки матра цев. «Так сладко спать на этих матрацах!» — нежно сказала мне коридорная.
На большом дворе — повозка, груженная камнями, в нее впрягали двенадцать провинившихся заключенных, которые должны были сделать по двору двенадцать кругов. Столб с крючьями — это уже для индивидуального пользования; к столбу подвешивали за руки, связанные за спиной; самый короткий срок — полчаса, некоторые выдерживали, но у большинства руки выворачивались из суставов, этих пристреливали.
Супружеская пара: комендант Кох и его жена Ильза. Кох был дважды приговорен к расстрелу своими же собратьями. В первый раз за то, что присвоил полтора миллиона золотых марок, конфискованных у богатых евреев, которые попали в Бухенвальд после покушения французского еврея на советника германского консульства в 1939 году. После вынесения приговора Коху дали возможность загладить свою вину и направили в Люблин, где он сперва устроил великую резню, затем создал образцовый лагерь смерти. Его реабилитировали, а вскоре наградили железным крестом. Затем Коха командировали в Норвегию, где он расстрелял ряд видных норвежских офицеров и схватил сифилис. Болезнь он обнаружил, вернувшись в Бухенвальд, и стал лечиться у двух заключенных врачей — коммунистов. Они его вылечили, и в благодарность были расстреляны. Но пока шло лечение, Кох наряду с другими эсэсовцами, сдавал кровь для фронтовых госпиталей. Поскольку у всех эсэсовцев одна группа крови, зараженная кровь Коха механически поступала в госпитали с ранеными эсэсовцами. Он заразил сифилисом сотни раненых. Не представляло труда установить, откуда поступает зараженная кровь. В Бухенвальд прибыла следственная комиссия. Врачи-коммунисты, расстрелянные Кохом, успели доверить тайну двум — трем товарищам, и в один прекрасный, действительно, прекрасный день Кох был расстрелян в родном Бухенвальде и сожжен в печи.
Ильза Кох, судя по фотографиям, похожа на психопатологические типы из книги Кречмера: асимметричное, одутловатое лицо, маленькие глаза, тяжелый подбородок. Но говорят, что густые, неистово рыжие волосы делали ее почти привлекательной. Она любила скакать на лошади. Седло было усеяно драгоценными каменьями, в мундштук вделаны бриллианты, уздечка отливала золотом. Бывший сторож Бухенвальда сказал мне, любовно и гордо, что скачущая фрау Кох «была прекрасна, как цирковая наездница». В лагере Ильза Кох ведала изготовленем дамских сумочек, бюваров и других изделий из татуированной человечьей кожи.
Ее посадили одновременно с мужем в 1944 году. После окончания войны ее предали суду, как военную преступницу. Но сидя в тюрьме, она соблазнила американскдго майора и забеременела от него, поэтому смертный приговор, который ей вынесли, нельзя было привести в исполнение. Вскоре она благополучно разрешилась от бремени и стала матерью американского гражданина. Генерал Клей немедленно выпустил ее из тюрьмы. Это вызвало взрыв общественного негодования, 11 Клею пришлось снова заключить Ильзу Кох в тюрьму. На Этот раз суд приговорил ее к пожизненному заключению. Она отсидела около девяти лет и на днях была выпущена на свободу. Кажется, она уезжает в Америку. Неужто к своему другу-майору, терпеливо и преданно ждавшему свою маленькую Ильзу? По другой версии она умерла накануне освобождения.
В музее Бухенвальда: гора женских и гора детских туфелек. Груда волос. Простреленное сердце в спирту. Блестящие, похожие на зубоврачебные, инструменты, которыми сдирали, а потом обрабатывали человеческую кожу.
В Бухенвальде работали крупные немецкие ученые, врачи. Они испытывали на заключенных противочумную сыворотку. Эксперимент долго не удавался, и в жертву науке были принесены более семи тысяч человек. Испытывали также воспламеняющееся вещество, необходимое для производства зажига тельных бомб. Капля такого вещества прожигала тело до кости. Испытывали различные яды.
Бок о бок с лагерем находился парк, где прогуливались жены охранников и прочего обслуживающего персонала с детишками. При парке был маленький зверинец: медведи, волки, грифы — кондоры, орлы, лисицы, зайцы и прочее зверье, радующее детский глаз. «Сейчас Бухенвальд не узнать! — с мягкой грустью говорил мне бывший сторож. — Вам бы приехать к нам лет этак двенадцать назад, как здесь было красиво!»
Я еще забыл упомянуть о высушенной до размера картофелины человеческой голове, хранящейся в музее. Сушение производилось в горячем песке. Такие головы дарились особо знатным гостям, посещавшим Бухенвальд.
Водил нас по лагерю очень красивый, с прекрасной голубоватой сединой человек, бывший узник Бухенвальда. Он просидел здесь семь лет, знал и карцер, и дыбу, и чугунный каток, и, по — моему, еще многое другое, о чем не говорит. По образованию он историк, и хотя его давно ждет место школьного учителя, он никак не может расстаться с Бухенвальдом. Он называет свою прикованность к лагерю смерти долгом, но мне кажется, тут чтото другое: болезненное и жутковатое.
Он показал нам домик, где сидели Леон Блюм, Даладье и Мандель.
А затем, без перерыва, исторические места Веймара: дом Гёте и дом Шиллера, памятник Шиллеру и Гёте перед зданием театра, памятник Виланду и Гердеру, дом Листа, загородный дом Гёте, усыпальница Карла — Августа и всей августейшей семьи; гробы венценосцев бесцеремонно сдвинуты в сторону, а на почетном месте установлены саркофаги Шиллера и Гёте. Здесь запрещено разговаривать.
Хорошо вяжется одно с другим: Бухенвальд и эти исторические и культурные сантименты!
По улицам Веймара, мимо памятников, театров и консерватории, где дирижирует сам Абендрот, ездят на велосипедах мило одетые в замшевые штанишки, джемперы, яркие носки и замшевые туфли школяры со свежими, румяными лицами. Я глядел на них с мучительным чувством: Бухенвальд так близок к Веймару, они почти сливаются. Кем они станут, эти юные велосипедисты, при новой заварухе: палачами или жертвами? Кто будет Кохом, а кто тем, чья голова с картофелину? Впрочем, палачи и жертвы, это так условно. Те, кому суждено стать жертвами, станут ими вовсе не по своему свободному выбору, а по случайности, по невезению или родовой обреченности. По сути своей никто не предназначен быть жертвой, ведь и арестанты Бухенвальда делали за своих палачей половину их черной работы, и делали бы другую половину, если б от них потребовали.
Гёте не выдерживает соседства с Бухенвальдом. Все его Миньоны, Вертеры, Ифигении в Тавриде, Гёцы и Лотты умаляются в карликов близостью простой и серьезной трубы Бухенвальда…
Заальфельд. Куда приятнее не мотаться с экскурсиями, а просто сидеть у окна и слушать шумы ночного города. Гортанные, тревожные вскрики подвыпивших молодых немцев, топот чьихто тяжелых ног, щёлк женских каблучков, тихую музыку, далекий, нежный всплеск девичьего смеха.
Кведлинбург. Нас поселили в очень старой, можно сказать, древней гостинице. Полы трясутся, а стены дрожат при каждом шаге, в коридорах из темных, некогда позолоченных рам глядят почти черные портреты, потолок в ресторане прокопчен, духи появляются даже днем. А за окном гостиницы городская площадь и посреди нее весенняя елка — майбаум: на длинном шесте водружена молоденькая елочка, под ней висит еловый венец, похожий на спасательный круг. Вокруг елки расположились автомобили, очень старые, со спицами в колесах и багажниками, похожими на чемоданы. Современны в этих автомашинах только целлулоидные листки, закрепленные на радиаторах: воздух, обтекая листик, предохраняет лобовое стекло от мошкары и пыли.
Поездка в грот. Я накинул прорезиненный плащ, предохраняющий от сырости, и смело, вслед за другими туристами, шагнул в подземелье. С первых же шагов почувствовал, что добром это не кончится, но отважно шел вперед по узкому коридору и, наконец, добрался до первой пещеры. Хоть и подсвеченная невидимыми лампами, ничего красивого она собой не являла. Я двинулся дальше по еще сузившемуся коридору и вдруг почувствовал: конец! Ни усилием воли, ни разумом невозможно преодолеть то жалкое, нестерпимое, душное, истерическое чувство, которое не дано постигнуть тем, кому оно не присуще. Сохраняя остатки самообладания, я сказал громко:
— Нет, эта прогулка не для меня! — и сразу повернул назад.
Ктото крикнул:
— Там выключили свет!
Но я не обратил внимания на эти слова. Я благополучно добрался до пещерки, но там, в кромешной тьме, конечно, не нашел продолжения тоннеля. Я стал зажигать спички, но они тут же гасли, то ли от сырости, то ли от недостатка кислорода. Еще немного, и я бы размозжил себе голову о каменную стену, но тут прибежал наш экскурсовод Петер.
— У вас плохо с сердцем?
Он включил свет и, схватив меня за руку, повдек за собой по коридору. Через несколько секунд я был на поверхности земли, в огромном, благословенном просторе, с синим небом над головой. Нельзя передать, что это за счастье! Понемногу прошло мое болезненное состояние. Петер глядел на меня подозрительно; верно, решил, что я его просто разыграл…
Чудесная поездка в Шварцталь[51]. Горы, поросшие необычайно прямыми, мачтовыми соснами, внизу, в долинах, красные черепичные крыши селений и городков. Долго ехали вдоль всё сужавшейся речки Шварце. Речка мелкая, быстрая, порожистая. У камней — водовороты, которые издали кажутся снеговыми нашлепками. Множество мелких водопадиков, естественных и искусственных, — через воротца. По берегам: мельницы, лесопилки, мебельные фабрики. Небольшая сила реки используется до отказа.
Потом начались черные города. Черные — из местного черного сланца — дома под черными слапцевыми крышами; кажется, будто они носят траур по самим себе.
В одном из таких черных селений под названием Шёне Альтмаркт, в черном магазинчике, продавалась моя книга «Юнге яре». Я сказал продавщице, что я автор. Когда мы уез жали, эта продавщица выскочила за порог с тремя подругами, чтобы показать им великого человека.
Видел на полях Шварцталя немца в замшевых туфлях, вельветовых штанах и фетровой шляпе со шнурком, сеявшего из лукошка под стать шадровскому сеятелю на старых бумажных деньгах.
ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В МЕЩЕРУ (1956 г.)
Из Ефремова в Подсвятье нас перевозила старуха с волчанкой, изъевшей ей всё лицо, как ожогами, уничтожившей брови и ресницы. При этом у нее стан, как у молодой женщины, и красивые, стройные ноги. Старуха легко вела челнок по крупной, захлестывающей за борт волне.
На рязанской стороне, в хуторе, связанном весьма тонкими нитями с какимто призраным колхозом, стоит дом ее зятя. Он потерял на войне ногу, но со своей одной ногой куда увереннее чувствует себя на земле, чем я с двумя. Сжимая железными руками костыли, он день — деньской мотается по болотам, охотится, ботает рыбу, столярит, чегото мастерит по дому. Ему все завидуют, ибо, занимаясь своим мужским и нужным делом, он избавлен от необходимости выслушивать скучные уговоры бригадира о выходе на колхозную работу. На работу всё равно никто не ходит, но постоянные угрозы бригадира, его крики о прокуроре нервируют людей. Один из них жаловался мне ночью, у озерного костра:
— Ну чего он орёт: прокурор, прокурор! Нешто прокурор не человек?
Конечно, человек, и он охотится тут же рядом. Впрочем, всяко бывает, в один прекрасный день он отложит ружье и впаяет подсвятьинским стрелкам долгие сроки разлуки с озером Великим и с речкой Прой, где водятся такие крупные лещи. Но подсвятьинцы почемуто этого не боятся…
Намерзнув на вечерней зорьке — хоть бы один чирок подсел к нашим чучелам и подсадной, — я был в отчаянии от предстоящей ночевки в челноках. Мне было так знобко, так худо, что я отважился на робкий протест, когда мои железные и неумолимые спутники загнали челноки в осоку, объявив неверную, колеблющуюся зеленую зябь островом для стоянки. Они сжалились, и мы взяли путь к берегу. Мы двигались узким, длинным коридором между рядами камышей (хозяин сказал, что этот коридор проложили подсвятьинцы до коллективизации; в подтексте звучало — в ту пору люди еще были способны на серьезное коллективное деяние) и вдруг увидели в конце коридора рубиновую точку костра.
На берегу под дубом горел костер. Вокруг него разместились десятка полтора охотников. Они подкладывали в костер сучья, какието доски с ржавыми гвоздями, ветки можжевельника, сухую траву, горящую с потрескиванием, как порох. На дерновой скамейке, недвижный, как истукан невозмутимо — величественный, словно идол, сидел генерал в полной выкладке, только без орденов. Плясал огонь на широких золотых погонах с крупными звездами, сверкали пуговицы кителя и золотой крученый шнур на околышке фуражки. Он сделал лишь одну уступку месту — прикрыл шею от комаров носовым платком, засунув его под фуражку, что придавало ему сходстсво с бедуином. Зрелище диковатое и очень отечественное — у генерала не оказалось специального охотничьего костюма. Но и выносливость тоже необыкновен ная: он просидел всю ночь у костра, храня достоинство формы и погон, победив усталость и сон, а утром отплыл в свой шалашик, такой же прямой, несгибаемый, будто его насадили на стержень.
И вообще генерал был хорош. Он рассказывал разные истории и каждую непременно заканчивал, независимо от того, слушают его или нет. Выяснилось, что он участник гражданской войны, затем был гдето начальником милиции, потом снова воевал на всех войнах. Он рассказывал о панике в конском табуне, и о том, как на него напали волки, о сибирском гнусе и как с ним бороться. Он принадлежал к той раздражающей породе людей, которые досконально знают то, о чем говорят. Я же всегда говорю на риск, не уверенный ни в едином слове, потому что всё знаю понаслышке, и то нетвердо. С некоторой достоверностью я мог бы говорить лишь о своей душевной жизни, но об этом не говорят.
На рассвете я сидел в шалашике, дрожа от холода и до боли в глазах пялился на темную, неуютную воду, на которой кочкой чернела подсадная и вертелись чучела, двоимые ситой. Подсадная казалась искусственной, так была она недвижима, зато деревянные и резиновые чучела резвились, как живые, и всё время сбивали меня с толку. Затем возле подсадной возник еще один утиный силуэт, но это было так неожиданно и странно, что, конечно, я не признал в нем желанной цели и опоздал с выстрелом.
Потом, после часов мучительного ожидания, когда за спиной всё ширилась желтая полоса зари, воды коснулся чирок и тут же понесся в сторону. Я выстрелил в пустоту, и отдача этого бессмысленного, жалкого выстрела была не только в плечо, но и в сердце. Всей остротой боли ощутил я свою жалкость, обобранность, никчемность.
Когда мы, наконец, отплыли домой, возле причала случилось чудо. Высоко впереди возникли две кряквы, или, как тут говорят, матерки. Они шли над кромкой берега и вдруг, невесть с чего, повернули прямо на нас. Я прицелился, нажал на спусковой крючок, но, конечно, забыл спустить предохранитель. Птицы метнулись в сторону, я неуклюже повернулся, скрутив болью спину, и наугад выстрелил. Не прекращая работать крыльями, одна из крякв косо пошла к воде и не села, а както плюхнулась на волну.
— Есть! — сказал одноногий егерь, и хотя он принадлежит к породе ничему не удивляющихся людей, в голосе его прозвучало нечто вроде удивления.
Утка была только подбита, она нырнула и скрылась из виду. Мы поплыли за ней, она возникла среди плоских и сухих поверху листьев кувшинок, у самого берега. Я хотел добить ее, но она снова нырнула. Затем егерь обнаружил ее под береговым выступом, она забилась в осоку. Мы подплыли, и егерь охватил ее рукой, после чего размозжил ей голову о борт челнока.
Приехал в чудное место, в прекрасное сердце России — Мещеру, в даль от всего, что так измучило и надоело, и вместо радости, вместо высокого покоя, дрянненькое, мельтешливое, подленькое стремление скорее бежать отсюда, назад в свою домашнюю скорлупу, вернее — в суету. Чего только не придумывает подсознание, чтобы человек мог поступать так, как ему хочется, а не так, как нужно. Любил ли я Аду сильнее, пламеннее и горячее, чем в эту поездку? Нет! А с чего? Да потому, что мне хочется домой, в коробочку Фурмановой. Страшно простора, тишины, себя один на один. А ведь я чуть было всерьез не поверил, что жить без Ады не могу. А не будь ее сейчас в Москве? Будь вместо нее Лена? Я бы проникся такой одуряющей жалостью к Лене, что так же отсчитывал бы медленные мещерские часы, так же убегал бы в сон, чтобы скорей проходил день, так же чувствовал бы грубую ненужность зари, птичьих голосов над озером, темной воды вровень с бортом челнока. А не будь их обеих? Мне бы до слёз и бормотания захотелось бы лелеять старость мамы и Якова Семеновича, сейчас, сию минуту. Желание бежать домой в единый миг способно превратить меня в само го страстного любовника, самого преданного мужа, самого нежного сына.
И всё же, едва ли можно объяснить просто слабостью или распущенностью то, что идет сквозь всю мою жизнь. Это какоето очень глубокое нездоровье, таящееся за внешней моей схожестью с теми, кто умеет делать настоящее мужское дело. Это то, что так и не позволило мне стать взрослым.
Особенно тяжело переносится мною в отъезде мой любимый предвечерний час.
Жуткие рассказы о генералах, без устали повторяемые всеми подсвятьинскими охотниками, с какимто древнерусским ехидством, исконной мужицкой ненавистью к «дураку-енаралу». Одного генерала Анатолий Иванович опрокинул в озеро, за что тот хотел его подстрелить, да не смог, потому что у него револьвер «размок». Двух других тот же Анатолий Иванович уложил спать в ноябре под стог сена, а сам зарылся в стог. Ночью прихватил мороз, Анатолию Ивановичу хоть бы что, а генералы к земле примерзли. От земли он их отодрал, но руки у них так закоченели, что охотиться они уже не смогли. Кавалерийскому генералу, который приехал в бурке и папахе, веткой глаз выстегнуло, через это он тоже охотиться больше не мог.
Но круче всех обошелся с генералами отчаянная голова — Женичка, брат Анатолия Ивановича. Военный егерь подрядился с ним насчет совместного обслуживания генералов. Женичка предоставляет свою избу под генеральское общежитие, дает свои лодки, возит на охоту, за это получает чаевые, право охотиться в заповеднике и винную порцию. Приехали шесть генералов, охотились и все наградные егерю отдали. Женичку даже за стол не пригласили. Он на первый раз смолчал. Потом приезжают еще шестеро. Садятся ужинать, ставят на стол коньяк, егерю преподносят стопочку, а Женичке опять ничего. Он быстро сгонял жену за пол-литрой, выпил духом, после чего с матом выгнал генералов из дому и все их постели и пожитки на улицу побросал. Перед всем миром опозорил генералов.
Самым же большим дураком из генералов оказалс пожилой артиллерист. На первой зорьке он убил трех шушпанов, а когда пошел на другую зорьку, сказал: «Мне шушпанов бить неинтересно, больно они просты, мне бы парочку чирков». Он и верно подстелил двух чирков, а шушпанов не трогал, хотя они подсаживались к самому шалашу. Вот дурак, так дурак!
Закат. На ветке висит ослепительная капелька солнца.
Анатолий Иванович презирает женщин. Попив из Великого воды горстью, он сказал: «Воняет, наверное, баба купалась».
Ливень подступал четкой белой полосой на воде, а над нами шел солнечный грибной дождь. Полоса придвинулась вплотную, отступила, снова подошла и, скрав солнце, накрыла жестоким дождем.
Шура скинула с печи красивую смуглую ногу в спускающейся до колен страшной, заскорузлой штанине. Такие же штаны на ее очаровательной, кокетливой, веснушчатой шестилетней Таньке.
Женичка деловито, холодно и ни к чему, уже после охоты, где он взял с десяток матерых, застрелил на дереве возле своего дома безобидного, доверчивого козодоя. Шура сказала: «Да он такой!.. Застрелит кого хошь, хошь котенка, хошь собаку…» …Она не решилась добавить: «хошь человека».
Я долго стоял на бугре, под елями, над широкой просекой, переходившей в поляну, и тщетно ждал знакомого мне по собственным рассказам, но никогда не слышанного вживе прокашливания вальдшнепа.
Я уже двинулся домой, и тут мне повстречался какойто парень в картузе, с двухстволкой на плече. Он стрелял дроздов. Паренек показал мне настоящее место, на самой опушке. «Они тянут через развилку в чернолесье», — сказал он. Это было както не по правилам, но слово «чернолесье» меня убедило. Я пошел туда, вспугнув двух — трех жирных дроздов, и стал под березками. Минут через пять, не поверив собственным ушам, услышал такое отчетливое, громкое, такое буквальное «хорх», будто его произносил человек.
Оглянулся и сразу увидел вальдшнепа. Как и все куликовые, он казался в полете куда больше, чем на самом деле, и летел он быстрее, чем я ожидал. Плохо прицелившись, я выстрелил. Он продолжал лететь и скрылся за деревьями. Но всё, что может дать охота, я испытал.
Обратно шел на дотлевающий, пронзительно золотой закат, сперва краем леса, потом, оставив закат справа, черным тоннелем просеки.
Днем верхушки молодых берез рождают вокруг себя розовато — жемчужное облачко.
Весь вчерашний день и всю ночь бушевали грозы. Они заходили с разных сторон и разражались над нашим поселком. Здесь какойто центр всех гроз Подмосковья. Когда ливень утихал редкими, гулкими каплями, небо окрашивалось в тускло — желтый цвет, будто за хмарной наволочью накалялись новые грозы. Потом небо проблескивало молнией, глухой раскат набегал волнами, и прежде чем он затихал, вспыхивал тонкий волосок молнии гдето совсем рядом, и небо раскалывалось вдребезги. Уже в сумерках прошла гроза с градом. Круглые градины ложились ниткой на дорожках сада, горками у крыльца и террасы. Пес выскочил наружу и, задирая морду кверху, ловил их на лету широко открытой розовой пастью.
К рассвету грозы стихли и запели соловьи. Утром в саду тяжело дышать от теплого, парного, крепчайшего запаха земли, травы и листвы, перенасыщенных влагой. За одни сутки вся природа вошла в зрелость, из весенней стала летней. Воздух гудит: жуки, шмели, мухи, комары, осы. Гдето рядом хорошо и трудолюбиво поет какаято птичка. Сижу за маленьким желтым столиком в саду. Изжогу я задушил содой, но живот побаливает, колет в сердце. Мне тридцать девять лет и по физической сути я выносливая развалина. Всё же погубит меня не водка, а тщеславие.
Божественная осень, какой не было с довоенной поры. Всё горит золотом. Березы нежно и сильно желты днем; тепло, в розоватость, — в предвечернюю пору. Свеже — зелена ольха, осина обтрясла почти все свои красноватые листочки, зелены кусты, лозняк и огромные ветлы над Десной, их зелень чуть припудрена серебристым пеплом.
Пасется стадо на еще зеленой и густой траве. В лесу полно красноголовиков, пни покрыты опятами. Запах нежный и горький, изумрудно горят зеленя озимых. Листы слив чуть полиловели. Вечером — тучки мошкары в саду между соснами.