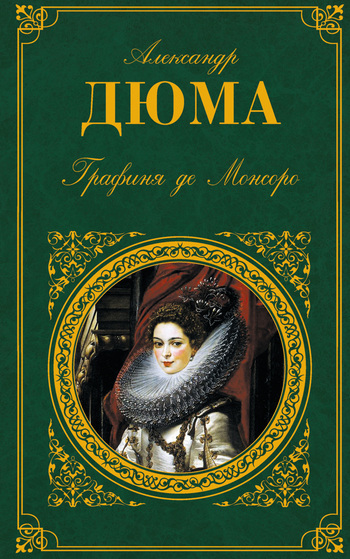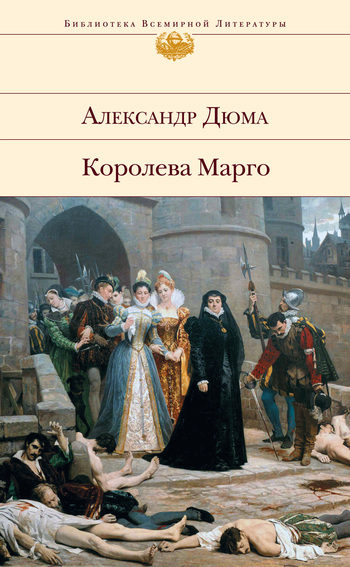Маятник Фуко Эко Умберто
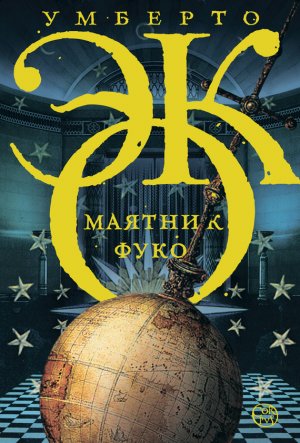
Игевао Игеаов Игеаво Игоева Игоеав Иговеа Иговае Игоаев Игоаве
Игвеоа Игвеао Игвоеа Игвоае Игваео Игваое Игаеов Игаево Игаоев
Игаове Игавео Игавое Иоегва Иоегав Иоевга Иоеваг Иоеагв Иоеавг
Иогева Иогеав Иогвеа Иогвае Ногаев Иогаве Иовега Иовеаг Иовгеа
Иовгае Иоваег Иоваге Иоаегв Иоаевг Иоагев Иоагве Иоавег Иоавге
Ивегоа Ивегао Ивеога Ивеоаг Ивеаго Ивеаог Ивгеоа Ивгеао Ивгоеа
Ивгоае Ивгаео Ивгаое Ивоега Ивоеаг Ивогеа Ивогае Ивоаег Ивоаге
Иваего Иваеог Ивагео Ивагое Иваоег Иваоге Иаегов Иаегво Иаеогв
Иаеовг Иаевго Иаевог Иагеов Иагево Иагоев Иагове Иагвео Иагвое
Иаоегв Иаоевг Иаогев Иаогве Иаовег Иаовге Иавего Иавеог Иавгео
Иавгое Иавоег Иавоге Еигова Еигоав Еигвоа Еигвао Еигаов Еигаво
Еиогва Еиогав Еиовга Еиоваг Еиоагв Еиоавг Еивгоа Еивгао Еивога
Еивоаг Еиваго Еиваог Еиагов Еиагво Еиаогв Еиаовг Еиавго Еиавог
Егиова Егиоав Егивоа Егивао Егиаов Егиаво Егоива Егоиав Еговиа
Еговаи Егоаив Егоави Егвиоа Егвиао Егвоиа Егвоаи Егваио Егваои
Егаиов Егаиво Егаоив Егаови Егавио Егавои Еоигва Еоигав Еоивга
Еоиваг Еоиагв Еоиавг Еогива Еогиав Еогвиа Еогваи Еогаив Еогави
Еовига Еовиаг Еовгиа Еовгаи Еоваиг Еоваги Еоаигв Еоаивг Еоагив
Еоагви Еоавиг Еоавги Евигоа Евигао Евиога Евиоаг Евиаго Евиаог
Евгиоа Евгиао Евгоиа Евгоаи Евгаио Евгаои Евоига Евоиаг Евогиа
Евогаи Евоаиг Евоаги Еваиго Еваиог Евагио Евагои Еваоиг Еваоги
Еаигов Еаигво Еаиогв Еаиовг Еаивго Еаивог Еагиов Еагиво Еагоив
Еагови Еагвио Еагвои Еаоигв Еаоивг Еаогив Еаогви Еаовиг Еаовги
Еавиго Еавиог Еавгио Еавгои Еавоиг Еавоги Гиеова Гиеоав Гиевоа
Гиевао Гиеаов Гиеаво Гиоева Гиоеав Гиовеа Гиовае Гиоаев Гиоаве
Гивеоа Гивеао Гивоеа Гивоае Гиваео Гиваое Гиаеов Гиаево Гиаоев
Гиаове Гиавео Гнавое Геиова Геиоав Геивоа Геивао Геиаов Геиаво
Геоива Геоиав Геовиа Геоваи Геоаив Геоави Гевиоа Гевиао Гевоиа
Гевоаи Геваио Геваои Геаиов Геаиво Геаоив Геаови Геавио Геавои
Гоиева Гоиеав Гоивеа Гоивае Гоиаев Гоиаве Гоеива Гоеиав Гоевиа
Гоеваи Гоеаив Гоеави Говиеа Говиае Говеиа Говеаи Говаие Говаеи
Гоаиев Гоаиве Гоаеив Гоаеви Гоавие Гоавеи Гвиеоа Гвиеао Гвиоеа
Гвиоае Гвиаео Гвиаое Гвеиоа Гвеиао Гвеоиа Гвеоаи Гвеаио Гвеаои
Гвоиеа Гвоиае Гвоеиа Гвоеаи Гвоаие Гвоаеи Гваиео Гваиое Гваеио
Гваеои Гваоие Гваоеи Гаиеов Гаиево Гаиоев Гаиове Гаивео Гаивое
Гаеиов Гаеиво Гаеоив Гаеови Гаевио Гаевои Гаоиев Гаоиве Гаоеив
Гаоеви Гаовие Гаовеи Гавиео Гавиое Гавеио Гавеои Гавоие Гавоеи
Оиегва Оиегав Оиевга Оиеваг Оиеагв Оиеавг Оигева Оигеав Оигвеа
Оигвае Оигаев Оигаве Оивега Оивеаг Оивгеа Оивгае Оиваег Оиваге
Оиаегв Оиаевг Оиагев Оиагве Оиавег Оиавге Оеигва Оеигав Оеивга
Оеиваг Оеиагв Оеиавг Оегива Оегиав Оегвиа Оегваи Оегаив Оегави
Оевига Оевиаг Оевгиа Оевгаи Оеваиг Оеваги Оеаигв Оеаивг Оеагив
Оеагви Оеавиг Оеавги Огиева Огиеав Огивеа Огивае Огиаев Огиаве
Огеива Огеиав Огевиа Огеваи Огеаив Огеави Огвиеа Огвиае Огвеиа
Огвеаи Огваие Огваеи Огаиев Огаиве Огаеив Огаеви Огавие Огавеи
Овиега Овиеаг Овигеа Овигае Овиаег Овиаге Овеига Овеиаг Овегиа
Овегаи Овеаиг Овеаги Овгиеа Овгиае Овгеиа Овгеаи Овгаие Овгаеи
Оваиег Оваиге Оваеиг Оваеги Овагие Овагеи Оаиегв Оаиевг Оаигев
Оаигве Оаивег Оаивге Оаеигв Оаеивг Оаегив Оаегви Оаевиг Оаевги
Оагиев Оагиве Оагеив Оагеви Оагвие Оагвеи Оавиег Оавиге Оавеиг
Оавеги Оавгие Оавгеи Виегоа Виегао Виеога Виеоаг Виеаго Виеаог
Вигеоа Вигеао Вигоеа Вигоае Вигаео Вигаое Виоега Виоеаг Виогеа
Виогае Виоаег Виоаге Виаего Виаеог Виагео Виагое Виаоег Виаоге
Веигоа Веигао Веиога Веиоаг Веиаго Веиаог Вегиоа Вегиао Вегоиа
Вегоаи Вегаио Вегаои Веоига Веоиаг Веогиа Веогаи Веоаиг Веоаги
Веаиго Веаиог Веагио Веагои Веаоиг Веаоги Вгиеоа Вгиеао Вгиоеа
Вгиоае Вгиаео Вгиаое Вгеиоа Вгеиао Вгеоиа Вгеоаи Вгеаио Вгеаои
Вгоиеа Вгоиае Вгоеиа Вгоеаи Вгоаие Вгоаеи Вгаиео Вгаиое Вгаеио
Вгаеои Вгаоие Вгаоеи Воиега Воиеаг Воигеа Воигае Воиаег Воиаге
Воеига Воеиаг Воегиа Воегаи Воеаиг Воеаги Вогиеа Вогиае Вогеиа
Вогеаи Вогаие Вогаеи Воаиег Воаиге Воаеиг Воаеги Воагие Воагеи
Ваиего Ваиеог Ваигео Ваигое Ваиоег Ваиоге Ваеиго Ваеиог Ваегио
Ваегои Ваеоиг Ваеоги Вагиео Вагиое Вагеио Вагеои Вагоие Вагоеи
Ваоиег Ваоиге Ваоеиг Ваоеги Ваогие Ваогеи Аиегов Аиегво Аиеогв
Аиеовг Аиевго Аиевог Аигеов Аигево Аигоев Аигове Аигвео Аигвое
Аиоегв Аиоевг Аиогев Аиогве Аиовег Аиовге Аивего Аивеог Аивгео
Аивгое Аивоег Аивоге Аеигов Аеигво Аеиогв Аеиовг Аеивго Аеивог
Аегиов Аегиво Аегоив Аегови Аегвио Аегвои Аеоигв Аеоивг Аеогив
Аеогви Аеовиг Аеовги Аевиго Аевиог Аевгио Аевгои Аевоиг Аевоги
Агиеов Агиево Агиоев Агиове Агивео Агивое Агеиов Агеиво Агеоив
Агеови Агевио Агевои Агоиев Агоиве Агоеив Агоеви Аговие Аговеи
Агвиео Агвиое Агвеио Агвеои Агвоие Агвоеи Аоиегв Аоиевг Аоигев
Аоигве Аоивег Аоивге Аоеигв Аоеивг Аоегив Аоегви Аоевиг Аоевги
Аогиев Аогиве Аогеив Аогеви Аогвие Аогвеи Аовиег Аовиге Аовеиг
Аовеги Аовгие Аовгеи Авиего Авиеог Авигео Авигое Авиоег Авиоге
Авеиго Авеиог Авегио Авегои Авеоиг Авеоги Авгиео Авгиое Авгеио
Авгеои Авгоие Авгоеи Авоиег Авоиге Авоеиг Авоеги Авогие Авогеи
Я сгреб отпечатанную ленту бумаги, не разделяя ее на страницы. Будем пользоваться муляжом свитка первозданной Торы. Попробовал имя номер тридцать шесть. Никакого эффекта. Последний глоток виски. Вслед за тем трясущимися пальцами я набрал имя номер сто двадцать. Тишина.
Я был готов застрелиться. Что делать? Я старался перевоплотиться в Якопо Бельбо. Якопо Бельбо несомненно рассуждал именно так, как сейчас рассуждаю я. Но где-то закралась ошибка, маленькая, гаденькая ошибочка, совсем ничтожненькая, малюсенькая, и все полетело псу под хвост. Я был близко-близко, что же делать, может быть, Бельбо по каким-то странным причинам начинал счет не с начала, а с конца?
Казобон, кретин злополучный, сказал я себе. Разумеется, он считает с конца. То есть справа налево. Бельбо заложил в компьютер имя Бога в латинской транскрипции, ввел туда две гласные, это ясно, но так как слово все же еврейское, он написал его не слева направо, а справа налево. Таким образом, input выглядел не как iahveh, а как hevhai. О чем я думал раньше! Естественно, что таким образом порядок пермутации выйдет обратный.
Значит, надо было считать с конца. Я отсчитал и попробовал.
Никакой реакции.
Выходит, ошибочной была посылка. Я купился на красивую, но ложную гипотезу. Бывает с самыми лучшими учеными.
Какие, к черту, лучшие? С самыми худшими, как мне блистательно удалось продемонстрировать. Обсуждалось же нами недавно, что за последние несколько месяцев вышло как минимум три романа, где главный герой ищет имя Бога в компьютере. Бельбо не мог унизиться до такой пошлости. И потом вообще, если подумать минуточку, ну кто возьмет для пароля такую труднозапоминаемую абракадабру? Наоборот, нужно самое простое из возможных слов, чтобы оно набиралось спонтанно, инстинктивно. ИОВГЕА! Как же, жди! Ему бы пришлось освоить весь Нотарикон и всю Темуру и составить какой-нибудь невероятный акростих, чтобы только запомнить это слово. «Иудеи Отомстят Врагам Гарамона, Его Абидевшим…»
Кроме того, с какой стати Бельбо мыслил бы каббалистическими категориями Диоталлеви? Для Бельбо важнее всего был План, а в План мы ввели, слава богу, и Розенкрейцерство, и Синархию, и Гомункулов, и Маятник, Башню, Друидов, Эннойю…
К слову об Эннойе. Я подумал о Лоренце Пеллегрини. Я потянулся к фотографии и повернул ее лицом к себе. В память лезло неуместное воспоминание той ночи в Пьемонте… Подпись выглядела так: «Ибо я есмь первая и я последняя, я чтимая и я клянимая, я блудница и я святая. sophia».
Вероятно, писано после вечера у Риккардо. sophia. Шесть букв. Да нет. Какой смысл их анаграммировать? Это у меня извращенное мышление. Бельбо любит Лоренцу, любит именно за то, что она такая, какая есть, а она есть София… Бельбо думает о том, что в эту самую минуту она, вполне возможно… Нет, у Бельбо гораздо более парадоксальное мышление. Мне снова вспомнились слова Диоталлеви: «Во второй сефире сумрачный Алеф превращается в Алеф светоносный. Из Темной Точки выходят наружу буквы Торы. Тело – согласные, дыхание – гласные, а все вместе составляют песнь Пресвятого. Когда мелодия звуков движется, движутся с нею согласные и гласные. Созидается Хохма, Мудрость, Познание, первоначальная идея, в которой все содержание лежит как бы в укладке и готово распространиться по всему сотворенному. В Хохме содержится сущность всего того, что будет…»
А что есть Абулафия, со своим тайным банком файлов? Укладка всего, что Бельбо знал или думал, что знает. Его София. Бельбо избрал таинственное имя, открывающее доступ к Абулафии, к предмету его любовных ласк (единственному!). Но, лаская его, он воображает Лоренцу. Он ищет слово, которое поможет ему владеть Абулафией, но в то же время и Лоренцей. Ищет талисман. Он хочет проникнуть в сердце Лоренцы и понять его, как понимает сердце Абулафии. Он хочет, чтобы Абулафия оставался непроницаем для всех, как для него самого – Лоренца. Он верит, что способен охранить, объять Лоренцу и овладеть тайной Лоренцы, как овладел тайной Абулафии…
Все это было крайне сомнительно, но я старался убедить себя, что мыслю верно. Как и в отношении Плана, я принимал желаемое за действительное.
Но так как я все-таки был пьян, я снова пододвинулся к компьютеру и отбил СОФИЯ. Машина вежливо переспросила: «Вы знаете пароль?» Глупая машина, тебя не волнует даже мысль о Лоренце.
6
Jud Len se dio a permutaciones
De letras у a complejas variaciones
Y alfin pronunci el Nombre que es la Clave,
La Puerta, el Eco, el Husped у el Palacio…[16]
X. Л. Борхес, Голем.J. L. Borges, El Golem
На этот раз, от ненависти к Абулафии, к его тупым приставаниям – «Есть у вас ключевое слово?» – я рявкнул: «Нет».
Экран вздрогнул и начал заполняться буквами, линиями, списками, излились хляби слов.
Я взломал Абулафию.
Я так обезумел от своей победы, что даже не задумался: а почему Бельбо выбрал именно это слово? Теперь-то я понимаю почему и понимаю, что он в некую минуту озарения понял то, что понимаю теперь я. Но в четверг я думал только об одном: победа!
Я плясал, бил в ладоши, орал армейские песни. Когда наконец буря стихла, я скомандовал себе: марш в ванную и умыться. Потом приступил к печатанию последнего файла, который Бельбо кончил перед самым броском в Париж. Пока принтер похрюкивал, я взялся за бутерброды и налил себе еще виски.
Потом я прочел напечатанное, и содрогнулся, и стал мучительно решать: разоблачительный материал или бред безумца? Что я, в сущности, знал о Якопо Бельбо? Что я понял в нем за те два года, которые мы провели бок о бок, видясь ежедневно? В какой степени мог я верить дневнику человека, писавшего, по его же признанию, в исключительных обстоятельствах, одурманенного алкоголем, курением, страхом, три дня и три ночи отрезанного от всяких контактов со внешним миром?
Была уже ночь. Двадцать первое июня. Глаза слезились. С утра перед глазами маячил только экран и муравьиная мелкота точечной печати. Истинны или ложны догадки – в любом случае Бельбо собирался позвонить на следующее утро. Значит, надо ждать его звонка. Кружилась голова.
Шатаясь, я переполз в спальню и улегся на чужую постель.
Около восьми я пробудился от крепчайшего липкого сна и поначалу не мог понять, где нахожусь. Слава богу, в банке было немного кофе, я выпил две или три чашки. Телефон не звонил. Выйти за продуктами я не решался: вдруг Бельбо доберется до телефона именно в это время.
Я опять включил машину и стал печатать другие дискеты, в хронологическом порядке. Обнаружил игры, упражнения, рассказы о вещах, известных мне независимо. Увиденные глазами Бельбо, эти вещи показывались в новом свете. Дневник, интимные записи, наброски и пробы пера, педантично каталогизированные – с педантизмом смирившегося неудачника. Я находил там портреты людей, которых знал, и их лица здесь приобретали совершенно другое выражение, очень трагическое; а может быть, трагическим было прочтение? Способ, которым я укладывал намеки, случайные кусочки в чудовищную мозаику?
Особенно меня поразил файл, состоящий из одних цитат. Они относились к чтениям недавнего времени, я узнавал каждую, о, сколько книг в этом духе прошло через нас с Бельбо за последние месяцы… Цитаты были пронумерованы: ровно сто двадцать. Число со значением. Или, если совпадение, – странное совпадение. И почему Бельбо выбрал именно эти фразы?
Прошло несколько дней; сегодня без помощи этого файла я уже не мог бы объяснить ни писания Бельбо, ни ужасную историю, в которой участвуем мы все. Я перебираю цитаты, как бусины богохульных четок, и чем дальше, тем яснее вижу, что многие из них могли бы прозвучать для Бельбо сигнальным звоночком, указать путь спасения.
А может быть, дело во мне? Может быть, это я не способен отличить логику от буйного бреда? Я все твержу, что именно моя версия – правильная, но не далее как несколько часов назад именно мне, – мне, а не Бельбо, – было сказано: вы ненормальный.
Луна неторопливо восходит над горизонтом, за Брикко. Большой дом заселен кем-то шуршащим – видимо, мыши, сверчки… Скелет дядиного врага Аделино Канепы… Мне страшно перейти на ту сторону, я сижу в кабинете дяди Карло, смотрю в окошко. Время от времени подхожу к балкону, чтобы проверить, не поднимается ли кто-то по склону гор. Я чувствую себя как в кино, какая тоска: «Сейчас они появятся…»
Но гора спокойна в сиянии летней ночи.
Насколько же фантастичнее, туманнее и безумнее была гипотеза, которую я выдумывал в тот вечер, обманывая время и борясь с изнеможением, торча, как палка, в перископе с пяти до десяти… а чтоб не затекали ноги, я медленно, инертно перетаптывался с одной на другую, как бы во власти отдаленного афро-бразильского ритма.
Передумать все недавние годы, отдаваясь мерному перестукиванию «атабаке»… Чтобы свыкнуться с мыслью о том, что наши фантазии, разыгранные как в механическом балете, ныне в этом храме механики пресуществятся в ритуал, в обладание, в богоявление и во владычество бога Эшу?
Тогда в перископе у меня еще не было доказательств, что рассказанное компьютером – правда. Я мог еще защищаться сомнением. К полуночи следовало бы, наверно, признать как безусловный факт, что я прискакал в Париж, затаился, яко тать, в невинном техническом музее, – словом, наделал кучу глупостей только потому, что поддался на простую приманку – макумбу для туристов. Дал себя одурманить ароматами «перфумадорес», ритмами понтос»…
Скептицизм, сострадание, подозрительность поочередно правили моими воспоминаниями, складывали мозаику, и это состояние духа, раздираемого между обаянием интриги и предощущением капкана, я бы хотел сохранить в себе и сегодня, когда на значительно более свежую голову передумываю то, о чем думал ночью в музее, и снова возвращаюсь к документам, лихорадочно прочитанным в последнее время, и тогда утром в аэропорту, и во время перелета в Париж.
Я пытался объяснить хотя бы сам себе ту безответственность, с которой мы – я, Бельбо и Диоталлеви – осмелились переписывать мироздание и, как выразился бы Диоталлеви, переоткрывать те части Книги, что напечатлены пламенем белым, то есть пробелы, оставленные саранчою черного пламени, населяющей – и изъясняющей – Тору.
Теперь, когда я здесь, когда достиг – надеюсь – спокойствия и amor fati[17], я могу начать историю, которую пытался выстроить в тревоге и в надежде – ах, скорее всего обманной! – два вечера назад в перископе. Историю, прочитанную за два дня до того в квартире Якопо Бельбо и прожитую мною самим, не всегда сознавая это, в течение последних двенадцати лет на фоне стойки «Пилада» и запыленных стеллажей «Гарамона».
III. Бина
7
Не ждите слишком многого от конца света.
Станислав Ежи Лец, Непричесанные мысли: афоризмы, фразы.Stanislaw J. Lec, «Mys’li Nieuczesane», Aforyzmy, FraszkiKrakw, Wydawnictwo Literackie, 1977
Поступить в университет через два года после шестьдесят восьмого было таким же невезеньем, как в Академию Сен-Сир в девяносто третьем. Основное ощущение – что ты опоздал родиться. Хотя Якопо Бельбо, будучи на пятнадцать лет старше меня, впоследствии уверял, что это чувство свойственно каждому поколению. Все всегда рождаются не под своей звездой. Единственный способ жить по-человечески – это ежедневно корректировать свой гороскоп.
По-моему, наибольшее воспитательное значение для ребенка имеет то, что он слышит от родителей, когда они его не воспитывают. Роль второстепенного огромна. Мне было десять лет, я хотел, чтоб родители подписали меня на журнал, где печатались знаменитые литературные произведения в виде комиксов. Не по скупости, а из недоверия к комиксам мой папа мялся и выжидал. – Цель этого издания, – произнес я тогда, будучи мальчиком велеречивым и хитрым и цитируя рекламный проспект, – распространение знаний в легкодоступной форме.
– Цель этого издания, – отвечал отец, не подымая глаз от газеты, – та же, что у остальных, – увеличить тираж.
С этого дня я стал Фомой недоверчивым.
То есть я пожалел, что когда-либо бывал доверчив. Что поддавался одной из страстей разума. Доверчивость – это страсть.
Недоверчивый Фома не то чтобы не верит ни во что – он верит не во все. Он верит в первое, а во второе – лишь в той мере, в которой первое вытекает из второго. Недоверчивый близорук, методичен, далеко не загадывает. Если даны две взаимопротиворечащие вещи, верить и в ту и в другую, предполагая гипотетическую третью, которая их объединяет, – это уже доверчивость.
Недоверчивость не исключает любопытства. Наоборот. Я мог не верить в сочленение идей, но ценил многоголосие идей. Достаточно не верить ни во что – и две идеи, равно неверные, дают вам возможность совместить их посредством хорошего интервала и составить diabolus in musica. Я не уважал идеи, за которые требовалось класть жизнь, но из двух или трех не уважаемых мною идей можно было образовать чудную мелодию. Или чудесный ритм, лучше всего джазовый.
Пройдут годы, и Лия мне скажет: – Ты живешь поверхностностями. Твоя глубина – это напластование множества поверхностностей, такого множества, что они создают впечатление плотности, однако будь это настоящая плотность, ты бы не выдержал собственного веса.
– Значит, по-твоему, я поверхностен?
– Нет, – отвечала Лия. – Просто то, что обычно имеют в виду под глубиной, это тессеракт – четырехмерный куб. С одного боку входишь, в другой выходишь и оказываешься в измерении, которое с твоим не сообщается.
(Лия, не знаю, суждено ли нам увидеться теперь, когда Они вошли не с того боку и заполонили твой мир, и виноват во всем я: это я убедил Их, что там есть бездна, – бездну-то Они и ищут, в своей жалкости.)
О чем же я действительно думал пятнадцать лет назад? Убежденный, что не верю, я чувствовал вину перед теми, кто верил. Поскольку я ощущал, что правы они, я положил себе верить, как при температуре положено принимать аспирин. Вреда от него нет, а душа очищается.
Я оказался в гуще революции (скорее это была великолепная симуляция революции) именно потому, что приискивал себе порядочную веру. Я считал, что приличный человек не может не ходить на собрания, не участвовать в уличных шествиях и манифестациях. Я кричал вместе со мне подобными: «Фашистские гады, буржуям нет пощады!» («Fascisti, borghesi, ancora pochi mesi!») и не швырял булыжников и железок только по той причине, что всегда опасался, как бы ближний не сделал мне того же, что я делаю ближнему. Однако испытывал невероятный внутренний подъем, улепетывая по узким улочкам центра от дышащих в затылок полицейских. Я возвращался домой с чувством выполненного долга. На собраниях мне не удавалось сливаться с коллективом. Мешало подозрение, что достаточно одной правильно выбранной цитаты, чтобы из этой группы пришлось переходить в противоположную. Я этим и занимался про себя – подбирал цитаты. И так проводил время.
Поскольку я, как и все, примыкал на демонстрациях к тем колоннам, где были симпатичные девушки, я по себе знал, что политическая деятельность может быть родом секса, а секс может быть страстью. Мне же хотелось до страсти себя не доводить и ограничиваться любопытством. Хотя в то же время, занимаясь храмовниками-тамплиерами и многообразными половыми извращениями, которые им приписывали, я попал на цитату из Карпократа насчет того, что, дабы освободиться от тирании ангелов, захвативших наш космос, необходимо предаваться непотребствам. Это освобождает человека от долговых обязательств перед универсумом и собственным телом. Карпократ считал, что лишь таким путем душа способна отмежеваться от страстей и обрести первоначальную чистоту. Когда мы вырабатывали План, я обнаружил, что многие запойные заговорщики, чтобы добыть озарение, следуют этому рецепту. Однако Алистер Кроули, которого полагается считать самым извращенным человеком всех времен и всех народов и который для этого творил все возможное и невозможное с верующими обоих полов, имел, по свидетельству биографов, только очень некрасивых женщин (думаю, что и мужчины, судя по тому, что они писали, были не лучше), и у меня есть сильное подозрение, что он ни разу не занимался любовью по полной программе.
Вопрос в пропорции между тягой к власти и половым бессилием. Маркс симпатичен мне: чувствуется, что он и его Женни занимались любовью с энтузиазмом. Это ощущается по умиротворенности его стиля и по неизменному юмору. В то же время, как я заметил однажды в коридоре университета, если спать с Надеждой Константиновной Крупской, человек потом обязательно напишет что-то жуткое, типа «Материализма и эмпириокритицизма». Мне пригрозили железным прутом и заклеймили фашистом. Меня клеймил длинный парень с татарскими усами. Я его прекрасно помню. Сейчас он гладко брит, живет в коммуне, они зарабатывают плетением корзин.
Я реконструирую нравы времени только для того, чтобы описать, с каким внутренним багажом я предстал перед коллективом «Гарамона» и завел дружбу с Якопо Бельбо. Я был из тех, кто соглашается беседовать о смысле жизни лишь ради того, чтоб быть готовым править верстку на эту тему. Я полагал, что основная проблема, связанная с изречением «Аз есмь Сый»[18], состоит в соотношении прописных и строчных букв.
Поэтому политический выбор я сделал в пользу филологии. Миланский университет в те годы был единственным в своем роде. В то время как во всей остальной стране заватывали аудитории и нападали на профессоров, требуя, чтобы они участвовали в пролетарской науке, у нас, за исключением мелких эксцессов, соблюдалась конвенция, иными словами, был проведен территориальный раздел мира. Революция проходила во дворах, в актовом зале и главных коридорах, а официальная культура гнездилась в безопасном и тихом месте – во внутренних коридорах и на верхних этажах, и там продолжала существовать точно так, как будто никакой революции не было.
Я проводил утра внизу, судача о пролетарской науке, а вечера – наверху, наторея в аристократических умствованиях, замечательно освоился в параллельных мирах и не ощущал ни малейшего раздвоения. Я, как и все, считал, что мир стоит на пороге справедливого общества, но при этом полагал, что в справедливом обществе должны будут работать (и эффективнее, чем в предыдущем), к примеру, железные дороги. Однако окружавшие меня санкюлоты вовсе не учились загружать уголь в топку, подсовывать башмаки и согласовывать расписание. Кого они собирались приставлять к поездам – непонятно.
Не без некоторого смущения я ощущал себя маленьким Сталиным, который усмехается в усы и думает: «Давайте, давайте, большевички, я пока что поучусь в тифлисской семинарии, все равно потом пятилетними планами буду заниматься лично я».
Непонятно отчего – по контрасту с утренним энтузиазмом? – во второй половине дня я отождествлял знание с недоверием. Поэтому хотелось изучать что-то такое, что позволило бы опереться на факты, в противовес утренним материям, которые можно было только брать на веру.
По причинам в высшей степени случайным я пристал к семинару по Средневековью и начал писать диплом о судебном процессе по делу ордена тамплиеров. История тамплиеров очаровала меня с первой минуты, как только я увидел первый документ. В тот период, когда все были против властей, меня чистосердечно возмутило это стародавнее судопроизводство, мягко говоря подтасованное от первого до последнего слова, в результате которого многие тамплиеры пошли на костер. Но кроме этого, я обнаружил, что в самом скором времени после того, как всех их отправили на костер, толпы охотников за чудесами начали находить тамплиеров повсеместно, как правило, без единого доказательства. Эти визионерские излишества бесили мою недоверчивую натуру, и я решил не терять время на охотников за чудесами, ограничив свой материал только документами эпохи. Храмовники-тамплиеры – для меня это понятие охватывало конкретный монашески-рыцарский орден, существовавший постольку, поскольку он был признан церковью. Когда же церковь распустила этот орден, а это она сделала около семисот лет назад, тамплиеры больше не могли существовать, а те, кто существовал, не были тамплиерами. По этому принципу я выписал около сотни книг, однако в конце концов прочитал только тридцать.
Мои отношения с Якопо Бельбо завязались именно благодаря тамплиерам, в баре «Пилад», в эпоху, когда я сочинял свой диплом, в самом конце тысяча девятьсот семьдесят второго года.
8
Пришедший от света и от богов, вот я в изгнании, отделенный от них.
Рукописи Наг Хаммади, фрагмент Турфа’н М7.Turfa’n M7
Бар «Пилад» в те далекие времена являл собою порто-франко, галактическую таверну, в которой пришельцы с Офиука, осаждавшие в те времена Землю, встречались совершенно беспрепятственно с людьми Империи, охранявшими пояса Ван Аллена. Это был старый бар около канала, со стойками из цинка, бильярдом и всеми трамвайщиками и ремесленниками района, заходившими по утрам для приема первой порции беленького. В шестьдесят восьмом и в последующие годы «Пилад» превратился в настоящее кафе Рика из «Касабланки», где активист студсовета играл в карты с журналистом, прислужником желтой прессы, только что подписавшим передовицу и явившимся за своим законным «виски-беби», в то время как первые грузовики разъезжались по городу развозить капиталистическую пропаганду. У Пилада почему-то все акулы пера объявляли себя эксплуатируемыми пролетариями, производителями прибавочной стоимости, прикованными к идеологическому конвейеру. Студенты жалели и прощали их.
От одиннадцати до двух ночи – это было время издательских работников, архитекторов, хроникеров, мечтавших дорасти до отдела культуры, художников из Бреры, сочинителей средней известности и дипломников вроде меня.
Минимальная степень алкогольного опьянения являлась обязательной, и старичок Пилад, продолжая держать бутыли крестьянского белого для трамвайщиков и аристократов, учел новый контингент, уничтожил как класс шипучку и портвейн и завел у себя марочные игристые вина для демократических интеллектуалов и виски для революционеров. На примере пиладовских виски я берусь проследить развитие политической истории с тех пор и до нашего времени с хронологической привязкой – сначала к «Джонни Уокеру» с красной этикеткой, потом – к «Баллантайну» двенадцатилетней выдержки и наконец – к солодовым сортам.
С появлением новой публики Пилад не тронул старого бильярда, на котором теперь художники с трамвайщиками играли в кегли, однако установил еще и флиппер.
Когда играл я, шарик жил так недолго, что, можно сказать, совсем не жил. Я считал, что виной тому рассеянность, неловкость – но настоящую причину я понял значительно позднее, когда увидел, как играет Лоренца Пеллегрини. Сначала я не заметил Лоренцу, но поневоле уперся в нее глазами, проследив линию взора моего друга Якопо Бельбо.
Бельбо в баре обычно имел такой вид, будто впервые вошел минуту назад. Между тем он обитал там уже не менее десяти лет. Иногда он участвовал в разговорах, как у стойки, так и за столиками, однако почти всегда подавал одну-две реплики, охлаждавшие любой энтузиазм, чем бы энтузиазм ни был вызван. Для замораживания собеседника использовалась специальная техника вопроса. Некто рассказывал нечто, занимая внимание публики, а потом Бельбо подымал свои водянистые очи, донельзя рассеянные, держа бокал где-то на бедре, как будто он давно о нем позабыл, и в такт вежливо переспрашивал: «И вот так оно и было?» или: «И вот он так сказал?» Не могу точно объяснить механику, но после двух подобных вопросов кто угодно начинал сомневаться в сообщаемой информации, в первую очередь рассказчик. Возможно, дело в пьемонтском выговоре, из-за которого утвердительная интонация звучала как вопросительная, а вопросительная как издевательская. Безусловно пьемонтской была у Бельбо эта манера держаться – не встречаясь взглядом с собеседником, но и не отводя глаза. Взгляд Бельбо не устранялся от диалога. Он попросту прогуливался по пространству и отыскивал точку конвергенции параллельных, которая до той поры не ощущалась как таковая, благодаря чему у вас появлялось ощущение, будто все предыдущее время вы тупо пялились в то единственное место, которое не имеет никакого значения.
Бельбо работал не только взглядом. Он мог и жестом, и одним междометием отправить вас куда угодно. Я имею в виду: предположим, вы пытаетесь убедить свой столик, что Кант произвел коперникианский переворот в философии нового времени, и многие надежды возлагаете на успех этого выступления. Бельбо, сидящий против вас, в какой-то момент начинает разглядывать ногти или колено или прикрывает усталые веки, на устах показывается этрусская улыбка, или он замирает на секунду с разинутым ртом, глаза в потолок, а потом шелестит самым ласковым шепотком: «Вот чего мы не ждали бы от Канта…» Если же вами описывался де-факто сокрушитель системы трансцендентального идеализма, Бельбо переспрашивал: «Он действительно был такой буйный?» Потом великодушно взирал на вас, как будто вы, а вовсе не он, развалили все обаяние теории, и говорил: «Интересно, интересно. Я вас перебил, извините. В этом что-то есть… Определенно. Большой фантазии был человек…»
Периодически, когда он бесился, он проявлял себя беспардонно. Поскольку единственным, что могло его взбесить, была беспардонность ближнего, его собственная ответная беспардонность носила внутренний, частный характер. Он закатывал глаза, качал головой и произносил вполголоса: «Вынул бы пробку». Кому же был неизвестен смысл этого пьемонтского выражения, он мог и объяснить: «Надо иногда вынимать пробку. Чтобы избежать взрыва. Надутый человек находится в опасности. Вытащив пробку из зада, п-ш-ш-ш, вы возвращаетесь в натуральное состояние».
Подобные реплики подчеркивали тщету всего, и я очаровывался. Однако извлекал ложные выводы. В ту пору фразочки Бельбо мне казались образцом высшего презрения к банальности чужих истин.
Только теперь, после того как я взломал, вместе с секретом Абулафии, секрет психологии Бельбо, я вижу: то, что я принимал за высшую трезвость и что считал принципом жизни, было проявлением подавленности. Депрессивным интеллектуальным либертинажем он маскировал неутоленную жажду абсолюта. Это было трудно уловить с первого взгляда, потому что в Бельбо моменты бегства, колебания, отчужденности компенсировались моментами безудержной говорливости, когда он, в экстазе от собственного неверия, создавал альтернативные абсолюты. Это было, когда он вдвоем с Диоталлеви выдумывал учебники невозможного, миры навыворот, библиографические тератологии. И, видя его энтузиазм, страсть, с которой строил он свою раблезианскую Сорбонну, невозможно было догадаться, насколько болезненно переживал он уход с факультета теологии – с настоящего.
Я только потом понял, что я-то вычеркнул из своей жизни адрес этого факультета, а он не вычеркнул, а потерял, и это не давало ему покоя.
Среди файлов Абулафии я обнаружил много страниц псевдодневника, который Бельбо доверил дискетам, убежденный, что они не выдадут его и не развенчают настойчиво создаваемый им образ обыкновенного наблюдателя. Некоторые были датированы давними годами. Ясно, что Бельбо переписал в компьютер старые заметки – то ли просто так, из сентиментального чувства, то ли собираясь их литературно обработать. Другие отрывки относились к последнему времени, к последним нескольким годам, когда он уже познакомился с верным Абу. Бельбо писал ради механического упражнения, ради одинокой «работы над ошибками», уверяя себя, что не «творит» и не имеет никакого отношения к творчеству, так как творчество, даже когда порождает ошибку, всегда диктуется любовью к кому-то, кто не является нами. Однако Бельбо, сам того не зная, обходил сферу по другому полушарию и приходил в ту же точку. Он творил, хотя лучше бы было ему не творить. И в этом берет начало его любовь к Плану – именно из потребности написать Книгу, пусть даже состоящую из только – исключительно и всецело – намеренных ошибок. Кувыркаясь в своей пустоте, вы можете убеждать себя, будто состоите в общении с Единым. Но как только вы начали возиться с глиной, пускай даже электронной, вы – Демиург. И от этого никуда не деться, а кто собирается сотворить мир, тот неизбежно уже запятнан и ошибками и злом…
Имя файла: Есть три жены у сердца моего…[19]
Вот так вот: toutes les femmes que j’ai rencontres se dressent aux horizons avec les gestes piteux et les regards tristes des smaphores sous la pluie…[20]
Бери повыше, Бельбо. Первая любовь – Пречистая Дева. Мама держит меня на коленях и укачивает, хотя я уже вышел из возраста колыбельных, но все равно прошу ее, чтоб она мне пела, потому что люблю ее голос и запах лаванды от ее груди: «О царица в эмпиреях, ты, чистейшая, святая, славься, Дева, славься, матерь, матерь Господа Христа».
Итак, первая жена в моей жизни была не моей, как, с другой стороны, следует заметить, не была и ничьей, по определению. Первым делом я влюбился в единственную жену, способную целиком и полностью обходиться без меня.
Потом была Марилена (Мерилена? Мэри-Лена?). Лирически описать сумерки, золотые пряди, голубой бант. Я, вытянувшийся по струнке, задравши нос, перед скамейкой, – она, прогуливающаяся по верху спинки, раскинув руки, чтобы регулировать колебания (обольстительные экстрасистолы). Юбочка легонько колышется вокруг розовых ног. Высота, недоступность.
Наплыв: тот же самый вечер, мама, присыпающая боротальком розовые округлости моей сестры. Я спрашиваю, когда же у сестры наконец отрастет пистолетик, и мне сообщается в ответ, что у девочек ничего не отрастает, они так и живут без этого. В тот же миг у меня перед глазами снова Мэри-Лена, белизна ее белья, видного под куполом голубой юбки, когда эта юбка развевалась, и я понимаю, что она белокура и надменна, потому что принадлежит к иному миру, с которым нет и не может быть никакого контакта, принадлежит к иной расе.
Третья жена сразу же низверглась в пропасть, где погребена. Только что она усопла во сне, бледненькая Офелия в цветах, в своем девическом гробе, и священник вычитывает над нею поминальную молитву, внезапно она столбом встает над катафалком, насупленная, белая, мстительная, воздев перст, пещерным голосом: «Отче, не молись за меня. Этой ночью, до сна, я зачала нечистый помысел, единственный в моей жизни, и посему я – душа проклятия». Надо найти учебник, который я зубрил перед первым причастием. Была в нем картинка или все это – целиком моя фантазия? Разумеется, нечистая мысль перед смертью отроковицы относилась ко мне, нечистый помысел – был я, нечисто мысливший о Мари Лене, неприкосновенной, инакого бо назначенья, рода. Я виновник ее проклятия, я виновник проклятия всех, кто проклят, и поделом мне, что не моими были три жены: это наказание за то, что я их желал.
Оставим первую, потому что она в раю, вторую, потому что она в чистилище грустно алчет мужественности, которая у нее не отрастет никогда, и третью, потому что она в аду. Теологически закруглено. Так уже писал до меня один господин.
Но была еще Цецилия, и Цецилия никуда с нашей грешной земли не делась. О ней я помышлял, засыпая, я поднимался на гору, я шел за молоком на ферму, а партизаны с противоположной горы открывали стрельбу по контрольно-пропускному пункту, и тут я приходил на помощь, я спасал Цецилию от своры черных полицаев, которые гнались за нею с автоматами на изготовку. Златоглавее Мэри-Лены, притягательнее гробовой отроковицы, чище и святее Пречистой Девы. Цецилия земная и доступная, чуть-чуть еще, и я мог бы заговорить с нею, я был убежден, что она способна полюбить существо моей породы, тем более что она уже любила такое существо, именовавшееся Папи, с белыми всклокоченными волосами на крошечном черепе, годом старше меня, и обладавшее саксофоном. У меня же не было и трубы. Я ни разу не видел их вместе, но ребята в классе шушукались, подпирая друг друга локтями, подхихикивая, что эти двое «живут». Разумеется, они все выдумывали, крестьянские малолетки, похотливые, словно козы. Больше всего им хотелось уверить меня, что она (Она – Пресветлая Мэри Цецилия, суженая и супруга) до такой степени доступна, что каждый, кто угодно, может сблизиться с нею. Исключая и в данном случае – в четвертом по очереди, – исключая меня.
Пишут ли романы о подобных вещах? Может быть, надо писать, наоборот, о тех женщинах, которых я избегаю, потому что их я мог иметь? Или мог бы. Иметь. Или первое и второе – стороны одной медали?
В общем, когда неизвестно даже о чем писать, лучше редактировать труды по философии.
9
И в его деснице труба золотая.
Иоганн Валентин Андреаэ, Химическая свадьба Христиана Розенкрейца.Johann Valentin Andreae, Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz,Strassburg, Zetzner, 1616, 1
В этом файле примечательно упоминание трубы. Позавчера, сидя в перископе, я еще не понимал, до чего это важно. Тогда я располагал только одним контекстом, довольно бледным, маргинальным.
…В долгие гарамонские вечера, бывало, Бельбо, замученный рукописью, подымал глаза от бумаги и начинал говорить, а я слушал, перетасовывая дряхлые офорты Всемирной выставки в макете очередной книги, – он импровизировал на вольную тему, но мгновенно захлопывал раковину при малейшем подозрении, что его могут принять всерьез. Имели место воспоминания прошлого, но единственно в притчевой функции: иллюстрции того, как не следует поступать.
– Конец наш приходит, – пробормотал он однажды.
– Закат Запада?
– Да пусть закатывается… западается. Нет, я насчет пишущих масс. Третья рукопись за неделю. Одна о византийском праве, другая о Finis Austriae[21] и третья о порнографических сонетах Баффо[22]. Казалось бы, разные вещи, вы не находите?
– Нахожу.
– Ну вот, а во всех в трех много рассуждений о Вожделении и Предмете вожделения. Великая сила мода. Я еще понимаю насчет Баффо. Но византийское право…
– Киньте в корзину.
– Да нет, все это печатается за счет Центра научных исследований, и вообще не так уж плохо. В крайнем случае позвоню всем по очереди и спрошу, согласны ли они расстаться с этими абзацами. Для их же пользы.
– А как он вставил предмет вожделения в византийское право?
– Нашел как вставить. Как вы понимаете, если в византийском праве и был предмет вожделения, он был не тот, который думает автор. Предмет вожделения всегда не тот.
– Не тот не какой?
– Не тот, который кажется. Когда-то, в возрасте не то пяти, не то шести лет, мне приснилась труба. Златая. В общем, один из тех снов, в которых будто мед бежит по жилам – что-то вроде ночной поллюции еще до половой зрелости. Полагаю, что ни разу в жизни впоследствии я уже не был так счастлив. Никогда. Разумеется, после пробуждения я понял: труба мне только снилась. И заревел, как теленок. Проплакал весь день. Что я могу сказать? Наверно, действительно до войны, а это было в тридцать восьмом, мир был очень нищ. Потому что сегодня, если бы у меня был сын и я увидел его в такой печали, я сказал бы ему: да идем, купим тебе эту трубу. В конце концов, речь шла об игрушке, сколько уж там она могла стоить. Но у моих родителей и в мыслях не было. К деньгам относились серьезно. И так же серьезно внушали чадам: не все, что захочется, можно иметь. Вот я, например, не люблю капустный суп. Ну что в этом преступного, боже мой, разваренную капусту я в рот взять не могу… Но в ответ не говорилось: дело твое, живи сегодня без супа, съешь второе (а мы жили не бедно, у нас каждый день было первое, второе и компот). Не тот случай, никаких капризов, ешь что дают. Единственное, на что они соглашались в порядке компромисса, – это чтобы бабушка вытащила водоросли из моей тарелки. И она тянула их, нитку за ниткой, червяка за червяком, соплю за соплей, и я должен был глотать этот разминированный суп, еще более мерзкий, чем раньше. Однако даже и такие послабления мой папа весьма не одобрял.
– А труба?
Он посмотрел на меня с подозрением: – Почему вам надо знать про трубу?
– Мне ничего не надо. Это вы заговорили про трубу, что-то про предмет вожделения, что он всегда не тот.
– Труба. Должны были приехать дядя и тетя из ***. У них детей не было, я был любимый племянник. Они узнали, что я оплакиваю эту призрачную трубу, и сказали, что берутся все уладить. Что завтра мы пойдем в торговые ряды, где есть целый прилавок игрушек, и я выберу самую лучшую трубу. Ночь я не спал, все утро следующего дня трясся. Наконец мы пошли в торговые ряды. Там были трубы как минимум трех конфигураций. Латунная штамповка. Но мне они казались кипящей медию земли обетованной. Там был походный горн, тромбон с раздвижной кулисой и некая псевдотруба, потому что у нее был раструб и она была золотая, но с клавишами от саксофона. Я не знал, какую выбрать. Замялся – в этом была, видимо, моя ошибка. Мне нравились все три, а им могло показаться, что ни одна не нравится. Тем временем, скорее всего, дядя и тетя посмотрели на ценники. Дядя с тетей были не жадные, однако, вероятно, они увидели, что есть вещь и подешевле – кларнет из бакелита, черный, с серебряными клапанами. «Может быть, тебе это хочется?» – спросили они, указывая на кларнет. Я попробовал кларнет. Он блеял как положено кларнету. Я попытался внушить себе, что кларнет – это то, что надо, а в это время мой мозг работал на высоких скоростях и приходил к выводу, что дядя и тетя уламывают меня на кларнет, потому что он дешевле. Труба же, как я начинал думать, стоила целое состояние, и я не мог требовать от дяди и тети такой жертвы. Меня всегда учили, что когда тебе предлагают что-то хорошее, надо сразу ответить «спасибо, нет». И даже не один раз, не тянуть руку сразу вслед за «нет», а дождаться, чтобы даритель настоял, сказал: пожалуйста, возьми, доставь мне удовольствие. Только после этого благовоспитанный ребенок сдается. Поэтому я сказал, что, наверно, мне не так уж и хочется трубу. Что, наверно, кларнет тоже хорош, если им так кажется. И снизу заглянул им в лица, надеясь, что они переспросят. Они не переспросили. Царствие им небесное. Они были просто счастливы, что могут подарить мне кларнет, раз уж, сказали они, именно о кларнете я так мечтал. Пути обратно не было. Мне купили кларнет.
Он глянул на меня с подозрением: – Хотите знать, снилась ли мне потом опять труба?
– Нет, – сказал я. – Хочу выявить предмет любви.
– А, – отозвался он, снова берясь перелистывать рукопись. – Видите, вот и вы зациклены на этом предмете любви. В данных вопросах обычно все врут как могут. Да… Ну а если бы мне купили трубу? Был бы я на самом деле счастлив? Что вы скажете, Казобон?
– Вам бы приснился кларнет.
– Нет, – сухо сказал он. – Кларнетом я только владел. Ни разу не играл.
– Кларнеты детям не игрушка…
– Я на кларнете не играл, – отчеканил он, и я почувствовал себя паяцем.
10
И наконец, не иное выводится каббалистически из vinum (вина), как VIS NUMerorum (сила чисел), на которых и основана сказанная Магия.
Чезаре делла Ривьера, Магический мир Героев.Cesare della Riviera, II Mondo Magico degli Eroi,Mantova, Osanna, 1603, p. 65—66
Но я говорил о первом разговоре с Бельбо. Мы виделись и раньше, перекидывались репликами в пиладовском баре. Знал я о нем мало – только что он работал в «Гарамоне». Книги этого издательства я читал в университете. Издательство маленькое, серьезное. Юноше, трудящемуся над дипломной работой, обычно импонирует знакомство с сотрудником престижного издательства.
– А вы чем занимаетесь? – спросил он однажды вечером, притиснутый рядом со мной к дальнему углу цинковой стойки «Пилада» в жуткой давке по случаю праздничного нашествия посетителей. В ту эпоху все обращались друг к другу на «ты» – студенты к преподавателям и преподаватели к студентам. Что уж говорить об аборигенах «Пилада». «Закажи и мне выпивку», – бросал студент в битловке главному редактору крупной газеты. Похоже было на Петербург молодости Шкловского. Сплошные Маяковские и ни одного Живаго. Бельбо не сопротивлялся общепринятому «ты», однако было ясно, что для него это синоним всего самого отвратительного. Он принимал игру в «ты» как бы чтобы продемонстрировать, что отвечает на хамство хамством, но что в его глазах существует пропасть между дружбой и амикошонством. Настоящее «ты», которое, как в старину, символизировало дружбу либо любовь, на моей памяти у него находилось для считаных людей. Для Диоталлеви и двух-трех женщин. К тем, кого он уважал, но знал не слишком давно, он обращался на «вы». Так он разговаривал и со мной все то время, что мы проработали вместе, и я гордился этим почетом.
– А вы чем занимаетесь? – обратился он ко мне, и, как я теперь понимаю, это был знак высшей симпатии.
– В жизни или на этой сцене? – отозвался я, обводя взором пиладовские подмостки.
– В жизни.
– Учусь.