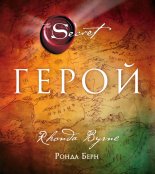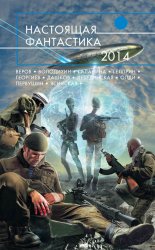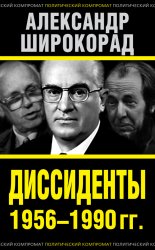При дворе Николая II. Воспоминания наставника цесаревича Алексея. 1905-1918 Жильяр Пьер
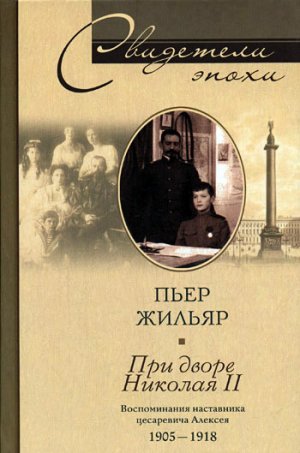
ВСТУПЛЕНИЕ
В сентябре 1920 года, пробыв в Сибири три долгих года, я наконец смог вернуться в Европу. Я все еще мучительно переживал страшную драму, свидетелем которой стал. И одновременно не переставал восхищаться чистотой и искренней верой тех, кто стал жертвой трагедии. Поскольку в течение многих месяцев был полностью оторван от внешнего мира, я не был знаком с последними публикациями о государе Николае II и его семье. Однако я очень скоро обнаружил, что в этих публикациях не было главного – точности, и, хотя их авторы ссылались на очень солидные источники, данные, которые они приводили, были часто ошибочны или, по крайней мере, неполны в том, что касалось императорской семьи. В большинстве же своем эти публикации представляли собой собрание нелепиц и лжи.[1]
Мне было откровенно неприятно читать некоторые из них. Мое негодование не имело границ, когда я, к своему изумлению, понял, что вся эта ложь с удовольствием проглатывается читающей публикой.
Я считал своим долгом восстановить нравственный облик русских монархов, и эта обязанность требовала всей моей честности и справедливости. В своей книге я пытаюсь описать драму жизни, – драму, которую я сразу же почувствовал за внешним блеском русского двора и которую лично узнал, когда волею обстоятельств находился рядом с царской семьей. Екатеринбургская трагедия была не чем иным, как исполнением безжалостной судьбы, завершением одной из самых трогающих душу историй, которые когда-либо знал мир.
Очень мало людей знали об этой тайной печали, но с исторической точки зрения ее значимость трудно переоценить. Болезнь цесаревича отбросила тень на весь последний период правления царя Николая II, и это многое объясняет. Подспудно она явилась одной из главных причин его падения, потому что только она сделала возможным появление Распутина и привела к роковой изоляции царской семьи, которая жила в своем замкнутом мирке, полностью погрузившись в драму, которую надо было тщательно скрывать от посторонних глаз.
В этой книге я попытался вернуть Николая II и его семью к жизни. Моя цель – быть абсолютно беспристрастным и сохранить полную независимость суждений в описании событий, очевидцем которых я был. Возможно, в своем поиске правды я даю в руки их врагов лишние козыри, но я искренен. Надеюсь, что моя книга покажет их такими, какими они были, ведь в них меня привлекло не императорское величие и окружавший их блеск, но благородство ума и твердость духа, которую они продемонстрировали в этих трагических обстоятельствах.
Пьер Жильяр
Глава 1
МОИ ПЕРВЫЕ УРОКИ ПРИ ДВОРЕ (осень 1905 г.)
Осенью 1904 года я принял предложение стать учителем французского при дворе принца Сергея Лейхтенбергского.
Отец моего ученика принц Георг Лейхтенбергский был внуком Евгения де Богарне; по матери, великой княгине Марии Николаевне, дочери Николая I, он был кузеном царя Николая II.
В то время вся семья жила в небольшом поместье на берегу Черного моря. Там они провели всю зиму. Именно там их застали трагические события 1905 года, и именно там они пережили много страшных часов во время восстания на Черноморском флоте, обстрела побережья, целой череды погромов и последовавших за ними актов насилия. С самого начала Россия повернулась ко мне своей ужасной, угрожающей стороной. Но это оказалось лишь прелюдией к тем ужасам и страданиям, которые были у нее для меня в запасе.
В начале июня семья поселилась на Сергиевской даче, в Петергофе. Этот особняк принадлежал принцу. Мы только что покинули пустынный берег Южного Крыма с его пыльными кипарисами и маленькими татарскими деревушками, прилепившимися к склонам гор. Контраст между этим унылым пейзажем и великолепными видами берегов Финского залива был разителен.
Петергоф в свое время был любимой резиденцией Петра Великого. Именно там он отдыхал от тяжелых трудов, коих у него было немало, – как раз в это время строился Санкт-Петербург, город, который по его велению, как по мановению волшебной палочки, поднялся на болотах у устья Невы. Этому городу предстояло стать достойным соперником величайших столиц Европы.
Все в Петергофе напоминает о его создателе. Во-первых, это Марли, где Петр время от времени жил, – маленький домик на кусочке суши, разделяющей два великих озера. Во-вторых, это Эрмитаж, где он любил устраивать приемы для своих ближайших сподвижников; на этих приемах вино всегда лилось рекой. В-третьих, это Монплезир, здание в голландском стиле с террасой, выступающей над морем. Это была его любимая резиденция. И наконец, Большой дворец, который со всеми своими прудами и парками мог вполне соперничать с Версалем.
Все эти здания, за исключением Большого дворца, производят впечатление заброшенных, пустынных сооружений, которые вернуть к жизни могут только воспоминания о прошлом.
Царь Николай II унаследовал от предков любовь к этому великолепному месту и каждое лето привозил сюда свою семью; они жили в небольшом дворце в Александрии, который стоял в глубине парка, вдали от назойливых любопытных глаз.
Семья принца Лейхтенбергского все лето 1905 года провела в Петергофе. Между Александрией и Сергиевской дачей движение замирало только на ночь, ведь царица и принцесса Лейхтенбергская были близкими подругами. Тогда я впервые имел возможность увидеть членов императорской семьи.
Когда истек срок моего контракта, мне было предложено остаться наставником моего подопечного и одновременно давать уроки великим княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне, двум старшим дочерям царя Николая II. Я согласился и после непродолжительной поездки в Швейцарию в начале сентября вернулся в Петергоф.
В день первого урока с великими княжнами за мной заехала императорская карета, которая отвезла меня в Александрию, где жили царь и его семья. Несмотря на наличие одетого в ливрею кучера, императорский герб на дверцах кареты и на распоряжения относительно моего приезда (которые, без сомнения, были), оказалось, что попасть в резиденцию их величеств вовсе не легко. Меня остановили у парковых ворот и только после продолжительных выяснений личности и цели визита пропустили внутрь. Повернув за угол, я довольно скоро увидел два небольших кирпичных здания, соединенные крытым переходом. Если бы карета не остановилась, мне бы и в голову не пришло, что я уже добрался до пункта назначения.
Меня провели в небольшую комнату на втором этаже, убранную в сдержанном английском стиле. Дверь отворилась, и в комнату вошла царица, держа за руки дочерей, Ольгу и Татьяну. Любезно поприветствовав меня, она села за стол и предложила мне место напротив нее. Дети уселись по обоим концам стола.
В то время царица была еще очень красивой женщиной. Она была высока, стройна, а осанка ее поражала благородством и достоинством. Но все это отходило на второй план, стоило вам взглянуть ей в глаза – эти говорящие серо-голубые глаза, в которых отражались все эмоции ее чувствительной души.
В то время Ольге, старшей из великих княжон, было десять лет. У нее были светлые волосы, блестящие шаловливые глаза и слегка вытянутый нос. Она изучающе смотрела на меня, словно пыталась найти брешь в моей броне. Во всем облике этого ребенка было столько чистоты и искренности, что не полюбить ее было невозможно.
Второй дочери, Татьяне, было восемь с половиной лет. У нее были золотистые волосы. Она была более хорошенькой, чем сестра, однако производила впечатление менее открытого, искреннего и порывистого ребенка.
Урок начался. Я был поражен, если не сказать – потрясен, простотой сцены, которую представлял себе совсем иначе. Царица внимательно слушала мои объяснения и замечания. У меня было такое ощущение, что я не давал урок, а сдавал экзамен. Разница между ожидаемым и реальностью выбила меня из колеи. К тому же я почему-то считал, что мои ученицы будут лучше владеть французским, чем это оказалось на самом деле. Я подобрал упражнения, которые оказались для них сложноваты. Подготовленный мной урок оказался бесполезен, и мне пришлось импровизировать на ходу. Наконец, к моему великому облегчению, раздался бой часов, и моим мучениям пришел конец.
В течение нескольких следующих недель царица присутствовала на всех моих уроках и проявляла к ним живейший интерес. Очень часто, когда девочки уходили, мы разговаривали с ней о новейших методиках обучения иностранным языкам. Меня поражало, насколько разумны были ее доводы.
В моей памяти навсегда запечатлелся урок, который я дал дня за два или за три до подписания манифеста в октябре 1905 года, результатом которого стал созыв Думы. Царица сидела на низком стуле возле окна. Мне сразу показалось, что она чем-то озабочена. Несмотря на все усилия, ее лицо выдавало внутреннее волнение. Она старалась сосредоточиться на нашем занятии, но скоро снова погрузилась в невеселую задумчивость. Ее взгляд снова стал отрешенным.
Как правило, когда заканчивался урок, я закрывал книгу и ждал, когда царица поднимется и тем самым разрешит мне уйти. На этот же раз, несмотря на воцарившееся молчание, царица не пошевелилась и продолжала сидеть, погруженная в свои мысли. Минуты шли, дети начали ерзать и переговариваться. Я снова открыл книгу и начал читать. Только через четверть часа, когда одна из великих княжон подошла к матери, та вышла из оцепенения.
Через несколько месяцев царица поручила одной из своих фрейлин, княжне Оболенской, заменить ее на моих уроках. Тем самым она положила конец испытанию, которому так долго меня подвергала. Должен признаться, это было для меня большим облегчением. В присутствии княжны Оболенской я чувствовал себя гораздо свободнее, к тому же она охотно помогала мне. И все же эти первые месяцы запомнились мне живейшим интересом, который царица проявляла к образованию и воспитанию детей. Вместо холодной, высокомерной императрицы, о которой я так много слышал, я был удивлен, увидев женщину, со всей серьезностью относящуюся к своим материнским обязанностям.
Тогда же я научился по некоторым признакам понимать, что сдержанность, которую очень многие принимали за высокомерие и из-за которой она нажила себе столько врагов, была результатом природной робости, маской, открывающей ее чувствительную душу.
Я приведу только один пример, наглядно иллюстрирующий тот интерес, который проявляла царица к воспитанию своих детей, и важность, которую она придавала уважительному отношению детей к их учителям. Когда она присутствовала на моих уроках, входя в комнату, я всегда видел учебники и тетради, аккуратно сложенные и приготовленные для моих учениц, так что мне ни разу не приходилось ждать ни минуты. И позже все осталось точно так же. Со временем к моим первым ученицам Ольге и Татьяне присоединились Мария (в 1907 году) и Анастасия (в 1909 году), когда им исполнилось по девять лет.
Здоровье царицы, уже подорванное беспрестанной тревогой за жизнь цесаревича, мешало ей пристально, как раньше, следить за образованием дочерей. В то время я не понимал, что кроется за ее внешним безразличием, и был склонен осуждать ее за это, но скоро понял, как глубоко заблуждался.
В 1909 году я перестал быть наставником принца Сергея Лейхтенбергского. Это позволило мне проводить больше времени при дворе.
Глава 2
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. ПОЕЗДКИ В КРЫМ (осень 1911 г. – весна 1912 г.) И СПАЛУ (осень 1912 г.)
Царская семья обычно проводила зиму в Царском Селе, прелестном маленьком городке в 30 милях к югу от Петергофа. Он расположен на возвышенности, на самом верху которой стоит Большой дворец, любимая резиденция Екатерины II. Недалеко от него находится гораздо более скромное здание, Александровский дворец, наполовину скрытый деревьями парка, изобилующего небольшими искусственными прудами. Царь Николай II сделал его одной из своих постоянных резиденций после трагических событий января 1905 года.
Царь и царица занимали первый этаж одного из крыльев дворца, а дети жили на втором. В центральном корпусе располагались кабинеты, а во втором крыле жили отдельные члены свиты.
Именно там я впервые увидел цесаревича Алексея Николаевича, которому тогда было полтора года от роду. Вот как это произошло. В тот день я, как всегда, отправился в Александровский дворец, куда обязанности призывали меня несколько раз в неделю. Я как раз заканчивал урок с Ольгой Николаевной, когда в комнату вошла царица с сыном и наследником на руках. Она подошла к нам, очевидно желая показать того члена семьи, с которым я еще не был знаком. Я видел, что ее переполняла радость матери, самое заветное желание которой наконец исполнилось. Она была горда и счастлива. Цесаревич был прелестным ребенком – с милыми кудряшками и огромными серо-голубыми глазами, обрамленными густыми, загнутыми ресницами. У него был вид здорового, цветущего ребенка, а когда он улыбался, на пухлых щечках появлялись очаровательные ямочки. Когда я подошел, в его глазах появилось испуганное выражение, и мне не сразу удалось уговорить его протянуть мне свою крошечную ручку.
В этот момент я увидел, как царица судорожно прижала к себе малыша, как мать, которая, как все матери, боится за жизнь своего ребенка. Но у нее это движение выдало тайное дурное предчувствие. Оно было столь явным, что не могло ускользнуть от моего внимания. Очень скоро я понял его причину.
В последующие годы у меня было много возможностей видеть Алексея Николаевича, который часто убегал от своего денщика и врывался в комнату сестер. Правда, его довольно скоро уводили оттуда. Но иногда эти его «набеги» вдруг прекращались, и я его не видел довольно продолжительное время. В такие периоды во дворце поселялись тревога и уныние. У моих учениц это проявлялось в глубокой печали, которую они тщетно пытались скрыть. Когда я спрашивал, в чем дело, они уклончиво отвечали, что Алексею Николаевичу нездоровится. Из других источников я знал, что он подвержен некоей болезни, о характере которой мне никто ничего не говорил.
Как я уже говорил, когда в 1909 году я был освобожден от обязанностей наставника принца Сергея Лейхтенбергского, я смог уделять больше внимания великим княжнам. Я жил в Санкт-Петербурге и приезжал в Царское Село пять раз в неделю. Хотя число уроков, которые я давал, значительно увеличилось, успехи моих учениц были не такими, как мне хотелось бы. Дело в том, что царская семья несколько месяцев подряд проводила в Крыму. Я очень жалел, что у них не было гувернантки-француженки, потому что, когда они возвращались из Крыма, выяснялось, что они очень многое позабыли. Госпожа Тютчева, их русская гувернантка, несмотря на всю преданность семье и превосходное знание языков, просто не в состоянии была уследить за всем. Чтобы решить эту проблему, царица и попросила меня сопровождать семью, когда они уезжали из Царского Села на долгое время.
Впервые в таком качестве я посетил вместе с царской семьей Крым осенью 1911 года. Я жил в Ялте вместе со своим коллегой, господином Петровым, профессором русского языка, которого также попросили не прерывать занятий. Каждый день мы отправлялись в Ливадию и давали там уроки своим подопечным.
Нас вполне устраивала такая жизнь, потому что все свободное от занятий время мы были предоставлены сами себе и наслаждались красотами «русской Ривьеры». При этом, заметьте, нам не надо было соблюдать правила придворного этикета.
Весной следующего года семья снова провела несколько месяцев в Крыму. Нас с господином Петровым поселили в маленьком домике в парке в Ливадии. Мы питались вместе с несколькими офицерами и придворными. К обеденному столу их величеств были допущены только наиболее приближенные к семье и немногие гости. К вечерней трапезе не допускался никто посторонний.
Однако через несколько дней после нашего приезда императрица пожелала (как я впоследствии предположил) проявить свое уважение к тем, кому доверила образование детей, и повелела придворному камергеру пригласить нас к императорскому столу.
Я был очень тронут этим проявлением доброты и благодарен, однако совместные обеды с императорской семьей были почетной, но очень нелегкой обязанностью – по крайней мере, в самом начале. Правда, следует отметить, что в обычные дни правилам придворного этикета следовали не слишком строго.
Мои ученицы, кажется, тоже уставали от этих длительных обедов, и мы всегда были рады вернуться в нашу комнату для занятий – к урокам и простым, дружеским отношениям. Алексея Николаевича я видел редко. Он почти всегда кушал вместе с царицей, которая обычно оставалась в своих покоях.
10 июня мы вернулись в Царское Село, и вскоре после этого императорское семейство отправилось в Петербург, а оттуда – в ежегодный круиз по фьордам Финляндии на яхте «Штандарт».
В сентябре 1912 года семья отправилась в Беловежскую Пущу,[2] где они провели две недели, а затем – в Спалу,[3] где хотели пробыть подольше. Мы с Петровым присоединились к ним в конце сентября. Вскоре после этого императрица попросила меня начать заниматься и с Алексеем Николаевичем. Наш первый урок с ним состоялся 2 октября в присутствии его матери. Тогда мальчику было восемь с половиной лет. Он не знал ни слова по-французски, и сначала мне было довольно трудно заниматься и просто общаться с ним. Скоро наши занятия прервались на некоторое время, так как мальчик, который с самого начала показался мне не вполне здоровым, был вынужден остаться в постели. И я, и мой коллега были потрясены его бледностью и тем, что его носили на руках, как будто он не мог ходить.[4] Очевидно, болезнь, которой он страдал, обострилась, и его состояние ухудшилось.
Несколько дней спустя поползли слухи о том, что состояние цесаревича внушает серьезные опасения и что из Петербурга были вызваны профессора Раухфусс и Федоров. Тем не менее жизнь продолжалась, охоты следовали одна за другой; гостей было еще больше, чем всегда.
Однажды вечером великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна разыграли две небольшие сценки из «Bourgeois Gentilhomme» – зрителями были их величества, ближайшие придворные и несколько гостей. Я выполнял обязанности суфлера, спрятавшись за ширмой, которая одновременно служила кулисами. Слегка вытянув шею, я мог видеть, как царица, сидевшая в первом ряду, улыбалась и оживленно разговаривала с соседями.
Когда представление закончилось, я вышел из боковой двери и оказался в коридоре прямо напротив комнаты Алексея Николаевича, откуда донесся стон. Неожиданно я заметил, что царица вскочила и побежала к комнате цесаревича. Я отшатнулся, давая ей пройти, но она, кажется, даже не заметила моего присутствия. У нее был отсутствующий вид – она явно была охвачена паникой. Я вернулся в столовую. Там все были оживлены и веселы. Лакеи в ливреях разносили гостям легкое угощение. Все смеялись и шутили. Вечер был в полном разгаре.
Через несколько минут вернулась царица. Она вновь надела на себя маску счастливой и беззаботной матери и заставила себя улыбаться собравшимся. Но я заметил, что император, по-прежнему участвовавший в общей беседе, занял позицию, с которой можно было наблюдать за дверью. И еще я увидел, какой отчаянный взгляд бросила ему царица, войдя в комнату. Час спустя я вернулся к себе в комнату, глубоко опечаленный всем виденным, – я вдруг понял всю трагедию этой двойной жизни.
Тем не менее, хотя состояние больного ухудшалось, жизнь в целом не претерпела внешних изменений. Единственное – мы все реже видели императрицу. Что касается императора, то ему удавалось скрывать свою тревогу, и он продолжал участвовать в охотах, а на обеды по вечерам по-прежнему собирались многочисленные гости.
17 октября из Санкт-Петербурга наконец прибыл профессор Федоров. Вечером мне удалось лишь мельком увидеть его. Он выглядел очень озабоченным. Назавтра был день ангела Алексея Николаевича. По этому случаю была проведена церковная служба, но более никаких праздничных мероприятий не планировалось. Все без исключения следовали примеру их величеств и всеми силами пытались скрыть свою обеспокоенность и даже тревогу.
19 октября у больного резко поднялась температура. Во время обеда императрица послала за профессором Федоровым. 20 октября Алексею Николаевичу стало еще хуже. Однако на обеде присутствовало несколько гостей. На следующий день граф Фредерикс попросил у императора разрешения опубликовать бюллетень о состоянии здоровья наследника престола. В тот же день первый бюллетень был отправлен в Санкт-Петербург.
Таким образом, потребовалось вмешательство высшего сановника двора, чтобы было решено признать серьезность положения Алексея Николаевича.
Почему царь и царица подвергли себя этой мучительной процедуре? Почему они заставляли себя появляться среди гостей с улыбками на лице, в то время как их единственным желанием было неотлучно находиться рядом со своим тяжелобольным сыном? Причина тому была проста: они не хотели, чтобы мир узнал о природе болезни наследника, и считали это, как я уже смог убедиться, государственной тайной.
Утром 22 октября у цесаревича температура поднялась до 40 градусов. Однако к полудню боли постепенно уменьшились, и доктора смогли приступить к более тщательному обследованию больного, который ранее категорически отказывался от этого под предлогом невыносимых страданий.
В три часа пополудни в лесу был отслужен церковный молебен. На нем присутствовали крестьяне из соседних областей.
Начиная с предыдущего дня дважды в день возносились молитвы за здоровье наследника престола. Поскольку в Спале не было церкви, в парке вскоре после нашего приезда разбили палатку с переносным алтарем. Там днем и ночью нес службу священник.
Через несколько дней, в течение которых нас всех мучили дурные предчувствия, наступил кризис, после чего здоровье цесаревича постепенно пошло на поправку. Это был очень долгий и медленный процесс. Однако мы чувствовали, что повод для беспокойства не исчез, хотя перемены к лучшему были налицо. Поскольку состояние больного требовало постоянного наблюдения врачей, профессор Федоров послал за доктором Деревенько.[5] С тех пор он неотлучно находился при цесаревиче. В это время в газетах очень много писали о болезни юного наследника, причем теории выдвигались самые невероятные. Я лично узнал правду несколько позже – из уст самого доктора Деревенько. Данный кризис был вызван падением Алексея Николаевича в Беловежской Пуще. Пытаясь выйти из лодки, он ударился о ее борт левым бедром, что вызвало обильное внутреннее кровотечение. Он уже поправлялся, когда неосторожное поведение в Спале внезапно осложнило ситуацию. В паху образовалась опухоль, которая чуть не спровоцировала серьезную инфекцию.
16 ноября уже можно было думать о том, чтобы с величайшей осторожностью, но без риска для жизни перевести ребенка из Спалы в Царское Село. Там императорская семья и провела всю зиму.
Состояние Алексея Николаевича требовало постоянного врачебного наблюдения. После болезни в Спале у него временно атрофировались нервы левой ноги, из-за чего он ее не мог самостоятельно вытянуть. Был необходим массаж и ортопедические упражнения, и со временем все это позволило вернуть ноге былую гибкость и подвижность.
Не стоит даже и говорить, что при этих обстоятельствах я и думать не мог о возобновлении занятий с цесаревичем. Так продолжалось до лета 1913 года.
Обычно каждое лето я ездил в Швейцарию. Но в тот год императрица сообщила мне перед отъездом, что по возвращении я стану наставником Алексея Николаевича. Известие породило во мне смешанное чувство радости и беспокойства. Я был горд, что мне оказали столь высокое доверие, но, честно говоря, побаивался сопряженной с ним ответственности. Я чувствовал, что не имею морального права отказываться от столь почетной и трудной задачи, поскольку при данных обстоятельствах я мог воздействовать (хотя бы немного) на интеллектуальное развитие мальчика, который в один прекрасный день станет правителем одного из мощнейших государств Европы.
Глава 3
Я ПРИСТУПАЮ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ НАСТАВНИКА. БОЛЕЗНЬ ЦЕСАРЕВИЧА (осень 1913 г.)
Я вернулся в Петербург в конце августа. Императорская семья была в это время в Крыму. Я получил соответствующие инструкции от управляющего императорским двором и отправился в Ливадию, куда прибыл 3 сентября. Когда я увидел Алексея Николаевича, он был очень бледен и худ. Его состояние все еще оставляло желать много лучшего. Он принимал горячие грязевые ванны, которые врачи прописали ему и которые считал очень утомительными.
Естественно, я ждал вызова императрицы, желая получить лично от нее все указания и пожелания относительно моей работы. Однако на обедах она не присутствовала, да и вообще ее не было видно. Через Татьяну Николаевну она лишь проинформировала меня, что, пока продолжается курс лечения, о регулярных занятиях с Алексеем Николаевичем не может быть и речи. Она также хотела, чтобы мальчик привык ко мне, поэтому просила меня сопровождать его на прогулках и вообще проводить с ним как можно больше времени.
После этого у меня состоялся длительный разговор с доктором Деревенько. Он сообщил, что наследник страдает гемофилией – наследственным заболеванием, которое передается из поколения в поколение по женской линии, но только мальчикам. Он также сказал мне, что малейшая царапина может привести к смерти мальчика, поскольку его кровь не сворачивается, как у нормальных людей. Более того, стенки его вен и артерий столь тонки, что любой удар может спровоцировать их разрыв и вызвать обильное кровотечение.
Вот такой ужасной болезнью страдал Алексей Николаевич. Его жизнь была под постоянной угрозой. Падение, носовое кровотечение, простой порез – пустяки для обычного ребенка – могли закончиться для него самым фатальным образом. Все, что можно было сделать в этой ситуации, – это неусыпно держать его под присмотром, особенно в раннем детстве,[6] и по возможности не допускать никаких происшествий или несчастных случаев. Именно поэтому по совету докторов к нему были приставлены бывшие матросы Деревенко и Нагорный в качестве личного слуги и телохранителя соответственно. Они по очереди неотлучно находились при нем.
Мои первые контакты с мальчиком прошли не очень-то легко. Я должен был говорить с ним только по-русски. К тому же мое положение было весьма неопределенным: я не имел никаких прав и соответственно – никаких возможностей контролировать его.
Как я уже сказал, сначала я был растерян и разочарован тем, что не имел никакой поддержки от императрицы. Прошел целый месяц, прежде чем я получил от нее соответствующие указания. У меня было такое ощущение, что она не хотела вставать между мной и сыном. Это во многом осложняло мою задачу, но с другой стороны, в этом, возможно, было и некоторое преимущество: освоившись в новой должности, я стал чувствовать себя свободнее. В то же время у меня бывали моменты отчаяния, когда я совершенно не верил в успех и даже был готов отказаться от возложенной на меня миссии.
К счастью, в докторе Деревенько я нашел мудрого советчика, чья помощь была просто неоценимой. Он убедительно просил меня проявлять терпение и говорил, что из-за постоянной опасности для жизни мальчика и религиозного фатализма, который развился у императрицы, она полностью положилась на волю случая и предпочитала не вмешиваться в ход событий, полагая, что это лишь причинит ребенку лишние страдания, если уж ему все равно суждено умереть. Она не считала возможным уговаривать его принять меня.
Конечно, я и сам понимал, что обстоятельства складываются не лучшим образом, но все равно лелеял надежду, что когда-нибудь здоровье моего подопечного улучшится.
Серьезная болезнь, от которой цесаревич едва оправился, сказалась на его состоянии: он был очень слаб и раздражителен. В это время он не терпел замечаний и исправлений. Он вообще не привык к дисциплине. В его глазах я был человеком, назначенным, чтобы требовать от него работы и внимания. Моей задачей было приучать его к порядку и послушанию. К целой толпе прислуги и людей, присматривающих за ним, от которых он спасался бездельем, добавился новый вид контроля, лишавший его и этого последнего убежища. Он понимал это скорее интуитивно, чем осознанно. Я ощущал исходившую от него молчаливую враждебность, которая иногда принимала форму открытого противостояния.
На мне лежал тяжкий груз ответственности, потому что при всем старании исключить возможность несчастного случая не удавалось. В первый же месяц таких инцидентов было три.
Со временем я почувствовал, что мой авторитет в его глазах растет. Царственный ученик все чаще стал доверять мне свои сокровенные мысли, и это давало надежду, что со временем наши отношения перерастут в дружеские.
Чем больше он открывал мне свою душу, тем лучше я понимал его характер и скоро пришел к убеждению, что было бы крайне несправедливо отказывать в праве на надежду ребенку, обладающему столь редкими качествами.
В то время Алексею Николаевичу было девять с половиной лет, и для своего возраста он был довольно высок. У него было удлиненное лицо с правильными чертами, золотистые с медным отливом волосы и большие, как у матери, серо-голубые глаза. Он обожал жизнь и радовался ей, когда это было возможно, и был жизнерадостным, подвижным ребенком. Вкусы его не отличались изысканностью, и он не получал ложного удовольствия от того, что был наследником престола. Он вообще об этом не думал, а самым большим его удовольствием было играть с сыновьями матроса Деревенко (оба они были моложе его).
У него был острый и пытливый ум. Иногда он удивлял меня своими совсем не детскими вопросами. Мне не составляло труда поверить, что те, кто должен был по долгу службы приучать его к дисциплине, подпадали под его обаяние и не могли противиться его желаниям. Под маской маленького капризного существа я обнаружил очень доброго, чувствительного к страданиям других и нежного ребенка. И это не удивляло меня – ведь он сам знал, что такое страдание. Когда я убедился в этом, то преисполнился надеждой на будущее. И все же моя задача была бы во много раз легче, если бы не окружение цесаревича.
Как я уже говорил, у меня сложились отличные отношения с доктором Деревенько. Однако по одному вопросу наши точки зрения не совпадали. Я считал, что постоянное присутствие матроса Деревенко и его помощника Нагорного вредит ребенку. Любое вмешательство извне в ход событий, когда ребенку могла угрожать опасность, как мне казалось, мешало воспитанию у цесаревича силы воли и наблюдательности. Сколько он (возможно) приобретал в смысле безопасности, столько же он мог потерять в реальной дисциплине. Я полагал, что было бы лучше дать ему больше свободы и приучить искать в себе самом необходимые силы, чтобы сдерживать собственные порывы или необдуманные действия.
К тому же всякого рода происшествия по-прежнему случались. Было просто невозможно оградить и защитить его от всего на свете. Чем строже мальчика контролировали и опекали, тем больше раздражения это вызывало и тем более унизительным ему казалось. Соответственно, возрастал риск, что ребенок научится лгать и изворачиваться, чтобы ускользать от всевидящих стражей.
Это был верный путь превратить физически слабого ребенка в абсолютно бесхарактерное создание, не умеющее контролировать свои поступки и не имеющее нравственного стержня, без которого так трудно пройти жизненный путь.
Я говорил об этом с доктором Деревенько, но он до того боялся внезапного обострения болезни и так остро ощущал груз ответственности, лежавший на нем как на враче, что я никоим образом не мог убедить его принять мою точку зрения.
Окончательное решение вопроса оставалось за родителями: только они могли принять решение, которое могло иметь для ребенка самые серьезные последствия. К моему изумлению, они целиком и полностью согласились со мной и сказали, что готовы взять на себя всю ответственность за риски этого эксперимента. Без сомнения, они прекрасно понимали, какой вред наносит ребенку существующая система, и, любя его до самозабвения, пошли на риск, чтобы не позволить ему превратиться в бесхарактерного человека, не имеющего душевной твердости.
Сам Алексей Николаевич был от этого решения в полном восторге. Общаясь со своими ровесниками, он и без того уже страдал от неусыпной опеки и контроля. Он клятвенно пообещал мне оправдать оказанное ему доверие.
Тем не менее, хотя я был уверен в правильности своей точки зрения, в тот момент, когда его родители дали свое согласие на эксперимент, меня обуял страх. Казалось, я предчувствовал, что со всеми нами произойдет…
Сначала все шло хорошо, и я уже почувствовал себя немного свободнее, когда вдруг случилось то, чего я боялся больше всего. Цесаревич находился в комнате для занятий. Он стоял на стуле и вдруг пошатнулся и упал, ударившись правым коленом об угол какого-то предмета мебели. На следующий день он не смог ходить. Еще через день подкожное кровотечение усилилось, и опухоль, образовавшаяся под коленом, распространилась на всю ногу. Под давлением тока крови кожа огрубела, что вызвало дергающие боли, усиливавшиеся с каждым часом.
Я был в ужасе, но ни царь, ни царица ни в чем не упрекали меня. Напротив, они, казалось, хотели сделать все возможное, чтобы помешать мне отказаться от задачи, которую болезнь моего ученика сделала столь опасной. Как будто желая своим примером заставить меня взглянуть в лицо неизбежному и сделать меня своим союзником в борьбе, которую они так долго вели, они делились своими тревогами, и делали это с трогающей сердце добротой.
С самого начала приступа болезни императрица находилась у постели сына. Она ухаживала за ним, окружая его нежной заботой и любовью и пытаясь по возможности облегчить его страдания. Император навещал сына каждую свободную минуту. Он пытался успокоить и развеселить мальчика, но боль была сильнее, чем ласки матери или рассказы отца, и Алексей снова начинал стонать и плакать. То и дело открывалась дверь, и в комнату на цыпочках входила одна из великих княжон и целовала младшего брата, наполняя комнату атмосферой свежести и здоровья. На мгновение мальчик раскрывал огромные серые глаза, обведенные темными кругами, и почти сразу же снова закрывал их.
Однажды я наблюдал мать у изголовья больного. Он провел очень беспокойную ночь. Доктор Деревенько нервничал, так как кровотечение все не останавливалось, а температура поднималась. Воспаление распространилось дальше, а боли усилились. Цесаревич жалобно стонал. Его голова покоилась на руке матери, а мертвенно-бледное лицо изменилось до неузнаваемости. Временами он переставал стонать и повторял одно слово: «Мама». В этом слове было выражено все его страдание и отчаяние. Мать целовала его лоб, волосы и глаза, как будто прикосновения ее губ могли облегчить страдания и удержать жизнь, которая покидала его. Подумайте только о мучениях этой матери, бессильной свидетельницы страданий своего сына, – матери, которая знала, что именно она является их причиной, что именно она «наградила» его болезнью, с которой не может справиться современная наука. Теперь только я понял темную трагедию ее жизни. Как легко теперь восстановить этапы этого долгого испытания.