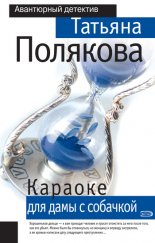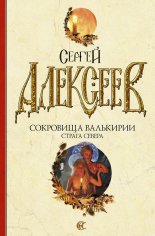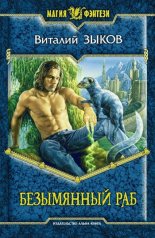Ричард Длинные Руки – паладин Господа Орловский Гай
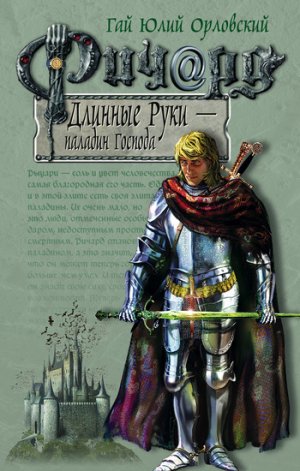
Я засмотрелся на скульптурную группу из белого мрамора, массивную, в два человеческих роста, под противоположной стеной. Там женщина с ребенком на руках, худой мужичок со сложенными ладонями, а за их спинами огромный человек с высоким лбом и бесконечно мудрыми глазами – он впятеро крупнее той пары, видны только голова и плечи, но все внимание его глазам. Скульптору удалось передать его нечеловеческую мощь, духовную красоту и зрелость, что превосходит все человеческое понимание. Я смотрел в его глаза, и мне казалось, что я вижу в них глубокую печаль и сочувствие: он видит всех, понимает всех, сочувствует и молча говорит: крепитесь. Победа придет!
– Это привезли из руин сожженной столицы в Кельтулле, – сказал Ланселот вполголоса. – Говорят, в саму Кельтуллу привезли вообще из каких-то руин древнего города. Все было разрушено, но это… дьявольские силы не посмели! Это вот Богоматерь с младенцем Иисусом на руках, это ее муж плотник Иосиф, а над ними сам Господь Бог…
Он благочестиво перекрестился. В зал входили рыцари короля Конрада, становились вдоль стен, высокие, крупные телами – король Конрад не очень-то считается с родовитостью, у него больше ценятся те, у кого в руках сила, а в голове – мозги.
Сверху с яруса загремели трубы. Вошел церемониймейстер, его жезл, больше похожий на посох, ударил в мраморную плиту пола с грохотом тарана, бьющего в запертые ворота. Все вздрогнули, напряглись, когда он провозгласил трубным голосом, что в один миг перекрыл все шумы:
– Его Величество Конрад Блистательный, Непобедимый и Победоносный, властелин земель…
Я некоторое время слушал титулы, там привычно перечислялись все территории, что принадлежали по праву, не по праву, были получены в дар, захвачены, куплены, отняты, отторгнуты, в это время двери распахнулись, король Конрад не вошел, а влетел, не дожидаясь, когда через зал проползет впереди него блистательный титул с длиннющим, как у морского дракона, хвостом.
Мне показалось, что он стал еще стремительнее, злее, двигался нервозно, а в глазах мелькало бешенство загнанного зверя. Рыцари за спинкой трона вытянулись в струнку. Когда он взбежал по ступенькам и почти прыгнул на сиденье, вошел грузный монах, встал слева от трона.
Ланселот почтительно поклонился, но преклонять колено перед чужим королем не стал.
– Ваше Величество!.. Король Шарлегайл шлет вам уверения в своем совершеннейшем почтении и восторге вашей мудростью, вашей проницательностью… это не говоря уже о вашем замечательном воинском таланте стратега, полководца!
Король Конрад сказал яростно:
– Мудростью? Проницательностью?.. Я этому ублюдку Арнольду никогда не прощу!.. Он меня опозорил перед соседними королями, перед простым людом, перед войсками!.. Меня до сих пор душат кошмары, когда снится та страшная площадь, заполненная народом!.. Как они смотрели на него, как смотрели… И что мне оставалось делать? Позориться еще больше?.. Прослыть королем-убийцей? Убийцей праведника?.. Уже и так меня втоптали в грязь тысячами глаз…
Он вскочил, в волнении и бешенстве забегал по устланному красным кумачом пятачку перед троном. Волосы растрепались и выбились из-под короны. Уже не прежний бешеный вепрь, что готов разнести все вокруг, сейчас Конрад то и дело бросал по сторонам тревожные взгляды.
Ланселот замялся. Конрад нарушил правила приема, смял протокол приема, вообще это слишком непредсказуемый король, многое делает не так, неверно, не по правилам…
Пауза затягивалась, я сделал шажок вперед и сказал, принимая огонь на себя:
– Ваше Величество… Ваше Величество!
– И кто втоптал! – воскликнул Конрад в бешенстве. – Кто втоптал?.. Те люди, которые до этого считали, что он не стал воевать из трусости!.. Как быстро все переменилось!.. Да черт с ними, теми людьми, хотя обидно, черт возьми!.. Я же не стал их облагать налогом, хотя моя армия порядком поизносилась за этот стремительный марш через горы. Треть конницы погибла в горных обвалах, мы ж спешили как можно скорее обрушиться им на головы… Кто ж знал, что никто и не собирается защищаться? Я всю армию заново одел и вооружил из своей казны, из Конрабурга!.. И вот эти неблагодарные… Нет, в самом деле, черт с ними!.. Но моя армия? Я же видел, как они смотрели на этого ублюдка с веревкой на шее!.. Уже и так шептались, что я победой обязан исключительной трусости Арнольда, моей заслуги нет… а теперь еще и увидели, что Арнольд совсем не трус!
Ланселот открывал и закрывал рот. Прием послов явно скомкан, все полетело к черту. Я сказал громче:
– Ваше Величество, а вы не подумали, что королю Арнольду сейчас еще хреновее, чем вам?
Он в бешенстве развернулся в мою сторону всем корпусом.
– Как? – гаркнул он. – Как ему может быть хреновее… какое хорошее свежее слово! Он сейчас упивается поклонением своих придворных, преклонением всего народа!.. У них никогда еще не было такого короля, чтобы вот так за них, быдло сраное, отдавал жизнь… А теперь есть!
Я покосился на Ланселота, бледное лицо первого рыцаря пошло розовыми пятнами, но все еще не находит слов, дабы восстановить ровное течение дипломатической процедуры приема послов, и я сказал торопливо:
– …но вы ее, его жизнь, не взяли! И тем самым не дали королю Арнольду обрести сан святого мученика, который куда выше, чем сан короля… Вы ему поднасрали куда больше, Ваше Величество, чем он вам. Да-да, он там бесится, на стены бросается… наверняка. Потому что умереть красиво вы не дали, а вот жить так же красиво он не сможет.
Он кипел от ярости, но сдержался, прорычал люто:
– Почему? Что ему помешает?
– Его слава, – объяснил я. – Он сейчас святой, вы абсолютно правы, Ваше Победоносное Величество. Ну а дальше? К святому и требования повыше, чем к королю. Одно дело – совершить подвиг вот так красиво, на рывке, на глазах у всех, другое – жить… подвижнически. Вы думаете, сможет? Голову кладу на плаху – не сможет. Могу даже свою. И никто не смог бы. Даже Иисус Христос не смог бы, останься он жив, а уж король Арнольд совсем не Иисус.
Священник, пугливо молчавший подле трона, сказал предостерегающе:
– Кто ты, смеющий так богохульствовать про Иисуса, сына Божьего?
Я покачал головой:
– А что бы Иисус сказал о кострах, на которых сжигаете несчастных, которых он не давал побивать даже камнями?.. Что он сказал бы о… Ладно, не будем увязать в теологии. Ваше Непобедимое Величество, уверяю: это вы одержали победу!.. О вас говорят как о справедливом короле, который поступил правильно… это мы с вами понимаем, что вас просто приперли к стенке, как медведя рогатиной, но народу удалось засадить по самые… словом, другую версию!.. А вот Арнольду сейчас надо играть роль святого и дальше. А такое ни Арнольд, ни кто другой не потянет.
Священник кряхтел, явно хотел поспорить, но видел, как король понемногу начинает оживать, и умолк, забился за трон подальше и поглубже. Главное, мне удалось слегка развеять тоску короля, дать ему кончик веревки, по которой можно выбраться на божий свет со дна чернейшей и глубочайшей депрессии.
Конрад еще рычал в бешенстве, но в глазах появилась надежда. Он взглянул на меня почти с мольбой, не брешу ли, как попова собака? Только не бреши… или бреши, но не признавайся, что брешешь.
– Не… потянет?
Я нагло улыбнулся.
– А что, по-вашему, кто-то на земле потянет?.. Если честно? Так что для Арнольда сейчас начинается падение. Долгое падение!
– Гм… – прорычал он в затруднении. – Если бы!
– Правда, Ваше Величество, – заверил я. – Ну, представьте себе, если бы вы вдруг предстали перед народом святым… как бы вам… э-э… дальше? Денек можно походить гоголем, в павлиньих перьях, а другой, третий?.. Арнольду теперь такое всю оставшуюся жизнь.
Конрад призадумался, в лице проступил страх. Он зябко передернул плечами.
– Святым?.. Нет, ни за вечное спасение!.. Лучше вот таким… грешным, но не так уж чтоб и совсем… Но Арнольду, собаке, так и надо!.. Пусть, гад, помучается с белыми крыльями за спиной.
– А вы, – сказал я настойчиво, – выглядите в глазах народа… как Алемандрии, так и Галли, а также всех воинов, – не важно, какого королевства, – как могучий и свирепый король, который одинаково наделен всеми рыцарскими доблестями!.. Вы знаете, какие слова труднее всего выговорить мужчине?
Священник и король задумались. Я видел, что и все рыцари заскрипели мозгами, думают. Даже Ланселот и вся наша свита впали в тяжелое раздумье.
Конрад нетерпеливо буркнул:
– А что тут думать?.. «Ты сильнее меня» – вот самые гадкие слова..
– Нет, Ваше Величество. Мужчине труднее всего сказать: «Я был не прав». На какие только ухищрения ни идут, только бы не сказать их!.. А вам даже не пришлось их говорить. Вы захватили королевство Арнольда, а потом вернули по своей королевской воле. Никто у вас не отнял, вернули сами. Теперь же вам просто стоит чуть-чуть закрепить свой имидж… то есть образ в глазах своих людей и вообще всего мира… Для этого, например, самое простое – отправить хотя бы тысячу воинов в крепость Зорр… тысячи, конечно, мало, но даже такой поступок сразу возвысит вас в глазах христианского мира. Или выставить на границах своего королевства заслоны против проникновения агентов Тьмы…
Священник торопливо забормотал молитву, глаза испуганно и с великой надеждой следили за мной. Король призадумался, прорычал:
– Да это нетрудно… Что для меня тысяча!.. Могу и пять, да надо ли?
– Вообще-то, – сказал я осторожно, – король Арнольд отправил в Зорр пять тысяч воинов.
Священник сказал суетливой скороговоркой:
– Благое дело сотворил, благое…
Конрад рыкнул, походил взад-вперед перед троном.
– Но я тогда и сам превращусь в иисусика!.. Меня заплюют мои же рыцари. Скажут, что вот-вот отрастут крылья, как у большого жирного гуся. И над головой уже нимб… хотя я знаю, что это просто рога срослись.
Я сказал проникновенно:
– Ваше Величество!.. Нет в Зорре иисусиков, нет. Есть нормальные здоровые рыцари. Что такое рыцари? Это крепкие мужчины с отвагой в сердце и…
Пальцы мои тем временем сняли с пояса молот. Конрад насторожился, глаза сузились, рука потянулась к рукояти меча. Я с силой метнул, держа взглядом скульптурную группу из руин Кельтуллы. Молот пронесся с диким воем, мраморная статуя треснула, взорвалась тысячью мельчайших осколков. Они еще летели через зал, а молот, описав красивую дугу, смачно шлепнулся в мою подставленную ладонь.
Я улыбнулся Конраду, что не сводил с меня глаз, повесил молот на пояс и учтиво поклонился.
– Как видите, Ваше Величество… А я ведь воин Зорра, христианского королевства.
В зале стояла потрясенная тишина. Рыцари застыли с выдернутыми из ножен мечами. Конрад кивком велел спрятать железо в ножны, посмотрел на меня, насупив брови:
– Что за чертов молот у тебя, рыцарь?
– Языческий, – ответил я. – Который, вон посмотрите, ваш священник не одобряет.
Священник, белый от ужаса, крестился, бормотал молитвы, руки мелькали со скоростью ветряной мельницы во время урагана. Он упал на колени и звучно бился лбом о мраморный пол, усеянный останками мраморной композиции.
– Да-а, – сказал Конрад с удовольствием. – Да ты еще и богохульник?.. Тебя ж за эту статую церковь проклянет!.. И на костер, на костер… Еще и танцы вокруг костра устроит.
– Наша, – сказал я и выдвинул по-ланселотьи нижнюю челюсть, – что в Зорре, не проклянет.
Он все еще колебался, раздумывал. В зале было тихо, Конрад был известен как непредсказуемый король, который решения принимает быстро, никогда не советуется с окружением… и почти никогда не ошибается.
– Ну, – проговорил он медленно, все еще раздумывая и подбирая слова, – если святоши Зорра такой молот не отобрали и не бросили в огонь… Ладно, на том и порешим! Я пришлю вам пять тысяч воинов!.. Нет, пять прислал Арнольд, я пришлю семь. Мог бы и тысячу, у меня один стоит десяти Арнольдовых, но… пусть будет семь.
Глава 3
Назад то неслись во весь опор, то ползли, как черепахи. Ланселот оглядывался, словно за ним мчался табун чертей с вилами. Но за нами двигалась прекрасно обученная конница, которой нужно давать время на отдых. Земля грохотала и стонала, когда все семь тысяч тяжеловооруженных всадников – хвастливый Конрад прислал сильнейших – неслись за ними следом.
В конце концов Ланселот объявил барону Генкелю, командующему этим семитысячным войском, что мы поедем вперед, чтобы организовать им достойную их славы и воинского умения встречу. Но когда мы оторвались на полмили вперед, Ланселот повернул голову в мою сторону, и я увидел, что неустрашимый рыцарь смертельно напуган.
– Как, – воскликнул он в яростной растерянности, – как ты осмелился разбить священную реликвию?..
– Как? – переспросил я. – Да молотом, как еще… А здорово брызнуло?
– Не играй словами! – сказал он металлическим голосом. – Такого кощунства… даже от тебя не ждал!
– Но результат налицо? – спросил я. – Конрад отправил в Зорр большой отряд. Что еще?
– Да что Конрад… Тебе не дорога твоя душа?
Он покачивался в седле, ровный и железный, как прежде, но лицо впервые было испуганным, а глаза вылезали из орбит. Даже нижняя челюсть стала короче, что ее хозяина нисколько не портило. С этой челюстью и страхом на морде лица он стал несколько человечнее, что ли. Но на меня бросал острые злые взгляды, что высекали искры о мои доспехи. Не будь этого железа, я бы уже истекал кровью.
– Я сумею это объяснить святой инквизиции, – ответил я. – Ну, попробую суметь.
– Да кто тебя будет спрашивать? Тебя сразу к столбу на площади! Я первым брошу факел на кучу хвороста!
– Не будем решать за святую церковь, – предложил я. – Это кощунство… это даже дьявольская гордыня – предрешать приговор святейшей инквизиции! Не так ли, сэр Ланселот?
Он задохнулся, будто его ударили бревном в живот. Я старался держать лицо каменным, по-ланселотьи, как я это называл, хотя сейчас Ланселот выглядел напуганным, как кролик под копытами боевого коня. Сам же я внутри трясся мелкой дрожью, ибо я вовсе не был уверен, что поступил правильно. Нет, я поступил правильно, но не уверен, что инквизиция это оценит так же, как оценил я…
– Главное, – сказал я, – что сам Конрад не рассвирепел, что я разбил эту статую. Этого я страшился больше всего.
– Да ему на трофеи наплевать, – отмахнулся Ланселот. – Для него важнее привезти в свою столицу, показать, похвастаться, утвердиться, чтобы все видели. А потом уже и забывает.
За нами скакали наши рыцари, прислушиваясь к каждому слову. Граф Розенберг сказал весело:
– Ричард ему место освободил в покоях!
– Верно, – поддержал другой рыцарь, великан Крон де Гарц. – Там уже тесно, новые трофеи ставить некуда.
А третий, его имени я не знал, сказал с ухмылкой:
– А я слышал, что та святая семейка его самого давно раздражала. Привез сдуру, мол, там ее очень ценили, значит – дорогая. Там дальше у него все стены в дорогих мечах, топорах, кинжалах, что выгреб из королевских спален и оружейных! Эта статуя ему только мешалась.
Через две недели появились и начали приближаться серые стены Зорра. Мы услышали рев труб, скрежет железных цепей и скрип бревен в подъемном мосту. Он опускался медленно, нехотя, а лег на край противоположного рва с таким видом, что умрет, но больше не поднимется.
На стене и на верху каменной арки над воротами стражники весело кричали. Узнали Ланселота, да и мне досталась пара выкриков, но уже от щедрот. Металлическая решетка, выкованная из толстых прутьев толщиной в мою руку, медленно поползла вверх.
Направляясь в город или в замок, любой рыцарь всегда надевает боевые доспехи. И дорога бывает опасной, да и показать себя надо во всем блеске. Парадные есть далеко не у всякого, только самые знатные и богатые могут позволить себе подобную роскошь, но празднично выглядят уже сами по себе доспехи, щит с гербом, рыцарское копье, огромный конь под боевой попоной…
Правда, въехав в городские врата, а тем более в ворота чужого замка, рыцарь-чужак обязан снять доспехи. Если забывал, ему настойчиво, очень настойчиво напоминают. В доспехах пропускают только тех, кому хозяин замка доверяет всецело, но даже он обязан снимать доспехи, если приезжает с другими, чтобы не выделяться.
Среди серого народа, в серых одеяниях из мешковин, въезд рыцарей в город всегда зрелище. И сейчас на стены лезли те, кто успел раньше, другие выбегали из домов и выстраивались вдоль проезжей части улицы.
Наши кони привычно пошли по деревянному настилу моста. Решетка поднялась, я видел только блестящие острия, похожие на наконечники копий. По спине прошли мурашки, представил, что веревка оборвется и эта решетка сорвется вниз. Весит несколько тонн, пришпилит к земле вместе к конем, как таракана. Нет, как жука в его прочном хитиновом панцире.
Как только мы ее миновали, она стремительно понеслась вниз, будто и в самом деле оборвалась веревка. Железные острия с глухим стуком глубоко вонзились в сухую утоптанную землю. А впереди выход во двор перекрывает вторая решетка. Мы очутились в тесной западне. Из ниши в каменной стене вышел священник, обошел вокруг нас со святыми дарами в руках, прочел молитву, даже окропил святой водой. Мы терпеливо ждали. Под видом возвращавшихся рыцарей в Зорр уже не раз пыталась проникнуть нечисть, а проклятые оборотники каждый день придумывают новые трюки.
Наконец священник отступил, Ланселоту поклонился, на меня смотрел со страхом и ненавистью, но смолчал, знает о решении отцов инквизиции отложить решение по моей виновности.
Решетка заскрипела, поднялась, мы выехали из тени на ярко освещенное пространство. Во дворе за наше отсутствие словно бы прибавилось людей, но чувствуется и железная рука Беольдра: телеги вдоль стен, праздношатающихся загрузили работой, рядом с булочной спешно построили еще одну, беженцы не выстраиваются в длинную очередь.
Я ехал, красиво держа копье острием вверх. Конечно, даже мне не удержать это бревно вот так в руке, но оно тупым концом стоит в особой лунке в седле, немногим выше стремени, основную тяжесть несет конь, я только придерживаю, чтобы сохраняло равновесие.
Когда понадобится, я напрягу все мышцы и положу его горизонтально, но и тогда не буду удерживать этот рельс, а прислоню к луке седла, так делают все рыцари.
Когда проезжали через площадь к замку, из домов уже высыпали горожане. На нас глазели, выкрикивали приветствия, живо пересказывали, кто мы, чем знамениты. Жар прокатился вдоль спинного хребта, я заерзал в седле, сердце застучало чаще, заныло. Глаза отыскали в толпе группу очень нарядных горожан, в середине – две женщины, мужчины вокруг, одна из них смотрит прямо на меня. Я увидел карие глаза, вздернутые брови, изумленно раскрытый рот, коралловые губы…
Она смотрела на меня неотрывно, я чуть наклонил голову. Если бы не сдерживал себя изо всех сил, я бы поклонился так низко, что свалился бы с коня к ней под ноги, чтобы видеть ее, слышать ее запах, чтобы она что-то сказала мне, лично мне… пусть даже попинала бы меня своей божественной ножкой.
Я успел только снять доспехи и рубашку, слуга лил мне на голову воду из кувшина, я остервенело смывал пот и грязь, когда в дверь постучали. Мальчишка-слуга помчался открывать, я продолжал свой непонятный для христиан ритуал, ибо до крестовых походов тут еще не дошли или же прошли мимо таких возможностей, а культуру мытья в Европу занесли только возвращающиеся с Востока рыцари.
Слуга подал полотенце, за моей спиной скрипнул стул. Там сидел монах, когда только и появился, лицо скрыто надвинутым на глаза капюшоном, словно не желает видеть непонятный, а значит, дьявольский обряд. Из длинных широких рукавов высунулись худые морщинистые пальцы.
Я бросил полотенце слуге, он послушно протянул мне рубашку. Я сказал сердито:
– Есть же чистая, дурень!
– Но эта… эта ж совсем целая…
– Дурень, – сказал я зло, – пропахла потом, не чуешь? Пусть выстирают, а мне неси чистую. Да быстрее, а то…
Он исчез, из-под капюшона послышался смешок. Я молчал, только сердце колотится быстро и пугливо. Слуга принес рубашку, я влез в нее, и только тогда дряблая рука сдвинула капюшон на плечи, словно до этого монах не желал осквернять себя видом здоровой плоти.
Отец Дитрих, один из инквизиторов, за это время не то постарел еще, не то изнуряет себя аскезой. Морщины на худом лице стали резче, сутулится, даже сидя. Седые волосы неопрятными космами лежат на плечах, лицо странно темное, словно не в церковных подземельях проводит время, а скачет на коне, подставив лицо палящему солнцу.
Его глаза следили за мной очень внимательно. Я стоял, не решаясь даже сесть, словно школьник младших классов перед строгим учителем. А то и директором школы.
– Ты можешь сесть, Дик, – сказал он, и я сразу отметил это «Дик» вместо «сын мой» или «сэр Ричард», – хотя разговор будет недолгий, ибо я просто шел мимо… в самом деле шел мимо, это не уловка.
– Спасибо, патер, – ответил я настороженно, – что заглянули…
– Заглянул, – ответил он. – Странно ты живешь… Во всем странность. Ладно, я о другом. В святейшем капитуле инквизиции уже составили свое мнение о твоем… поступке. И даже вынесли решение.
Сердце мое заколотилось, я спросил с трепетом:
– Какое?
– Однако, – сказал он, словно не слыша, – не одного меня заинтересовало… да-да, заинтересовало… Твои мотивы для нас непонятны. Чем ты руководствовался, Дик?
– Священным Писанием, – ответил я. – Или не Писанием, не помню. Но ведь где-то ж сказано: не сотвори себе кумира?.. Бог везде, а не в том камне!.. Как бы красиво и благочестиво ни изобразили Бога, но это грех идолопоклонства. Я просто уничтожил идола.
Дитрих не сводил с меня глубоко запавших глаз. В глубине зрачков проступили оранжевые огоньки, исчезли. Это слуга внес горящие свечи и пугливо исчез.
Голос инквизитора прозвучал строго, без каких-либо интонаций:
– Но тысячи людей в течение веков молились этому… изваянию. Как ты осмелился?
– Истинный храм строится в душе человека, – ответил я осторожно. – Потому дозволено будет разрушить даже неверно построенную церковь… ибо созданное руками человека не может равняться с тем, что строит сам Господь. Никто не смеет изображать Бога…
А про себя добавил, что ислам пошел еще дальше, запретив изображать даже людей и животных, вплоть до цветов, все из того же страха впасть в идолопоклонничество.
– Бог – это дух, – закончил я. – А у духа нет образа.
Дитрих помолчал, всматриваясь в меня глубоко запавшими глазами. Я чувствовал его интенсивный взгляд, но, странное дело, сейчас не было страха. Тогда, в разговоре с Ланселотом, страшился, инквизиция может с ходу на костер, но увидел Дитриха, его умное просветленное лицо и строгие глаза, и сразу ощутил себя увереннее.
Наконец Дитрих замедленно кивнул. Даже не кивнул, а чуть-чуть наклонил голову.
– И твой молот, – сказал он бесстрастно, – послужил орудием Божьего гнева, что сокрушил идола… Мы давно негодовали на ту мерзость, но у нас нет власти в чужих странах. Как, впрочем, нет и здесь. Это хорошо, Дик, что ты сделал это не из озорства, не из дьявольской гордыни, не для того, чтобы побахвалиться перед чужим королем своей мощью, а лишь смиренно преисполнившись Духом Божьим. Что я могу тебе сказать, Дик? Только что в тиши закончилось тайное заседание святейшей инквизиции…
Я ощутил холодок под сердцем. Все тело напряглось, дыхание застряло в горле. Дитрих сказал торжественно:
– Святая церковь в своей бесконечной милости… руководствуясь гуманностью и христианским смирением… с радостью в своем любящем сердце… ах да, забыл добавить, что большая часть отцов церкви полагает, что то вовсе не грех изображения Господа Бога! Просто в давние времена, еще до прихода Иисуса Христа, бедные идолопоклонники, не знавшие света истинной веры, так изображали своих богов, ныне демонов… Потом неграмотные люди решили, что это и есть древние изображения Святой Троицы… Да, так вот, возвращаясь к решению святейшей инквизиции… Решением святейшего трибунала с тебя снято… обвинение в сношениях с дьяволом или служении его воле.
– Фу, – выдохнул я с облегчением, – что ж вы тянули, отец Дитрих? Я чуть не обосрался. Конечно же, я не знаю молитв, но я… стараюсь отыдить от зла и творить благо! Как могу, конечно.
Он сказал благочестиво:
– Ты уже сотворил молитву.
– Я?
– Да. И твоя молитва дошла до Божьего слуха.
Я раскрыл рот, всмотрелся в его глаза, где появилось подобие улыбки.
– Это молотом по мрамору?.. Да грохот был такой, что могли услышать и на небе. А у Бога, думаю, слух, как у… словом, хороший слух.
– Молитва делом, – сказал он просто, – самая лучшая молитва.
– Спасибо, отец Дитрих!
Он с кряхтеньем поднялся, уже повернулся уходить, взглянул через плечо:
– Господа Бога нашего благодари за Его милосердие… Но вообще-то, Дик, я не хотел бы на твое место. Мне Бог всегда поддержка и опора, совет и утешение, в нем я нахожу понимание и прощение… но ты, не принимающий Бога, не принимающий Дьявола, ты – одинок, ты страшно одинок… А как может душа человеческая жить в черном одиночестве?
Я пошел проводить до дверей, поколебался, сказал со стыдом:
– Мне совестно, отец Дитрих, но, когда Сатана говорил со мной, больше всего мне не понравилось… что он сразу на «ты». Я уверен, что Господь Бог, если бы заговорил, обращался бы как «сэр Ричард». Как верховный сюзерен, но – на «вы». Вот просто почему-то уверен! Я понимаю, «ты» упрощает отношения, сближает и все такое, но вот не могу… это противно даже, чтоб вот так сразу… или чересчур быстро. Для «ты» надо созреть. А сразу – все равно что тащить морковку за листья, пусть быстрее вырастет!
Он взялся за ручку двери, помедлил, голос прозвучал строже:
– Сын мой даже не догадывается, насколько глубоко проник… Прародитель наш Ной дал человеку всего три запрета, но навеки отделил ими человека от скотов. Святой Моисей добавил еще семь, и человек стал ближе к Богу, а от скота дальше. Иисус Христос принес еще правила и ограничения, а отцы церкви, развивая его святое учение, воздвигают новые нравственные запреты, тем самым человека делают человечнее, а дьявола посрамляют, ибо тот жаждет человека ввергнуть в скотство. И это поспешное «ты» – тоже от дьявола! Ты этого не знал, но… ощутил. Да будет с тобой благословение церкви!
Он ушел, а я, стиснув челюсти, смотрел вслед. Может душа человеческая жить в одиночестве, может. Если оглушить, как кроля обухом меж ушей, если каждую свободную минуту заставить развлекаться и – не думать, не думать, ни в коем случае не думать!!!
Глава 4
Дверь скрипнула, в проеме появилась лохматая голова. Из-под грязных нечесаных волос на меня уставились круглые испуганные глаза.
– Уже ушел?
– Нет, – ответил я раздраженно. – Вот он сидит!
Слуга взглянул в страхе на пустой стул. Волосы начали подниматься на его дурной голове с оттопыренными ушами. Я подосадовал на свою дурацкую шуточку, уже сегодня вечером все во дворе будут знать, что у меня сидел призрачный монах, что ко мне летают голые бабы с крыльями, а из-под пола вылезает… ну, что-то вылазит.
– Изыди, – велел я. – Если опять пережаришь мясо, я тебя самого на сковородку!
Он исчез, только за дверью послышался быстро удаляющийся топот башмаков на деревянной подошве. Я вперил взор в стену, там то, за что мужчины готовы отдать полжизни, а то и жизнь: дивный меч в ножнах старинной работы, его отточенное, как острейшая бритва, лезвие рубит любые доспехи, а на нем ни единой щербинки, дальше – треугольный, с выемками вверху по краям рыцарский щит, дивная чеканка… на простом крюке мой чудесный молот, бьет подобно гранатомету, возвращается в ладонь вернее бумеранга…
А если учесть, что вон в углу на отдельной лавке доспехи Арианта, древнего героя, их не пробить никаким оружием, то я защищен едва ли не лучше всех в Зорре. Но счастливее ли я… если она приехала к какому-то сраному мужу, а я томлюсь здесь, как менджнун долбаный, изнываю, мне хреново, но что я могу сделать?
За спиной послышался легкий понимающий смешок. Рука моя метнулась к поясу, где пальцы обычно натыкаются на рукоять кинжала. Это получилось бездумно, сзади прозвучал мягкий интеллигентный смех.
Он стоял посреди комнаты, одетый просто, но, как говорят, со вкусом. Обычный такой зажиточный горожанин. Средний, самый средний из них. Живые черные, как спелые сливы, глаза наблюдали за мной с интересом.
– Раньше у вас этого жеста не было, – заметил он. – Позвольте присесть?
– Да, конечно, – сказал я. – Располагайтесь… Как говорят: будьте, как дома, но в холодильник – ни-ни. Удивлен, что вы так спокойно появляетесь в таком месте, как Зорр.
Он уже сидел в свободной непринужденной позе, забросив ногу на ногу, причем самым элегантнейшим образом, когда лодыжка одной ноги покоится на колене другой. Я вынужденно сел напротив, чтобы не давать преимущества дьяволу даже в такой мелочи.
– Да, – признался он, – Зорр – довольно неприятное место. Одни святоши, полно попов, черных ряс… Мракобесие какое-то!..
– А их аура святости не мешает?
Он покачал головой.
– Нисколько.
– Ничуточки? – спросил я, не поверив. – А я слышал, что стоит только показать крест, как исчезаете с жутким воем и… простите, неприятным запахом.
– Бред, – ответил он, – преувеличение своих сил, преуменьшение сил противника – все привычно, все всегда одинаково… Правда, я не могу оставаться, если меня не желают видеть или слышать, это закреплено в Правилах… ну а так я вообще-то вхож, как вы знаете, даже к Богу. В любое время. А там, как догадываетесь, аура помощнее, чем среди этих вонючих попов, что всю жизнь не моются.
– То аскеты не моются, – возразил я. – Да некоторые из монахов, давшие такой обет. Ладно, дело не в этом. Чем я обязан вниманием человека, который вхож в покои… даже не решаюсь назвать имя Верховного Сюзерена?
Он сдержанно улыбнулся, обронил:
– А его имя никто не знает. Но это так, к слову. Вы, помнится, высказывали мысль… желание посетить южные страны?
– Да, – согласился я и подумал, что дьявол явно слышал мой разговор с Дитрихом, ибо мгновенно перешел с фамильярного «ты» на более вежливое «вы». – Высказывал.
– И как сейчас?
– Не передумал, – ответил я твердо.
Он щелкнул пальцами, на столе появился золотой кувшин такой дивной чеканки, что у меня остановилось дыхание. Второй щелчок – возникли два старинных кубка, тоже золотые, мелкие рубины идут по ободку, зеленые камешки всажены в основание.
– Хотите вина?
Я подумал, отрицательно покачал головой.
– Нет.
– Почему? – спросил он хитро.
– Мне нужна чистая голова, – ответил я, – и ясный, по возможности, мозг.
Он сказал восхищенно:
– Прекрасный ответ!.. А я уж подумал, что сошлетесь на запрет пить с дьяволом. Ладно, тогда скажу сразу, что я кое-что придумал… Сложная такая комбинация, с вовлечением очень многих переменных… Но я единственный в этом мире гроссмейстер, которого… В детали вас посвящать не буду, скажу только, что у вас появится возможность посетить те самые южные края.
Я кивнул, мол, спасибо, но вслух поинтересовался:
– А какая вам от этого выгода?
Он улыбнулся.
– Вы правы, выгода должна быть во всем. Странно, что вы все еще не с нами. Собственно, вы уже с нами, только не признаетесь в этом… даже себе. Но по завершении этой комбинации вы это признаете. Да-да, вы скажете это вслух. Ибо сказать будет из-за чего… Кстати, вино очень легкое. От него голова никогда не болит.
Я потряс головой.
– Ни фига не понял. Что я признаю?
– Что вы с нами, – ответил он. – Это будет… заметно. Вообще я люблю, чтобы это было заметно всем. Скажем, в этом городе однажды вместо голубей взовьются прелестные такие летучие мыши!.. Почему мыши? Да просто потому, что я их люблю. А голубей не люблю. Вопреки распространенному мнению, голуби – довольно грязные животные.
– Летающие крысы, – сказал я невольно. – Да, у нас их называют именно так. За одинаковый набор болезней, что разносят с крысами вместе. Значит, когда здесь вместо голубей взовьются летучие мыши… я пойму, что в чем-то проиграл?
– Поймете раньше, – сообщил он. – Это другие поймут с появлением над Зорром летучих мышей. Я сейчас вообще предложил одно интересное пари… Нет, не с вами, намного выше, мой дорогой рыцарь, намного выше!.. На карту будет поставлена судьба самого Зорра… под каким знаменем ему быть. Естественно, я тоже кое-что поставлю на карту, но я-то знаю, что в расчетах и стратегии мне нет равных!.. Кстати, насчет летающих крыс – спасибо. Прекрасное сравнение. У вас их так зовут?.. Все больше убеждаюсь, что в вашем мире я победил давно и прочно.
Предостерегающий холодок прокатывался по моей спине, проникал во внутренности. Я чувствовал, как шевелятся волосы, руки уже покрылись гусиной кожей.
– Гроссмейстер? – переспросил я как можно более ровно. – В моем мире гроссмейстером рыцарского ордена становился обычно самый сильный рыцарь… В нашем понимании – черный рыцарь Зла. Псы-рыцари и все такое. Как у вас с этим?
Он хитро прищурился.
– Вас интересует, принимаю ли я участие лично?.. Принимаю, как видите.
– Я имею в виду…
– Понятно, на коне и с копьем наперевес?.. Вынужден разочаровать, нет. Я питаю глубочайшее отвращение к подобным… подобному. Мой статус непревзойденного стратега заставляет меня пользоваться только…
Он остановился, подыскивая слова. Я подсказал:
– Идеологией. Пропагандой. Пиаром… Здесь это называется искушением, соблазнением, совращением.
Он просиял:
– Как вы хорошо и точно подбираете слова! Пожалуй, я добавлю к своему арсеналу эти термины, суть которых смутно понимаю… Они, как я чувствую, ориентированы на умы чуть выше рангом среднего. Совращения – для черни, идеология – для рыцарского сословия. Верно? Вот видите, я готов учиться всему, у всех, что и делаю. А эти ваши рыцари свысока смотрят на все, даже читать и писать не желают учиться… Говорю вам абсолютно честно, да вы и сами это видите: я никогда ни при каких обстоятельствах не вмешиваюсь в жизнь людей, зверей и всего сущего своей силой или магией. Ах, сэр Ричард! Если бы вы знали, какое это наслаждение – заставить пусть самого мелкого и ничтожного человечка поступать по своей воле… а я двигаю народами!.. то вы бы никогда не предположили такую глупость, что я способен кого-то стукнуть палкой по голове! Нет, нет и еще раз нет. Это против моих принципов. Или нет, ведь принципов у меня нет, но это против моей натуры. Это… это…
– Микроскопом забивать гвозди, – сказал я. – Э-э… королевской короной забивать железный крюк в стену. Да, теперь понимаю.
От кубка с вином шел пряный аромат. Я машинально взял, глаза моего собеседника сперва расширились в изумлении, тут же сощурились. Он взял второй кубок, но чокаться не стали, я отпил чуть, вино приятно обожгло горло. Вкус был слегка терпкий, какой я люблю.
– В самом деле легкое, – сказал я. – Прекрасное вино.
– Вот видите, – сказал он весело, – и я что-то делаю людям приятное!
Мы улыбались друг другу, но если он держался как с потенциальным сообщником, то мне такая вежливость больше напоминала изысканную вежливость дуэлянтов.
Настал вечер, затем поздний вечер, пришла ночь, я метался по дому, как загнанный зверь. Слуги слышали мои тяжелые шаги, забились в норы, как пугливые мыши. Наконец свежий воздух охладил мое раскаленное лицо, я сообразил, что иду по улице, а эти серые громады, что мелькают по обе стороны, – это дома.
Крупная луна поднялась над крышами. Черные зловещие тучи заглатывали ее часто, тогда я шел почти наугад, но потом мне стало хватать даже редкого рассеянного света от слабой свечи, что пробивается в щель между плотно закрытыми ставнями.
Затаившись, я долго наблюдал за высоким мрачным домом, а когда уверился, что никого поблизости нет, быстро перелез высокий забор. На самом верху меня пронзил тысячами ядовитых стрел немыслимо яркий лунный свет. Я ощутил себя вытолкнутым на сцену перед тысячей ждущих глаз, поспешно свалился на ту сторону. Затрещали кусты, что-то колючее впилось в мою руку, царапнуло шею. Я затаился, как мышь в углу комнаты, по которой ходит огромный свирепый кот.
В саду затихло, мертвая тишина. Запел робко кузнечик, а другие, выждав и видя, что смельчака никто не съел, поддержали тонкими прозрачными трелями. Я прислушался, какой там хор, это говорят тупые неучи, каждый орет свое, охраняет личный участок и зазывает самку. Все стараются перекричать друг друга. В этом мире, как у людей, кто кричит о себе громче, того и считают лучше, сильнее, красивее…