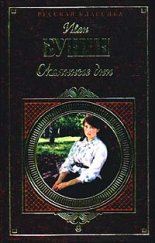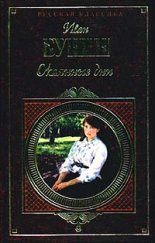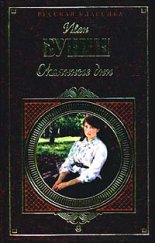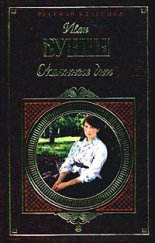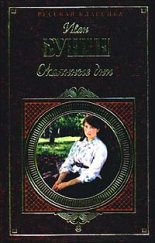Дикое счастье Мамин-Сибиряк Дмитрий

– Пустяки…
Ночью особенно было хорошо на шахте. Все кругом спит, а паровая машина делает свое дело, грузно повертывая тяжелые чугунные шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее в этой неумолчной гигантской работе. Свои домашние мысли и чувства исчезали на время, сменяясь деловым настроением.
– Разве так работают… – говорил Карачунский, сидя с Родионом Потапычем на одном обрубке дерева. – Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть – вот это разведка. Тогда уж золото не ушло бы у нас…
– Куда ему деваться; Степан Романыч… В горе оно спряталось.
– Да и вообще все наши работы ничего не стоят, потому что у нас нет денег на большие работы.
– Это ты правильно… Кабы настоящим образом ударить тот же Ульянов кряж…
Карачунский рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие грандиозные работы ведутся и какие баснословные дивиденды получаются в результате такой кипучей деятельности. Родион Потапыч только недоверчиво покачивал головой, а с другой стороны, очень уж хорошо рассказывал барин, так хорошо, что даже слушать его обидно.
– Мы как нищие… – думал вслух Карачунский. – Если бы настоящие работы поставить в одной нашей Балчуговской даче, так не хватило бы пяти тысяч рабочих… Ведь сейчас старатель сам себе в убыток работает, потому что не пропадать же ему голодом. И компании от его голода тоже нет никакой выгоды… Теперь мы купим у старателя один золотник и наживем на нем два с полтиной, а тогда бы мы нажили полтину с золотника, да зато нам бы принесли вместо одного пятьдесят золотников.
– Ну, это уж невозможно! – сказал Родион Потапыч. – Им, подлецам, сколько угодно дай – все равно потащат к Ястребову.
– Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платит Ястребов: если ему выгодно, так нам в сто раз выгоднее. Главное-то свои работы…
На этом пункте они всегда спорили. Старый штейгер относился к вольному человеку – старателю – с ненавистью старой дворовой собаки. Вот свои работы – другое дело… Это настоящее дело, кабы сила брала. Между разговорами Родион Потапыч вечно прислушивался к смешанному гулу работавшей шахты и, как опытный капельмейстер, в этой пестрой волне звуков сейчас же улавливал малейшую неверную ноту. Раз он соскочил совсем бледный и даже поднял руку кверху.
– Что случилось?
– Вода, Степан Романыч… – прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу.
Несмотря на самое тщательное прислушиванье, Карачунский ничего не мог различить: так же хрипел насос, так же лязгали шестерни и железные цепи, так же под полом журчала сбегавшая по «сливу» рудная вода, так же вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика. А между тем старый штейгер учуял беду… Поршень подавал совсем мало воды. Впрочем, причина была найдена сейчас же: лопнуло одно из колен главной трубы. Старый штейгер вздохнул свободнее.
– Ну, это не велика беда, – говорил он с улыбкой. – А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется: как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело…
Они, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о Фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следователь по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшно двойственное впечатление: знакомый человек, с которым он много раз играл в клубе в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имени, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов.
– Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете приисковый инвентарь только по описи, не проверяя фактически, – тянул следователь, записывая что-то, – чем, с одной стороны, вы прикрывали упущения и растраты казенного управления промыслами, а с другой – вводили в заблуждение собственных доверителей, в данном случае компанию.
– Господин следователь, вам небезызвестно, что и в казенном доме и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге, – это известно каждому. Я сделал не хуже, не лучше, чем все другие, как те же мои предшественники… Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промысла, потребовались бы целые годы, и затем…
– И затем?
– И затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент.
– Вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существовавшие злоупотребления!
– Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог… Я хотел только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях.
– Это одно и то же, только вы говорите другими словами, господин Карачунский.
Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрастием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. И следователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов Карачунский чувствовал себя в положении травленого зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще, да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнения. По крайней мере Карачунский в этом смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя.
Интересная была произведенная следователем очная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя смущенным…
– Господин Карачунский, я желаю взять назад свой донос… – заявил Кишкин в конце концов, виновато опуская глаза.
– Я уже сказал вам, что это невозможно, – сухо ответил следователь, продолжая писать.
– А если я по злобе это сделал?.. Просто от неприятности, и сейчас сам не помню, о чем писал… Бедному человеку всегда кажется, что все богатые виноваты.
– Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу… Одним словом, это к делу не относится…
Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры, Кишкин догнал его и торопливо проговорил:
– А я не виноват, Степан Романыч… Про вас-то я ни одного слова не говорил, а про других.
– Что вам от меня нужно?.. – спросил Карачунский, меряя старика с ног до головы. – Я вас совсем не знаю и не желаю знать…
Это презрение образумило Кишкина, точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал:
«Погоди, шляхта, ужо запоешь матушку-репку, когда приструнят…»
Карачунскому этот подлый старичонка-доносчик внушал непреодолимое отвращение, как пресмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положения, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминучую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение: его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которых он прокармливал. Из допросов следователя Карачунский понимал, что, кроме доноса Кишкина, был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем, и подозревал, что его сделал Оников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрения. Промысловые служащие, конечно, знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского как на обреченного человека. Все это создавало взаимно фальшивые отношения, и Карачунский желал только одного: чтобы все это поскорее разрешилось так или иначе.
Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущее настроение. Если бы открыть на Рублихе хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах компании и уйти из дела с честью: это было для него единственным спасением.
В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах главного управления компании Балчуговских промыслов: он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников.
VI
На Фоминой вековушка Марья сыграла свадьбу-самокрутку и на свое место привела Наташку, которая уже могла «отвечать за настоящую девку», хотя и выглядела тоненьким подростком. Баушку Лукерью много утешало то, что Наташка лицом напоминала Феню, да и характером тоже.
– Живи и слушайся баушки, – наказывала строго Марья. – И к делу привыкнешь и, может, свою судьбу здесь-то и найдешь… У дедушки немного бы высидела, да там и без тебя полная изба едоков.
Наташка была рада этой перемене и только тосковала о своем братишке Петруньке, который остался теперь без всякого призора. Отец Яша вместе с Прокопьем пропадали где-то на промыслах и дома показывались редко.
– Смаялась я с девками, – ворчала баушка Лукерья. – На одном году четвертую беру… А все промысла. Грех один с этими девками…
Марья с мужем поступила к Кишкину на Богоданку, где весной закипела горячая работа. На берегу Мутяшки по щучьему велению выросла новая контора, а при ней была налажена обещанная стариком горенка для Марьи. Весело было на Богоданке, как в праздник. Рабочих набралось больше трехсот человек. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена из глины и хвороста плотина, а затем вся вода из болота выкачана паровой машиной. Зимой же половина россыпи была вскрыта, и верховик пошел на плотину, так что зараз делалось два дела. Пески промывали бутарой, которая гремела день и ночь, как прожорливое чудовище с железным брюхом. Россыпь оказалась прекрасной, в среднем около полутора золотников содержания. Кишкин жил в своей конторе и сам смотрел за всем, не доверяя постороннему глазу. При нем происходила доводка золота в полдень и вечером, и он сам отжигал на огне полученную «сортучку», как называют на промыслах соединение ртути с золотом. Мелкое золото улавливалось ртутью. Несколько старательских артелей были допущены только для выработки бортов, как на больших промыслах, и Кишкин каялся в этом попущении, потому что вечно подозревал старателей в воровстве. Старик ни в чем не изменил образа жизни и ходил в таком же рваном архалуке, как и в прошлом году. Единственная роскошь, которую он позволил себе, – была трубка с длинным черешневым чубуком. Жил он очень грязно, ходил в грязном белье и скупился ужасно. Даже чай ходил пить к своему штейгеру Семенычу, чтобы сэкономить на этой разорительной привычке. Марья, впрочем, не подавала вида, что замечает эту старческую жадность, и охотно угощала старика всем, что было под рукой.
– Все кричат: богатство! – жаловался Кишкин. – А только вот я не вижу его до сих пор… Нечем долг заплатить баушке Лукерье. Тут тебе паровая машина, тут вскрышка, тут бутара, тут плотина… За все деньги подай, а деньги из одного кармана.
– А как же баушка-то Лукерья? Завидная она до денег…
– Проценты плачу… Ох, разоренье, Марьюшка!..
– Ну, как-нибудь, Андрон Евстратыч. Бог не без милости…
– Главное, всем деньги подавай: и штейгеру, и рабочим, и старателям. Как раз без сапогов от богачества уйдешь… Да еще сколько украдут старателишки. Не углядишь за вором… Их много, а я-то ведь один. Не разорваться…
Всего больше Кишкин не любил, когда на прииск приезжали гости, как тот же Ястребов. Знаменитый скупщик делал такой вид, что ему все равно и что он нисколько не завидует дикому счастью Кишкина.
– Старайся, старайся, старичок божий… – весело говорил он, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу. – Любая половина моих рук не минует… Пряменько скажу тебе, Андрон Евстратыч. Быль молодцу не укор…
– Знаю я вас, разбойников! – брюзжал Кишкин. – Только ведь со мной шутки-то плохие, Никита Яковлич…
– Не пугай, ради Христа… ха-ха!.. А что сделаешь?
– А вот это самое… Я, брат, дубленый: все ваши ходы и выходы знаю. Меня, брат, не проведешь…
В другой раз Ястребов привез с собой самого Илью Федотыча, ездившего по промыслам для собственного развлечения.
– Посмотреть приехал на тебя, чудо-юдо, – пошутил секретарь милостиво. – Разбогател, так и меня знать не хочешь.
– Он ныне гордый стал, – поддержал Ястребов расшутившегося секретаря. – Голой рукой и не возьмешь…
– А еще однокашники, – продолжал Илья Федотыч. – Скоро, пожалуй, на улице встретит и не узнает… Вот тебе и дружба. Хе-хе… А еще говорят, что старая хлеб-соль впереди.
Сильный был человек Илья Федотыч, так что Кишкин для него послал в Балчуговский завод за бутылкой мадеры, благо секретарь остается ночевать в Богоданке.
– Да, вот какие дела, Андрон… – говорил он вечером, когда они остались в конторе одни. – Приехал получить с тебя должок. Разве забыл?
– Все отдам, Илья Федотыч, только дай с деньгами собраться… – жалостливо уверял Кишкин. – Никак не могу сбиться с деньгами-то. Вот еще свои в землю закапываю…
– Перестань врать!.. Других морочь, а меня-то оставь.
Марья вертелась на глазах целый вечер и сумела угодить Илье Федотычу. Она подала и сливок к чаю и ягод, а на ужин состряпала такие пельмени, что язык проглотишь. Кишкин только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизию, но Марья успокоила его: она все делала из своего.
– Нельзя же кое-как, Андрон Евстратыч, – уговаривала она старика своим уверенным тоном. – Пригодится еще Илья Федотыч… Все за ним ходят, как за кладом.
– Ох, знаю, Марьюшка… Да мне-то какая от этого корысть?.. Свою голову не знаю, как прокормить… Ты расхарчилась-то с какой радости?
– Нельзя, Андрон Евстратыч: порядок того требует. Тоже видали, как добрые люди живут…
Илья Федотыч за бутылкой хереса сообщил Кишкину последнюю новость, именно о назначении Оникова главным управляющим Балчуговских промыслов.
– А куда же Карачунский? – удивился Кишкин.
– Ну, это его дело… Может, ты же ему место-то приспособил своим доносом. Влетел он в это самое дело, как кур во щи… Ах, Андрошка, бить-то тебя было некому!..
– От бедности очертел тогда, – согласился Кишкин. – Терпел-терпел и надумал…
За бутылкой вина старики разговорились о старине, о прежних людях, о похороненном казенном времени, о нынешних порядках и нынешних людях. Илья Федотыч как-то осовел и точно размяк.
– Пожалеют балчуговские-то о Карачунском, – повторял секретарь. – И еще как пожалеют… В узле держал, а только с толком. Умный был человек… Надо правду говорить. Оников-то покажет себя…
– Народ изварначился ныне, Илья Федотыч…
– Ну, это тоже суди на волка и суди по волку. Промысла-то везде одинаковы, – сегодня вскачь, а завтра хоть плачь.
– Разжалобился ты что-то уж очень, Илья Федотыч… У себя в канцелярии так зверь зверем сидишь, а тут жалость напустил.
– Ох, помирать скоро, Андрошка… О душе надо подумать. Прежние-то люди больше нас о душе думали: и греха было больше и спасения было больше, а мы ни богу свеча, ни черту кочерга. Вот хоть тебя взять: напал на деньги и съежился весь. Из пушки тебя не прошибешь, а ведь подохнешь, с собой ничего не возьмешь. И все мы такие, Андрошка… Хороши, пока голодны, а как насосались – и конец.
– Тебе в попы идти, Илья Федотыч, – рассердился Кишкин. – В самый раз с постной молитвой ездить…
Это жалостливое настроение Ильи Федотыча, впрочем, сменилось быстро игривым. Он долго смотрел на Марью, а потом весело подмигнул и заметил:
– Игрушка?..
– Хороша Маша, да не наша… С мужем живет.
– Что же, это еще лучше, коли с мужем… хи-хи!.. Из-за мужа-то и хозяина пожалеет…
Илья Федотыч рано утром был разбужен неистовым ревом Кишкина, так что в одном белье подскочил к окну. Он увидел каких-то двух мужиков, над которыми воевал Андрон Евстратыч. Старик расходился до того, что, как петух, так и наскакивал на них и даже замахивался своей трубкой. Один мужик стоял с уздой.
– Грабить меня пришли?! – орал Кишкин. – Петр Васильич, побойся ты бога, ежели людей не стыдишься… Знаю я, по каким делам ты с уздой шляешься по промыслам!..
– Мы насчет работы, Андрон Евстратыч, – заявил другой мужик. – Чем мы грешнее других-прочих?.. Отвел бы делянку – вот и весь разговор.
Это были Петр Васильич и Мыльников, шлявшиеся по промыслам каждый по своему делу. На крик Кишкина собрались рабочие и подняли гостей на смех.
– Ты их обыщи, Андрон Евстратыч, – советовал кто-то. – Мыльников-то заместо коромысла отвечает у Петра Васильича.
– Ну и обыщи, коли на то пошло! – согласился Петр Васильич, распоясываясь. – Весь тут… Хоть вывороти.
– А мне надо сестрицу Марью повидать, – заявил Мыльников не без достоинства. – Кожин тебе кланяется, Андрон Евстратыч.
Выскочившая на шум Марья увела родственников к себе в горенку и этим прекратила скандал.
– Скупщики… – коротко объяснил Кишкин недоумевавшему гостю. – Вот этот, кривой-то, настоящий и есть змей… От Ястребова ходит.
– Ну, у хлеба не без крох, – равнодушно заметил секретарь. – А я думал, что тебя уж режут…
– И зарежут…
Мыльников сидел в горнице у сестрицы Марьи с самым убитым видом и говорил:
– Вот, Марьюшка, до чего дожил: хожу по промыслам и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя ублаготворить?.. Конечно, она в законе и всякое прочее, а целый фунт золота у меня стащила…
– Мало ли что зря люди болтают, – успокаивала Марья. – За терпенье Оксе-то бог судьбу послал, а ты оставь ее. Неровен час, Матюшка-то и бока наломает.
– Прямо убьет, – соглашался Мыльников. – Зятя бог послал… Ох, Марьюшка, только и жисть наша горемычная.
– Пировал бы меньше, Тарас… Правду надо говорить. Татьяну-то сбыл тятеньке на руки, а сам гуляешь по промыслам.
Мыльников удрученно молчал и чесал затылок. Эх, кабы не водочка!.. Петр Васильич тоже находился в удрученном настроении. Он вздыхал и все посматривал на Марью. Она по-своему истолковала это настроение милых родственников и, когда вечером вернулся с работы Семеныч, выставила полуштоф водки с закуской из сушеной рыбы и каких-то грибов.
– Не обессудьте на угощении, гостеньки дорогие… – приговаривала она.
– Ах, Марьюшка, родная сестрица! – ахнул Мыльников. – Вот когда ты уважила…
Семеныч чувствовал себя настоящим хозяином и угощал с подобающим радушием. Мыльников быстро опьянел, – он давно не пил, и водка быстро свалила его с ног. За ним последовал и Семеныч, непривычный к водке вообще. Петр Васильич пил меньше других и чувствовал себя прекрасно. Он все время молчал и только поглядывал на Марью, точно что хотел сказать.
– Очертел Шишка-то… – заговорил наконец Петр Васильич, когда остался с глазу на глаз с Марьей. – Как зверь накинулся даве на нас…
– Его не обманешь: насквозь видит каждого.
– Видит, говоришь? – засмеялся Петр Васильич. – Кабы видел, так не бросился бы… Разве я дурак, чтобы среди бела дня идти к нему на прииск с весками, как прежде? Нет, мы тоже учены, Марьюшка…
– Спрятал в лесу где-нибудь весы-то свои?
– Обыкновенно… И Тарас не видал, потому несуразный он человек. Каждое дело мастера боится… Вот твое бабье дело, Марья, а ты все можешь понимать.
Петр Васильич придвинулся к ней поближе и спросил шепотом:
– А есть у тебя какое-нибудь женское дело с Шишкой?
Марья отрицательно покачала головой и засмеялась.
– Себя соблюдаешь, – решил Петр Васильич. – А Шишка, вот погляди, сбрендит… Он теперь отдохнул и первое дело за бабой погонится, потому как хоша и не настоящий барин, а повадку-то эту знает.
– Так поглядывает, а чтобы приставал – этого нет, – откровенно объяснила Марья. – Да и какая ему корысть в мужней жене!.. Хлопот много. Как-то он проезжал через Фотьянку и увидел у нас Наташку. Ну, приехал веселый такой и все про нее расспрашивал: чья да откуда…
– Про Наташку, говоришь? Польстился, значит…
– Не корыстна еще девчонка, а ему любопытно. Востроглазая, говорит… С баушкой-то у него свои дела. Она ему все деньги отвалила и проценты получает…
– Так, как… Ума последнего решилась старуха. Уж я это смекал… Так, своим умом дошел… Ах, пес! Ловко обошел мамыньку… Заграбастал деньги. Пусть насосется хорошенько… Поди, много денег-то у старого черта?
– А кто его знает… Мне не показывает. На ночь очень уж запираться стал; к окнам изнутри сделал железные ставни, дверь двойная и тоже железом окована… Железный сундук под кроватью, так в ем у него деньги-то…
– В сундуке? Так, Марьюшка… А тяжелый сундук-то?
– Да не унести его совсем, потому к полу он привинчен… Я как-то мела в конторе и хотела передвинуть, а сундук точно пришит…
Петр Васильич еще ближе придвинулся к Марье и слушал эти объяснения, затаив дыхание. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась от страха.
– Петр Васильич…
– А что?..
– Нет, к чему ты выспрашиваешь-то? Да ты в уме ли? Христос с тобой…
Петр Васильич опомнился и отвернулся. У него стучали зубы от охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку – рука была холодная, как лед.
– Ключик добудь, Марьюшка… – шептал Петр Васильич. – Вызнай, высмотри, куда он его прячет… С собой носит? Ну, это еще лучше… Хитер старый пес. А денег у него неочерпаемо… Мне в городу сказывали, Марьюшка. Полтора пуда уж сдал он золота-то, а ведь это тридцать тысяч голеньких денежек. Некуда ему их девать. Выждать, когда у него большая получка будет, и накрыть… Да ты-то чего боишься, дура?
– Ах, страшно… уйди…
– Одинова страшно-то, а там на всю жисть богачество… Живи себе барыней. Только твоей и работы: ключик от сундука подглядеть.
Побелевшая Марья отчаянно замахала обеими руками. Петр Васильич посмотрел на нее с ненавистью и прошипел:
– Не хочешь, так Наташку приспособим… Девчонка вострая, а старичку это и любопытно.
В ночь Петр Васильич ушел с Богоданки, а Марья осталась, как ошпаренная. Даже муж заметил, что с бабой творится что-то неладное.
– Неможется что-то, – коротко объяснила она.
VII
– Когда же ты помрешь, Дарья? – серьезно спрашивал Ермолай свою супругу. – Этак я с тобой всех невест пропущу… У Злобиных было две невесты, а теперь ни одной не осталось. Феня с пути сбилась, Марья замуж выскочила. Докуда я ждать-то буду?
– А Наташка? – виновато отвечала Дарья. – Может, к осени господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз заневестится…
– Опять омманешь, лахудра!.. – ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дарьи. – Ведь в чем душа держится, а все скрипишь… Пожалуй, еще меня переживешь этак-то.
– Помру, Ермолай Семеныч. Потерпи до осени-то.
С горя Ермошка запивал несколько раз и бил безответную Дарью чем попало. Ледащая бабенка замертво лежала по нескольку дней, а потом опять поднималась.
– Не по тому месту бьешь, Ермолай Семеныч, – жаловалась она. – Ты бы в самую кость норовил… Ох, в чужой век живу! А то страви чем ни на есть… Вон Кожин как жену свою изводит: одна страсть.
– Дурак он, Кожин-то: еще наотвечаешься потом…
Нет такого положения, хуже которого не было бы. Так было и здесь. Плохо жилось Дарье. Она давно записалась в живые покойники, а у Кожиных было хуже. Кожин совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В морозы он выгонял ее во двор босую, гонялся за ней с ножом, бил до беспамятства и вообще проделывал те зверства, на какие способен очертевший русский человек. Знали об этом все соседи, женина родня, вся Тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один бог судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Такую выбрала сама мамынька Маремьяна, желавшая оставаться в дому полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожин бил ее еще сильнее, вымещая свое неизбывное горе. Ведь не могла затяжелеть Феня, – тогда бы все другое вышло. Мамынька Маремьяна пробовала заступаться за невестку, но из этого ничего не вышло.
– Твоя работа: гляди и казнись! – кричал Кожин, накидываясь на жену с новой яростью. – Убью подлюгу… Видеть ее не могу.
В раскольничьем мире нравы не отличаются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием, из принципа – не выносить сора из дому.
Дошли слухи о зверстве Кожина до Фени и ужасно ее огорчали. В первую минуту она сама хотела к нему ехать и усовестить, но сама была «на тех порах» и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения Мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу.
– Тарас, хоть бы ты усовестил Акинфия Назарыча…
– Могу соответствовать, Фенюшка… Ах, какой грех, подумаешь!
– Ты ему так и скажи, что я его прошу… А то пусть сам завернет ко мне, когда Степана Романыча не будет дома. Может, меня послушает…
– Нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснет все Степану Романычу… Негоже это дело. А я в лучшем виде все оборудую… Я его напугаю, Акинфия-то Назарыча.
– Да ты поскорее, Тарас… Долго ли до греха: убьет еще Акинфий-то Назарыч жену…
Для большего поощрения Феня сунула Тарасу немного денег.
– Живой рукой слетаю, Федосья Родивоновна. Я его сокращу, Акинфия Назарыча… Со мной, брат, короткие разговоры.
Действительно, Мыльников сейчас же отправился в Тайболу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас «помолитвовался» под окошком. В окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось.
– Да это я! – кричал Мыльников, влезая на завалинку и заглядывая в окно. – Не узнали, что ли?.. Баушка Маремьяна… а?..
Наконец показался сам Кожин. Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно.
– Чего лезешь-то? – неприветливо спросил он.
– А дело есть, от того самого и лезу…
– Врешь!
– Вот сейчас провалиться…
– Ну, иди…
Кожин сам отворил и провел гостя не в избу, а в огород, где под березой, на самом берегу озера, устроена была небольшая беседка. Мыльников даже обомлел, когда Кожин без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. Вот это называется ударить человека прямо между глаз… Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался крутым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, в которой летом работы было совсем мало.
– Ах, какое приятное место! – восхищался Мыльников. – Только водку пить на таком месте…
– Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь?
– Нет, брат, с золотом шабаш!.. Достаточно… Да потом я тебе скажу, Акинфий Назарыч: дураки мы… да. Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем… Вот давай ударим ширп у тебя в огороде, вон там, где гряды с капустой. Ей-богу… Кругом золото у вас, как я погляжу.
Они выпивали и болтали о Кишкине, как тот «распыхался» на своей Богоданке, о старательских работах, о том, как Петр Васильич скупает золото, о пропавшем без вести Матюшке и т. д. Кожин больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился в этом направлении, он равнодушно заметил:
– Собака у меня, надо полагать, сбесилась… Ужо пристрелить надо стерву.
Когда Кожин ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклети, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся: ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец… Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении, – она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло с головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль – сейчас бежать и заявить в волости. Нельзя же так тиранить живого человека. Эти кержаки расстервенятся, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожин изводит жену насмерть, и волостные знают и вся родня, а его дело сторона. Еще по судам учнут таскать… Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену Кожин – сам и ответит, а пока жена в живности – никого это не касаемо, потому муж, хоша и сводный.
Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о поручении Фени припомнил только по своем возвращении в Балчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь пьяный он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился, к общему удивлению, Ермошка. Он поднял настоящий скандал.
– Да разве это можно живого человека так увечить?! – орал он на весь кабак, размахивая руками. – Кержаки – так кержаки и есть… А закон и на них найдем!..
Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно хорошие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабатчик Ермошка.
– Нет, братцы, так нельзя! – выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. – Душа ведь в человеке, а они ремнями к стене… За это, брат, по головке не погладят.
– Своими глазами видел… – бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия своих слов. – Я думал: мертвяк, и даже отшатнулся, а это она, значит, жена Кожина распята… Так на руках и висит.
– Прямо к прокурору надо объявить, потому что самое уголовное дело, – заявил Ермошка тоном сведущего человека. – Учить жену учи, а это уж другое…
– Да мы сами пойдем и разнесем по бревнышку все кержацкое гнездо! – кричали голоса. – Православные так не сделают никогда… Случалось, и убивали баб, а только не распинали живьем.
– Нет, погодите, братцы, я сам оборудую… – решил Ермошка.
Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей: особенное дело выходило совсем, Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не делать лишней огласки, Ермошка полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника.
– Застанем либо нет ее в живых! – повторял он в ажитации. – Христианская душа, ваша высокоблагородие… Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним, а только и закон есть.
В Тайболу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил: сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться незнамо что… Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр кожинского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае. Старуха долго не отворяла и бросилась в подклеть развязывать сноху, но ее тут и накрыли.
Картина была ужасная. И прокурорский надзор и полиция видали всякие виды, а тут все отступили в ужасе. Несчастная женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находилась в полусознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожин присутствовал при всем и оставался безучастным.
– Будет тебе два неполных!.. – заметил ему Ермошка. – Еще бы венчанная жена была, так другое дело, а над сводной зверство свое оказывать не полагается.
Кожин только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоциации идей мелькнула в голове мысль, почему он не убил Карачунского, когда ветрел его ночью на дороге, – все равно бы отвечать-то. Произошла раздирательная сцена, когда Кожина повели в город для предварительного заключения. Старуху Маремьяну едва оттащили от него.
– Оставь, мамынька… – сухо заметил Кожин, а потом у него дрогнуло лицо, и он снопом повалился матери в ноги. – Родимая, прости!
– Голубчик… кормилец… – завыла старуха в исступлении.
– Надо бы и ее, ваше высокоблагородие, старушонку эту самую… – советовал Ермошка. – Самая вредная женщина есть… От нее все…
Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал:
– Скажи поклончик Фене, Ермолай Семеныч… А тебя бог простит. Я не сердитую на тебя…
В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Балчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обратно он ехал вместе с Ермошкой.
– На каторгу обсудят Акинфия Назарыча? – приставал он к Ермошке.
– А это видно будет… На голосах будут судить с присяжными, а это легкий суд, ежели жена выздоровеет. Кабы она померла, ну, тогда крышка… Живучи эти бабы, как кошки. Главное, невенчанная жена-то – вот за это за самое не похвалят.
– И венчанных-то тоже не полагается увечить… – усомнился Мыльников.
– Про венчанную так и говорится: мужняя, а это ничья. Все одно, как пригульная скотина… Я, брат, эти все законы насквозь произошел, потому в кабаке без закону невозможно.
– Уж это известное дело…
По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся.
– Управился я с Акинфием Назарычем, – хвастался он. – Обернул его прямо на каторгу на вольное поселение… Теперь шабаш!..
Феня тихо крикнула и едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникова к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. Господи, да что же это такое? Неужели Акинфий Назарыч мог дойти до такого зверства?..
– Как посадили его на телегу, сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился, – рассказывал Мыльников. – Тоже знает порядок… Ну, меня увидал и крикнул: «Федосье Родивоновне скажи поклончик!» Так, помутился он разумом… не от ума…
Это происшествие совершенно разбило Феню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным, точно над его головой разразился неожиданно удар грома. У него точно что порвалось в душе, та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня казалась совсем другой – лицо побледнело, вытянулось, глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненная птица. Карачунскому было и совестно и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом.
– Я его больше не люблю… – прошептала Феня в одну из таких молчаливых сцен.
– Девочка, милая…
– А все-таки, Степан Романыч, лучше бы мне умереть…
– Жить еще будем, Феня.
У кабатчика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как «совесть», «христианская душа», «живой человек», уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права. Ермошке даже как будто было совестно за свой подвиг, и он старательно избегал всяких разговоров о Кожине. Прежде всего начал вышучивать Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой.
– С чего ты это сунулся в чужое дело? – приставал Ястребов. – Этак ты и на меня побежишь жаловаться?..
– Стих такой накатился, Никита Яковлич… Обидно стало, что живого человека тиранят.
– Да ты-то разе прокурор?.. Ах, Ермолай, Ермолай… Дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке, не иначе я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат… ха-ха!.. Сестра милосердная ты, Ермошка…