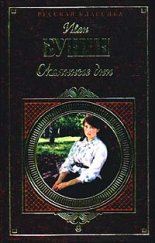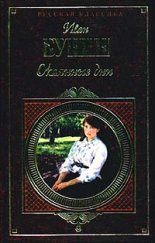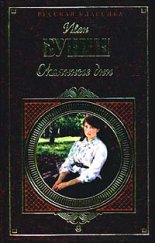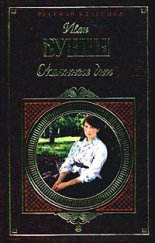Зверь из бездны Чириков Евгений

– Кто у вас старшой? – спросил сердито поручик. – Доложите есаулу, что его желает видеть поручик Корниловского полка Паромов.
Никто не ответил. Были заняты какими-то таинственными разговорами. Из долетавших отдельных фраз и обычных технических выражений поручик Паромов понял, что у них происходит совещание и спор о том, как лучше сделать: расстрелять сейчас «без всякого докладу», разбудить есаула или оставить дело до утра. Верно, кроме поручика, поняли в чем дело и некоторые другие: молодой рыжий и веснушчатый парень с бабьим лицом, присев на сложенные шпалы, заплакал вдруг, фыркая носом.
– Не реви, сволочь, а то… пришибу вот прикладом.
Слезы вызвали только злобу и раздражение:
– Заткни ему глотку-то прикладом! Плачет еще…
– Я… товарищи… мобилизованный… Я против воли шел…
– Товарищи! Мы вам, сволочам, не товарищи… Распустил слюни-то. А еще красный. Утри сопли-то!.. Вот я тебе подотру…
Казак подошел и, развернувшись, ударил в лицо плакавшего парня.
Тот стукнулся головой о шпалы. Плакать перестал. Сидел и сморкался сгустками тянувшейся из носу крови…
– Не следовало бы, не разобравши дела, братцы, так… – заметил поручик.
Сколько раз он проходил мимо таких издевательств и глумлений над человеком, а тут вдруг вздумалось заступиться. Может быть, самочувствие арестованного, поравнявшее его со всеми другими, заставило его сделать это неосторожное замечание. Это замечание привело в ярость казаков, сразу все озверели:
– А ты что за заступник, так твою?.. Не знаешь разве, как они нас истязают? Они нас жгут, живьем в землю зарывают, гвоздями погоны приколачивают, а ты их не тронь? Да ты сам-то…
– Вот с таким нечего разговаривать, а прямо к стенке.
– Отведи его вон за сортир да и выведи в расход эту жалостливую сволочь!
Спасла случайность: прибежал казак со станции с каким-то распоряжением от есаула. Сразу забыли про обидчика.
– В будку всех запереть покуда! – приказал старшой и пошел, а за ним еще несколько самых злых.
– Ну! В будку! Спокойной ночи, приятных снов… Проходите, товарищи красные, люди опасные, – сострил благодушно старый казак с широкой бородой, не принимавший участия в глумленьях.
Арестованные один за другим ныряли в дверку будки. Нырнул и поручик Паромов…
Душа его была в гневном трепете. Там творился психический хаос и разрушение. Острое до боли оскорбление… оскорбление всего, что для него оставалось еще святым и неприкосновенным. Поругана последняя драгоценность: гордость жертвенного подвига. Во имя спасения родины он бросил все дорогое и пошел за Корниловым, совершил весь тернистый путь Ледяного похода, несколько раз был ранен, от самого Корнилова получил Георгия… И вот теперь нагайка, издевательство с площадной руганью, тычки в спину и смерть у стенки от тех, за кого три года нес терновый венец. Он понимает, что все это только ошибка, но от этого не легче, а еще тяжелее…
Ошибка! О, будьте вы прокляты, патриотические идиоты! Ошибка… Такая же ошибка, как если бы вы, идиоты, по ошибке напакостили в священную чашу, из которой верующие приобщаются вечной жизни. Да, конечно, ошибка, но эта ошибка непоправимая… Святой сосуд опоганен, осквернен, и его остается только разбить, разбить вдребезги. О, если бы не отдал револьвера!.. Как же он позволил обезоружить себя? Как он на нагайку не ответил оскорбителю смертью или… не уничтожил себя?.. В будке было тесно и душно. Лежали на полу вповалку, сплетаясь ногами, попирая друг другу лица каблучищами, наваливаясь на спины соседей. Так возят свиней или овец и баранов по железным дорогам. Курили, плевали, харкали и сопели, испуская смрад человеческого слова. Не хотели или боялись говорить. А может быть, и не о чем было уже говорить больше. Не люди, а навоз, подлежащий вывозке. Многие хрипели, точно умирающие. Они были здесь самые счастливые: не думали и не чувствовали. О, если бы заснуть и забыть обо всем на свете, даже о Ладе и о маленькой Евочке!..
– Вы не спите, кажется? – тихо, шепотом сказал кто-то точно на ухо. Поручик вздрогнул и изменил положение. Темно. Только черные сверкающие глаза, точно стальные глаза, и усы.
– Вы меня не узнаете?..
Поручик недоверчиво приблизил глаза к лицу склонившегося над его ухом человека. Что-то шевельнулось в памяти, мимолетное и неуловимое, как увиденный однажды и сейчас же позабытый сон…
Человек со стальными глазами сказал несколько фраз с запинками по-французски. Поручик Паромов огляделся и незаметным толчком посоветовал осторожность.
– Не узнал… – едва слышно, заглушая слова кашлем, сказал он и, отыскав руку летчика, тайно крепко пожал. Неожиданная радость: такая же глупая ошибка. Белый, попавший по злой иронии случая в красные…
Уже все сопели и храпели, измученные и обессилевшие от мук пережитого и ожидания грядущего дня, и будка от этого разноголосого храпа, свиста и сопения напоминала какую-то необыкновенную работающую полным ходом машину. Не спали только поручик Паромов и летчик Соломейко. Они лежали рядом и шепотом разговаривали, моментами затихая и оглядываясь. Полным ходом работает странная машина – можно говорить и не бояться, что скажешь что-нибудь ненужное, неосторожное. Впрочем, боялся этого поручик Паромов, а летчик Соломейко забывался и часто переходил от шепота по-французски на разговор вполголоса по-русски. Поручик Паромов брал его за рукав и дергал, а Соломейко ухмылялся и произносил:
– Вы забываете, что мы все-таки не в гостях, а дома… Вот чертово время: стали забывать сами, кто мы: белые или красные…
Крепкий уравновешенный человек этот Соломейко: и тут не перестает острить и смеяться. Это действует на Паромова, как прием лавровишневых капель. Метель и вихри на душе затихают, и боль, и оскорбление, которые недавно казались вечными, окрашиваются не в трагический, а комический цвет. В наши дни все бывает, и не надо ничему удивляться, не надо ничем возмущаться, надо только не терять спокойного духа, взвешивать и овладевать обстоятельствами.
– Я уж был раз под расстрелом… Однажды сам себя приговорил к расстрелу… И вот, как видите, жив. И теперь, поручик, умереть мы не умрем, только время проведем, как поется в солдатской песенке… – Соломейко, опершись на локоть, стал рассказывать случай, приведший его в будку: прилетел ночью не туда, куда было надо, и спустился у красных. Арестовали и вот так же посадили с другими пленными в сарай. Раздели всех, чтобы получить вражеское обмундирование в полной чистоте, без кровяных букетов. На рассвете начали выводить партиями на рас-стрел. Он в первую партию не попал. Ждал очереди. Пришло в голову рискнуть: поставить на карту полчаса оставшейся жизни. Подговорил оставшихся сотоварищей, и все по знаку кинулись к двери амбара, наперлись разом, и дверь распахнулась. Выбежали под носом у часовых и в разные стороны. А выпал большой снег, сумерки еще висели. Часовые, конечно, за ними, открыли стрельбу. Только цель-то скользкая: большинство в белом нижнем белье, по снегу-то и совсем не видать, а тут еще и крылья за спиной выросли. Несколько человек убили, а большинство утекло…
– А совсем, было, приготовился умирать. И Господу помолился. Я, знаете, стал фаталистом. Чему быть, того не миновать. В свою судьбу верю.
А вот еще случай: прилетел он под новый год с важной экстренной эстафетой на одну станцию, а рядом на соседней – красные. Все в суматохе, настроены нервно. Возвращаться ночью не было сил, да и мотор что-то пошаливал. Морозы стояли. Решил заночевать. Выпили коньяку, поздравились. Без этого, как известно, и смерть не красна русскому человеку; он так устал, что уснул, как младенец, отвалившийся от груди материнской. Положили его в билетной кассе, в углу за печкой. Тихо. Печь крепко истоплена. Хорошо. Слышал ночью какую-то возню, беготню, крики, но сон казался милее жизни: до конца не проснулся. А рано утром просыпается: тихо. И пришло в голову, что «свои» отступили, забыли про Соломейко. Посмотрел он в окно: китайцы трех пареньков ведут. Ну а если китайцы, значит, станция в руках у красных. Так вот почему ночью была суматоха и беготня! Что же теперь делать? Осталось одно – пустить себе пулю в лоб, чтобы не утруждать китайцев. Запер дверь, приготовил револьвер. В этот момент шаги по коридору. Кто-то остановился у запертой двери и взялся за ручку. Соломейко всунул было дуло револьвера в рот, да пришла мысль, отправляясь на тот свет, прихватить с собой хотя бы одного большевика: направил револьвер в дверь и начала сажать пули. А за дверью крик и знакомый голос:
– Соломейко! Что с тобой? Опомнись!
Слава Богу, не убил. А оказалось, что впал в ошибку. Со сна да с похмелья все сам сочинил и стрелял в приятеля, коменданта, который пришел будить и звать к чаю.
– А китайцы? – шепотом спросил поручик Паромов.
– Не китайцы, а казаки-калмыки это были и вели захваченных красноармейцев… Почему я не выстрелил в рот, отложив это удовольствие на одну только минуту? Не судьба еще умереть. Я фаталист…
Долго разговаривали. Поручик Паромов совсем забыл обиду и оскорбление. Завтра все выяснится, и будут сожалеть и извиняться. Все-таки так оставить этого невозможно. Паромов лично явится к полковнику и доложит об этом безобразии. А впрочем, полковник тоже порядочный хам. Кричит и третирует, как мальчишек. Вообще теперь «они» облипли, как и большевики, всякой дрянью, которая за спинами других обрабатывает свой патриотизм в звонкую монету… Опоганили, подлецы, чистое знамя Корнилова.
– Слышите?
Оба насторожили уши: орудийный выстрел. С которой стороны?
– Красные! Это бронепоезд лупит. Во! Не так далеко…
– А вот и наш ответ.
Грохнуло орудие близ станции, и стекла в маленьком окошке зазвенели мелкой дрожью. Почти все проснулись и сели. Начали беспокойно шептаться и тихо переговариваться. В глазах большинства загорелся огонек тайной надежды. Только Соломейко и Паромов беспокойно посматривали друг другу в глаза и бросали только им самим понятные фразы и одинокие слова…
Пугливый рассвет мутно поглядывал в окошко и вздрагивал при каждом орудийном выстреле. Застрекотал пулемет, отдаваясь эхом в близком леске. Долетел со станции крик людей и ржанье коней.
Соломейко приподнялся и, ковыляя меж телами, лежащими и сидящими, пробился к окошку. Посмотрел и стал тискаться к двери. Делал какие-то знаки рукой Паромову, но тот не замечал, продолжая углубленно смотреть внутрь своей души. Шум голосов и топот казацких коней остановился у будки. Загремел замок, и дверь, распахнувшись, закрыла Соломейко.
– Обрадовались, сволочи? Обрадовались?
И затрещали выстрелы винтовок, злые, торопливые, сливающиеся в барабанную дробь, а на полу будки застонали и закрутились люди. Вскакивали, метались, бросались друг на друга, ползали около стен, по полу, что-то вскрикивали и, взмахивая руками, валились и стукались головами о пол… И все это продолжалось не больше десяти секунд, а потом сразу тишина и топот лошадиных ног в отдалении.
– Поручик! За мной!..
Поручик Паромов приподнялся на руке, улыбнулся Соломейко и снова опустился…
– Прощайте… – с хрипом прошептал он…
Подполз к раскрытой двери один из раненых: цепляясь за косяк и обмазывая его кровью, поднялся на ноги и, покачиваясь, как пьяный, стал кричать, неуклюже взмахивая в воздухе одной рукой:
– Товарищи! Товарищи!..
На станции кричали «ура», и эхо его повторял лесок, куда убежал Соломейко… На полу, в будке, сидел и радостно хныкал парень с бабьей рожей, обмазанной грязью и кровью:
– Наши, наши, наши…
Поручик завозился и тоже сел. Глаза его блуждали, и в них было безумие и ужас. Он остановил неподвижный взор на хныкающем парне, и тот стал ему улыбаться. Потом парень засмеялся и закричал Паромову, помахивая рукой:
– Жив? Наши, брат, пришли… Радуйся!
Поручик кивнул головой, улыбнулся и снова лег, положив голову на ногу убитого соседа. Лежал, напряженно силился что-то вспомнить, и в его памяти вдруг ярко вырисовался «синий раскрытый глаз», который не хотел закрываться…
– Давайте-ка носилки, товарищи!.. Здесь живые есть…
Глава четвертая
Если «Бог есть любовь», то любовь есть Бог…
В любви все: цель, смысл и красота жизни. От нее все чудеса на земле и на небе. Она творец всех драгоценностей, видимых и невидимых. Она – гений творчества, гений искусства, величайший архитектор, скульптор, художник, поэт и музыкант. Произведения ее гения щедрой рукой разбросаны на каждом нашем шагу, но мы так привыкли к этим чудесам, мы так невежественны, что не замечаем их и считаем чудесами. Только уродство, извращение, безобразие бросаются нам в глаза и кажутся «чудом», а красота уходит из поля нашего внимания… Разве не чудеса творит любовь, украшая землю неисчислимым количеством цветов изумительной красоты и разнообразия в форме, рисунке и сочетании красок? Разве, помимо этого, любовь в мире не творит нам еще певцов, музыкантов, целые хоры и оркестры, славословящие любовь, радость и красоту мироздания? Мы любуемся цветами, пьем их аромат, слушаем дивных солистов и хоры и оркестры пернатых, но совсем не задумываемся над всеми этими чудесами. Не в тысячу ли тысяч больше творит всяких чудес любовь в душах человеческих? Не она ли делает нашу душу зеркалом, отражающим образ и подобие Божие? От любви вся наша поэзия, недаром называемая «божественной», все наши искусства, наука, религии и мечты о наступлении Царства Божия на земле. Ведь все религии, все социальные утопии, все научные теории о будущем социальном счастье в конечном счете питаются от живой воды того же источника жизни – любви человека к человеку. И когда покидает Любовь душу человеческую, из нее уходит Бог и вселяется – Ненависть. Дьявол. Зверь из бездны. Душа человека превращается в темную и страшную бездну, в которой нет ни красоты, ни творчества, а только хаос разрушения и смерть…
Такие мысли часто бродили теперь в голове Паромова в бессонные ночи, когда лазаретная палата погружалась в молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием раненых да порою их стоном, бредовым смешком или вскриком ужаса, и неожиданно в слабо освещенной палате, как в сумраке предрассветном, появлялась, как ангельский призрак, белая и стройная фигура женщины. Неслышными шагами эта женщина подходила и склонялась над изголовьем больного и так удивительно спокойно, кротко и ласково шептала что-то, стараясь не разбудить других. Изредка ее шепот переходил в речь вполголоса, и тогда, казалось, вся палата наполнялась отсветом ее души: любовью к человеку… Тогда Паромов думал: чудо любви воплотилось прежде всего в женщине, в ее материнстве, и через нее, через женщину, сохранилась и прячется любовь в наши страшные дни. Только женщина спасет мир от хаоса и разрушения, ибо в ней, в ее материнстве, вечный источник жизни и победа над смертью…
Паромов смотрел на белый призрак, от которого источалось столько кроткого и нежного терпеливого сострадания, и тихая нежность начинала теплиться в его душе, на глаза навертывались слезы умиленности и такой безграничной благодарности, что хотелось перекреститься на нее, как на образ Богоматери. Кто она, эта странная в наше время душа? Ее все так любят, ревнуют ее друг к другу, как дети к матери, называют «сестрицей», и так преображаются их лица, когда она говорит с больными, каждый из которых недавно еще носил лик звериный. Вчера в страшных мучениях умирал на соседней койке, слева, бородатый красноармеец, мужик из Ярославской губернии. Тяжело умирал, в сознании, хотя говорить уже не мог. Объяснялся лишь глазами и жестами. Такая бездонная тоска смотрела из его синих глаз.
Успел давно рассказать Паромову, что у него дома – жена и трое детей, и заставлял писать домой письма. Вчера с утра лишился языка и только метался и с тоской смотрел вокруг, словно все искал кого-то. Когда подошла сестрица, он улыбнулся, поймал ее руку и не выпускал. Так и отошел в другой мир с крепко сжатой рукой сестрицы…
Кто она? Одно ясно: не демократического происхождения. Тонкий профиль, построение речи, чуткость соображения и «музыкальные руки». И улыбка и голос – тоже, как музыка, и жесты и походка – все говорит о породе и высокой культуре. Нет, она не «из красных». Хотя иногда и употребляет слово «товарищ»… Когда она смотрит в глаза Паромову, она словно видит и понимает, одна только догадывается, что он вовсе не «товарищ Горленка»… И, может быть, поэтому она уделяет ему так много внимания, и в глазах ее, устремленных в его душу, всегда точно вопрос: «Кто ты?..» Так хотелось бы иногда признаться, сказать ей всю правду, рассказать, как это случилось, что он превратился в «товарища Горленка», недостреленного «белыми», но даже ночью, когда сестрица подходит к его постели, кто-нибудь из больных ревниво следит за ней, завидуя, призывает:
– Подойди и ко мне, сестрица!
А рядом, справа, лежит глуповатый парень с бабьей рожей. Он положительно влюблен в сестрицу. Даже если дремлет и лежит лицом к стене, то чувствует, когда в палате появляется сестрица: очнется, перевернется, и на его широком и курносом лице засияет улыбка… Смешной такой парень. Должно быть, еще в будке он почувствовал к Паромову симпатию. За то, что тот заступился, когда казак ударил его по носу. Называет Паромова «товарищем Мишей» и делится такими интимностями, словно они друзья детства или закадычные приятели. И, несмотря на все это, «товарищ Ермишка», так он называется, ревнует, сердится и подслушивает, о чем разговаривает сестрица с «товарищем Мишкой». Тогда Мишка, а не Миша. Вмешивается в разговор и наивно так спрашивает:
– Пошла бы ты за меня, коли я посватал бы? Теперь можно, по декрету.
А то еще откровеннее:
– Сестрица! Погляди, что ли, на меня! Что ты все глаза на Мишку пялишь? Он – женатый. Не верь ему.
– Я замуж не собираюсь, товарищ Ермиша.
– Прямо сказать – монашенка… Не одобряю я твоего поведения… Покуда молода да красива – только и погулять.
Нет ни места, ни минуты для раскрытия тайны. Да и зачем ей знать, что Горленка вовсе не Горленка, и что он – не «красный», а «белый»?.. Не все ли ей равно? В ее глазах светится только любовь к человеку и его страданию. Часто Паромов смотрел на нее и думал: если бы он был художником, то непременно написал бы с этой женщины молодую Богоматерь после Благовещения. Когда он впервые увидал ее, очутившись в красном походном лазарете, он сразу чему-то удивился в ее лице, в глазах, в улыбке и голосе. И захотелось спросить, как ее зовут. Она кротко улыбнулась и, смотря в глаза прямо так, как смотрят чистые дети, ответила:
– Называйте, как все, – сестрой.
А так хотелось узнать. Зачем? Бог знает. Лежал иногда и угадывал: Любовь? Вера? Надежда? Непременно из этих трех. И вот сегодня, совершенно случайно и не гадая, узнал. Прочитал на носовом платке, позабытом сестрой на столике у его кровати: «Вероника». Не угадал. Никому не сказал, даже Ермише, который тоже не раз интересовался: «Как звать-то тебя?» Так приятно было сознавать, что никто в палате не знает, а он знает. Прочитал на уголке платка «Вероника», вдохнул ландыш духов, источавшийся от полотняного платка, и спрятал его покуда под подушку. Лежал и улыбался: вот он поразит, назвав ее по имени! Все ждал, когда подойдет к нему «Вероника». И имя, и духи – все из «старого мира». Непременно она носит, как и сам он, тайну. Старался разгадать эту тайну, фантазировал и сочинял: была богата и счастлива – это видно даже по платку, – кого-нибудь любила и, желая спасти, пошла к красным в сестры милосердия. Нет, не то. Тогда откуда в ней столько любви и совсем нет неприязни и хитрости? Загадочно. И неразгаданная тайна приковывала его мысль и рождала постоянные думы об этой женщине. Случая поразить не выпадало. Не хотелось, чтобы Ермишка услыхал, как он назовет ее «Вероникой» и удивит. Хотелось сделать это тоже тайно, для двоих. Случилось это вечером. Ермишка поплелся «до ветру». Койка слева опустела: труп синеокого ярославца унесли уже, и никто не согласился лечь на его место, а новых не привезли еще. Она подошла, чтобы дать лекарство. Он, выпив с ложки противную микстуру, опустил приподнятую голову снова на подушку, вспомнил вдруг про «тайну» и тихо произнес:
– Благодарю, Вероника…
Сестра точно испугалась собственного имени. Так неожиданно оно для нее прозвучало в устах этого чужого человека. Выпрямилась и удивленно раскрытыми глазами длительно посмотрела в лицо «товарища Горленки». Покраснела и быстро отошла, не проронив слова… Поразил!.. Отчего она покраснела? Испугалась? Может быть, как и он, она здесь под чужим именем и личиной? Значит, угадал?
С этого момента Вероника заметно стала бояться Горленки, хотя часто он замечал, как она с беспокойным любопытством бросает и задерживает на нем свой взгляд издали. Если бы знал, что так случится, не стал бы поражать. Точно отпугнул ангела от своей постели.
– Сестрица! Что ты все к другим, а к нам не подходишь? – жаловался иногда Ермиша, почувствовавший внезапную перемену отношения. Ермиша сказал прямо, бесхитростно, и, должно быть, тоже напугал этим сестру. Видимо, ей не хотелось, чтобы ее «уклонения» от постели Горленки замечали другие. Она стала подходить, но больше к Ермише, отчего он приходил в буйно-радостное настроение.
– Что, Мишка? Ко мне передом, а к тебе задом больше кажется! – удовлетворенно подшучивал он над соседом, когда, поговорив с Ермишей, сестра только на мгновение приостанавливалась и, не глядя в лицо Горленки, мимолетно спрашивала:
– Вам ничего не надо?
И уходила.
Наблюдательный Ермишка, хотя и кажется глуповатым, спрашивает вдогонку:
– А почему такое: мне говоришь «тебе», а ему – «вы»? Теперь, по декрету, все господа.
Сестрица стала говорить Ермише: «Вы, товарищ». Одинаково обоим.
Однажды ночью, когда загрязненная рваная рана от лошадиного копыта на ноге Горленки повела к признакам заражения крови, Вероника стояла, склонясь над его постелью, и слушала его пульс: он очнулся от забытья и остановил на ней изумленные лихорадочные глаза с расширенными зрачками. Не сразу узнал.
– Господи, как я давно не видал тебя, Лада.
– Очнитесь! Вы бредите…
В жару он все перепутал. Он был рад Веронике, а смешал ее с Ладой. И потому сказал «ты». Но он не понимал, что он спутался. Он действительно обрадовался, увидав лицо Вероники. А потом опять затмение: почудилось, что присевшая на постель женщина – жена, Лада, и он поймал ее руку и стал гладить. Заговорил что-то про красных…
Женщина закрыла ему губы ладонью руки, чтобы никто не расслышал, что говорит он в бреду, а он, продолжая путать два женских образа, стал целовать ладонь, заграждавшую его уста. Потом он сразу очнулся: сестра положила ему на голову гуттаперчевый блин со снегом…
– Не надо говорить, – смотря в глаза больного, сказала сестра и сделала едва уловимый знак движением глаз. – Не надо говорить… Поняли?
– Что ты все с ним возишься? Ни хрена он не понимает. Помрет, видно, – сказал Ермиша, спуская ноги с постели. – Сходить до ветру…
Когда Ермиша, шлепая громко огромными башмаками, уплелся, Вероника наклонилась к Паромову так близко, что завиток ее шелковых волос защекотал ему щеку, а губы коснулись уха и сказали:
– Вы говорите и выдаете свои тайны.
А потом встала и уже строго сказала:
– Нельзя снимать пузырь с головы!
Потом она еще несколько раз ночью приходила к постели Паромова, меняла компресс и тревожно прислушивалась к его дыханию. Он каждый раз узнавал ее и говорил:
– Вы измучились… Идите и спите…
– А говорить не будете?
– Нет. Я теперь в здравом уме.
Перед рассветом она была последний раз. Мерила температуру. Он взял ее руку, лежавшую поверх его одеяла, и притянув несколько раз коснулся ее своими губами. Не отняла. Она была грустна, расстроена и задумчива. Точно отделилась от мира видимого и улетела в невидимый.
– Температура спадает, – подумала она вслух рассеянно и пошла. Паромов проводил ее глазами до самой двери, за которой она скрылась. «Опечаленная любовь, – подумал он. – Тяжело, должно быть, таким душам жить в наше страшное поганое время. Только здесь, в лазаретах и больницах, спрятавшись в сердце женщины, еще, как свет во тьме, светит любовь укрощенным страданиями людям…»
Глава пятая
Странное притяжение душ, впервые и случайно встретившихся, почти ни слова не сказавших о себе друг другу. Вероника хочет скрыть это, но не удается. Паромов чувствует ее тяготение. Оно проскальзывает в мимолетном взгляде, в холодно произнесенном вопросе, в самой позе, когда она стоит близко. И сам он испытывает то же самое. Он чувствует Веронику на расстоянии. Иногда лежит с закрытыми глазами, и вдруг что-то заставляет его раскрыть их. Озирается и видит Веронику. Что это такое? Откуда это взаимное тяготение? Люди науки, уклоняясь от многого чудесного и необъяснимого в нашей жизни, в ответ только улыбнутся и скажут: «Сродство душ», – скажут, конечно, с оттенком иронии. Логичнее, убедительнее и красивее объясняет это буддизм: две души, знавшие и любившие друг друга в веках прошлого, встретились в новых перевоплощениях и узнали друг друга тайно от нашей новой материальной сущности… И в самом деле, при первом же взгляде на Веронику у Паромова явилось такое ощущение, словно когда-то, очень давно, он уже видел и знал точно такую же женщину. Потом он стал чувствовать смутное беспокойство. Словно все хотелось что-то вспомнить, когда говорил с Вероникой. Это прямо удивительно: если он лежит и чутко дремлет, он сразу пробуждается, когда Вероника, даже издали, остановит на нем свой взгляд. Должно быть, то же испытывает и она. Хочет скрыть и не удается: и в мимолетном взгляде, и в пустом будничном вопросе, и в том, как она дает ему лекарство или слушает пульс и сердце, в самой позе, когда Вероника подходит к нему, во всем прорывается нечто особенное, неуловимое и безымянное, что пропадает, когда она смотрит, говорит, дает лекарство вообще, всем другим. И доброта, и улыбка – всем, кроме него, одинаковые. К нему, может быть, даже меньше этой видимой доброты, ласки, улыбок сочувствия, чем ко всем другим, но за ними есть какая-то тайная и неразгаданная еще близость. Не потому ли он, уже зная, что ее зовут Вероникой, называл Ладой, именем самого близкого ему в жизни человека? Словно душа искала материальных форм для выражения чувства неосознанной еще близости…
Когда однажды она целый день не появлялась в палате, Паромова охватило странное чувство: тоска и скука, смешанные с непрестанным ожиданием, от которого утомлялись нервы, зрение и слух. Почему ее нет? Что с ней случилось? А вдруг она уже больше не появится? Моментами почудится ее голос – и вздрогнет душа. То шаги – поднимает голову и посмотрит. Почему он так ждет и почему думает о ней, а не о Ладе?.. Нет, это так… Разве можно забыть Ладу, разлюбить Ладу? Никогда! Он старался заставлять себя думать о Ладе, вспоминал ее глаза, улыбку, ласку, и как-то незаметно мысли о Ладе переходили в мысли о Веронике, сплетались, перепутывались, и наконец, Лада уходила, и оставалась Вероника… Ловил себя на этом и пугался. Что же это, в самом деле? Неужели он… Какая чепуха! Вслух смеялся, отвертывался к стене лицом и решал заснуть. Но вот опять чудится вдали голос Вероники. Пришла? Нет. Померещилось. Вечером не выдержал и спросил у сиделки:
– А где сестра?
– Заболела что-то. Не тиф ли… На той половине – тифозных насовали.
– Не померла бы! – сказал Спиридоныч и вздохнул.
– Очень просто, – заметила сиделка.
Сразу заболела душа. Точно самый близкий человек хворал и может умереть. Точно телеграмму получил об этом, и надо сейчас же что-то сделать, куда-то поехать, что-то предпринять. И от того, что он ничего не мог сделать, душа разрывалась на части.
– Как же это так?..
Всю ночь не спал, прислушивался. Когда появлялась сиделка, подзывал и спрашивал:
– Ну как? Сестра?
– Получше.
– Доктор был?
– Ждем.
Следующий день прошел в напряженном мучительном ожидании. Был доктор у сестры, и в палате говорили, что – «тиф», заразилась…
– Ну, вот и все! – повторял Паромов и думал о смерти, о гибели молодых и прекрасных душ, о том, стоило ли ей «класть душу» вот за такие «други», как Ермишка, Гришка, хулиган Ерепенников? Ведь таких неисчислимое множество. Жизнь этой прекрасной женщины он мысленно называл «редчайшей драгоценностью». Не на фальшивые ли бумажки променивает она эту драгоценность? Даже являлась мысль дерзновенного и кощунственного характера: убивают самых лучших, умирают тоже самые лучшие, – где тут смысл Божественной справедливости?..
Однажды поделился своими мыслями и сомнениями со Спиридонычем:
– Почему, товарищ, всякая сволочь живет и преумножается, а вот такие, как наша сестрица, за все умирать должны? Как ты полагаешь?
Спиридоныч высказал несогласие, замотал головой:
– Не за сволочь она муку на себя приняла, а по любви великой, по Христовой заповеди, друг…
– И за эту любовь должна жизнью заплатить? Почему, спрашиваю, сволочь живет и наслаждается, а вот она…
– Премудрость Божия, брат! Может, они, такие-то, самому Богу нужны? Вот Он и подбирает их с грешной земли.
Паромов рассердился:
– Чепуха! Хорошие-то на земле, братец, нужнее, чем на небе. Там и так всяких праведников и святых много.
– Господу, братец, виднее, кого куда определить – вот что! Кто знает? Может, и так, что видит Господь судьбу человеческую на земле и жалеет: смерть посылает, чтобы укрыть от злобы и страданий… Видишь, как у нас на земле жисть-то стала?.. Хуже ада кромешного…
И Спиридоныч начинал рассказывать разные «божественные истории» о промысле Божьем, о чудесах разных, о предопределении. Много знал он таких случаев, как из божественных книг, из жития святых, так и из своего житейского опыта. Начнет рассказывать – и конца нет!..
Спиридоныч мурлыкает, а Паромов думает о прекрасной женщине.
Прошел еще день, а сестрица не появлялась. Зато вечером оба обрадовались:
– Ну что? Как сестрица? – спросил Паромов у сиделки.
– Получше. Спал жар-то. Ослабла уж очень.
Какой горячей радостью облилось сердце Паромова, когда Вероника снова появилась в палате. Точно пасхальный звон в душе затрезвонил…
Ну и доктора пошли: крапивную лихорадку от тифа не отличили! Хорошо, что в тифозную больницу не увезли. Это нередко случалось. Похудела, глаза еще больше сделались, а голос еще нежнее. Как музыка этот голос в палате. Улыбнулась кроткой печальной улыбкой издали Паромову. Совсем нестеровское лицо. Есть у него такая молодая инокиня… Подошла и спросила, как он себя чувствует.
– Я так боялся за вас. Все мы боялись… Зачем вы рано встали с постели? У вас такой измученный вид… Я думаю, что у вас все-таки есть жар…
– Никакого жара.
– Лихорадочный румянец на щеках и глаза…
Румянец сделался еще ярче. Она немного растерялась, спрятала лицо под приспущенным белым платком и отошла к другой кровати.
«На кого она похожа? Где он видел это лицо?» – часто думал Паромов, но тщетно рылся в черепках и обломках прошлого. Точно такой же вопрос, казалось, рождался и в фиалковых глазах Вероники, когда они останавливались на Паромове. И опять приходила в голову идея перевоплощения душ…
И вот неразрешимая загадка наконец неожиданно разрешилась.
Был вечер. Почти все в палате уже спали. Только в дальнем углу, около постели появившегося сегодня новичка сбился кружок бодрствующих. Новичок рассказывал о своих геройских подвигах и о том, как его ранили. Раз десять уже он успел рассказать, как все случилось, но любопытство не прекращалось и поставляло терпеливых слушателей герою. Там были и Ермишка со Спиридонычем. Это было необычно и сразу взволновало Паромова. Тихо прошла к нему Вероника и сказала, что надо сосчитать пульс и померить температуру.
Подсела на его койку и взяла руку. И вдруг пришла к нему в голову несуразная мысль, что Вероника его любит… Застучалось тревожно сердце, и страх и радость нового ожидания, казалось, полились по всему его телу, по всем его уголкам… Его рука дрожала, и не сразу нашелся пульс. Потом, посчитав пульс, Вероника удивленно посмотрела своими фиалковыми глазами ему в лицо. Должно быть, пульс был ненормальный. Встретив эти глаза своими, Паромов неожиданно почувствовал, что… любит эту женщину. И почудилось, что фиалковые глаза это поняли и сказали: «Да».
– Странный пульс… вы здоровы?
Паромов не ответил. Вероника встряхивала термометр, смотрела в пространство и точно кому-то невидимому, стоящему перед ней в пространстве, тихо говорила:
– Вы так удивительно похожи на… Если у вас есть брат, то его зовут Борисом.
– Вы знаете? – спросил Паромов почти с ужасом. Она слегка кивнула головой и снова в пространство спросила тихо:
– Жив?
– Не знаю. Если жив, то в Крыму.
– Знаю. Я – туда…
Но тут вернулся Ермишка:
– Все с ним возишься… Что, его жизнь-то тебе так дорога? Небось, мне не меряешь температуру-то…
– Ты здоров.
Тихо пошла из палаты и белым призраком исчезла в дверях. Паромов лежал ошеломленный: он сразу вспомнил. Это Вероника Павловна Стораневич, невеста брата Бориса: портрет ее он видел у брата… Узнала! Неужели они так похожи? Так вот в чем разгадка ее тяготения? Только? Не любовь, а только воспоминание о Борисе рождало все его иллюзии? Отражение любви к другому?
И опять не спал и возился, точно нужно было разрешить трудную задачу. Решал, смотрел в «ответ» и убеждался, что решил неверно. И снова решал. А задача была такая: как назвать то, что происходит теперь в его душе? Бог знает что. Точно она его уже любила, а теперь разлюбила и полюбила брата Бориса… Как будто была огромная неожиданная радость и вдруг улетела. Пропавший мираж. Видел умирающий от жажды в раскаленной пустыне путник вдали, над горизонтом, легкие силуэты сказочных замков и голубое озеро с белыми лебедями и склонившимися над водою чинарами, шел быстро и был уже близко. И вдруг все исчезло, и снова песчаное море и раскаленное солнце над головой. Так вот она Вероника, невеста Бориса! Невеста Бориса!.. На свете еще остались девушки, которые называются «невестами»… Ничего не осталось, а вот невесты, оказывается, уцелели. Невесты неневестные. Женихи ищут своих невест, невесты своих женихов. И не подозревают часто, что ищут среди живых мертвого. Жив? А кто скажет? А если убит? Бог знает, что лезло в голову. Иногда делалось стыдно и страшно от тех мыслей, которые рождались в эту ночь. Думал о том, что теперь все скоротечно и все рушится, разваливается. Она думает, что Борис, уже три года живущий в крови, продолжает хранить в душе непоколебленной идиллическую нежность хрупкого сосуда юной любви. А он… сам? Разве не превратились они на бесконечных фронтах из сентиментальных и романтических любовников в… кобелей, которые бросались на первую подходящую суку? Он помнит, как они с Борисом однажды, перед боем, в котором могли найти смерть, прежде чем идти на геройский подвиг, по-зверски удовлетворили свой половой инстинкт с помощью одной грязной полупьяной бабы… Он, муж Лады, и тот, жених вот этой самой девушки с фиалковыми глазами. Да он, вероятно, и думать-то о ней перестал…
Так он думал. Думал с непонятным злорадством, с сарказмом, с кощунством. Точно ему хотелось злобно втоптать в грязь окружающего всю святость и всю красоту человеческой жизни. И на рассвете он перестал думать и, уткнувшись лицом в смятую комком подушку, стал потихоньку плакать. О чем? Бог знает. Может быть, о том, что Вероника любит не его, а Бориса, а может быть, о том, что не остается ничего святого в жизни, во что можно было бы верить, и за что можно было бы умереть…
Глава шестая
Говорят, что самый вредный и страшный человек – это человек, прочитавший только одну «умную книгу». Революционная толпа с ее героями кровожадного действа – это все люди, прочитавшие одну «умную книжку» про свободу, братство и равенство.
Теперь, когда красное воинство, попав в лазарет, превратилось снова в мирных Иванов, Петров, в больных людей, и «товарищ» снова почувствовал себя прежде всего «человеком», подобным всякому другому, – красный туман рассеялся, стадное чувство распалось, и красная ненависть стала быстро таять. Как солнышко в непогоду чрез проносящиеся тучи, то и дело из омраченных злобою душ выглядывает Лик Божий. Иногда это выходит так трогательно. На глазах совершается чудо превращения зверя в человека. Смотришь на такого, преображенного, и изумляешься: он ли это, кровожадный зверь, говорит или делает? Гипноз злобы и ненависти, владеющий толпой, теряет свою силу над человеком, и поруганная любовь грустно выглядывает из его души. Там снова пробуждается жалость, сострадание, милосердие, и голос извечной «Божьей правды» начинает тайно, в молчании взвешивать и судить все содеянное в кровавом тумане революционного психоза. Лютые тигры начинают походить на ручных ягнят.
Долга зимняя ночь в лазарете. Делать нечего, днем выспишься, а придет ночь – сна нет. Возятся, вздыхают и все думают. Чего только не передумают эти люди за ночь, до свету.
У Паромова два беспокойных соседа: справа – Ермишка, слева мужик, бывший солдат царский, Спиридоныч. Оба из красной армии. Одолевают ночью разговорами. Все разные вопросы и сомнения. То политика, то совесть. То обе вместе.
Товарищ Ермишка самый ходячий тип из революционной толпы. В голове его такой хаос, такая путаница слов и понятий. Настоящий лесной бурелом. Это самый распространенный теперь герой революционного времени, прочитавший одну умную книжку про революцию. По натуре своей совсем не злой и не жестокий человек. Теперь Ермишка очень часто забывает о том, что он красный, о том, что пришел «последний и решительный бой», и вдруг в своих воспоминаниях начинает хвалить какого-нибудь буржуя или бывшего начальника из «старого мира».
– А вот был у меня приятель, жандарм на станции, – вот был человек! Мало теперь таких. Женился это он на телеграфистовой дочке, на Машеньке. И так это они любовно и согласно жили, что смотреть со стороны было хорошо. И вот как Машенька от родов померла, он сперва пил водку, потом бросил и в монастырь постригся. Ей-Богу! Молодой еще, а так решил, что нет Машеньки – одно утешение пост и молитва…
– Ну и что же?
– Убили, царство небесное… – со вздохом говорил Ермишка и жалел: – Зря убили: вступился не в свое дело, деньги монастырские, то есть кассу на руках имел, а грабить пришли. Ну и убили… Да, жалко. Ребеночек от Машеньки остался. Как в монастырь уйти, он его целовал-целовал, а потом это отдал бабке, махнул рукой и пошел в монастырь… И так, братец, все жалели, что которые плакали… Сирота теперь, круглая. Ни отца, ни матери. Верующий был…
Тут Ермишка задумался, поник головой, а потом спрашивает:
– Есть Он, Бог, или попы обманывают, – как узнаешь? Это, конечно, правильно говорят, что Бога никто не видал, а вот пуля летит… тоже, ведь, оно не видно. А кокнет невидимо – и готов!..
В такие моменты можно было говорить с Ермишкой обо всем: о Боге, о совести, о справедливости.
Но как только поднимались разговоры о политике и Ермишка перевоплощался в героя революционной толпы, он снова подпадал под власть «Зверя из бездны», и лазарет превращался снова в толпу одержимых кровожадной манией идиотов. Ермишка выдвигался в «олатыри», как здесь назывался митинговый оратор, и начинало казаться, что в Ермишке воплотился весь логический и душевный хаос, вызванный революционной бурей в голове народа. Речи Ермишки состояли из бессмысленного набора партийных лозунгов, иностранных слов, перековерканных научных терминов и выражений. Во всю эту бессмысленную галиматью «олатырь» Ермишка вкладывал какой-то особый смысл, и – что всего удивительнее – Ермишку понимали и зажигались от этого набора непонятных слов революционным пафосом. Боже, что говорил Ермишка, этот мягкий и добрый по натуре парень, недавно еще умилявшийся над сентиментальной любовью жандарма к Машеньке! Говорил не злым, а самым мягким и добрым голосом, словно отвечал заученный урок, отвечал без запинки: «Всех буржуев надо убить, оставить только крестьян и рабочих!»… «Не трудящий не ест!»… «Все города надо взорвать или срыть и на их месте завести инстинктивное хозяйство на принципиальных началах»… «Отрясем прах на интернациональных ногах! Отберем прибавочную неустойку. Смерть капиталу! Золотые или бумажные деньги – это обман народа империализмом с Антанты. Без аннексий и контрибуций! И если ты гражданин нового мира, то пожалуйте: пейте и кушайте и все прочее по ярлыкам или по революционной совести, без всяких денег, потому инстинктивное хозяйство на принципиальных началах. Пролетарии всего мира, объединяйтесь под красным знаменем национализации и социализации человечества!»…
И вот Ермишка в красном преображении. Он маньяк революции, он уже не поддается голосам совести, жалости, для него нет никаких сомнений и вопросов справедливости и Божьей правды. Чувствуя себя революционным героем, он хвастается окружающим своими революционными «подвигами»: захлебываясь от интереса, он рассказывает товарищам, как изнасиловал барышню, дочку помещика:
– Красивенькая из себя… Все на музыке играла… Как это запалили у них дом, они и начали метаться. Испугались, конечно, что убьем. Кто – куда. Ну, вот, хорошо. Утром я пошел в барский лес – а рано было, чуть только светать стало – гляжу – в кустах под березами что-то белеет. Вроде, как снег. Что, думаю, за диво? И снег-то не выпадал еще, в сентябре было. Неужели, думаю, от прошлой зимы остался? Подхожу это поближе – человек лежит: ноги в полусапожках из кустов торчат. Я еще ближе. Гляжу, а это наша барышня, Лёлечкой называлась, спит. А кофта-то расстегнулась, и титьку видать. Махонькая. Вроде как репа с земляничкой-ягодкой…
Тут рассказ Ермишки прерывается радостным и мерзким гоготаньем слушателей. Слышатся восторги от такого удачного сравнения…
– Ну, товарищи, тут меня и смутило. Почему, думаю, теперь равенство и свобода, а я не могу, а барин нужен? Теперь поравнение всех прав, равная и тайная. Огляделся – никого нет, тихо в лесу. Подполз это я к ней вплоть и лег рядком да за титьку-то ее.
Тут снова гоготание, восторги и смакование момента.
– Проснулась это, глаза раскрыла да башкой в землю. Поджалась вся, кричит и ногами, как коза, об землю стучит. Испугалась! Потеха! А я это навалился, шарю это ее и говорю: не бойся, ничего не будет!.. С барином легла бы, а с мужиком брезгуешь? Почему такое? Разя мы, мужики, не люди?
– Правильно, товарищ! Прошло оно.
– Лучше, говорю, не кричи, а то вот как! Тут я вытащил одну руку да в шутку ее за шею и давнул маленько. Что такое? Сразу затихла, вроде как кончается. Думал, задохлась. Повернул я ее вверх брюшком, а она и руки и ноги врозь, глаза закатила, а живая: титька-то прыгает да еще пуще дразнится… Ну, что же тут?.. Ну, я ее и тово…
– Ах, сволочь! Счастливый какой…
– Ничего не составляет, товарищи. Моя Грунька была куда слаще.
– Не померла все-таки?
– Ни Боже мой. Ничего. Пришла в себя, села, в травку глядит и платьице ручкой застегивает, пуговки эти самые… Даже и не заплакала… Постоял это я, плюнул да пошел…
Все одобряли и завидовали. Только солдат Спиридоныч, слушая рассказ Ермишки, хмуро смотрел в землю, раздумчиво покачивал головой, а после вздохнул и произнес:
– Как собаки вы стали…
Спиридоныч вообще был молчалив, задумчив и туго поддавался революционному пафосу. Он был много старше всех окружающих и как-то обособлялся от них своей склонностью к порядку, тишине и самоуглубленности.
– Хотя вы и товарищ, а все-таки… пакостник ты, – тихо отозвался потом Спиридоныч на геройский подвиг Ермишки.
Тот обиделся:
– Это почему же, товарищ?
– Кобель!
– Это ты насчет барышни, что ли?
– Насильничать – такого декрету нет.
– Охотой-то ни одна девка в первый раз не дается. Сперва-то всегда насильно приходится, дурья твоя голова. Ты, видно, на вдове женился?..
– Кобель! И говорить с тобой неохота.
– А что ей сделалось? Почему барину можно, а мне нельзя?
– Как собаки мы все стали… Как собаки!.. – самоуглубленно шептал Спиридоныч и опять тяжело отдувался. Точно его что-то давило, тяга какая-то невидимая.
Входила тихой поступью сестрица, и вызванные рассказом Ермишки разговоры пакостные сразу обрывались. Точно входила сама совесть: всем вдруг делалось неловко. Почему это? Не потому ли, что появление этой женщины, в душе которой горел огонь человеческой любви, сразу освещало темную бездну ненависти, и люди инстинктивно начинали понимать мерзость свою?
– А вот ты расскажи-ка сестрице про барышню-то! Что она тебе скажет? – говорил Спиридоныч Ермишке. Тот ежился и напоминал провинившуюся собаку.
– Будет тебе… помолчи уж! – просительно говорил Ермишка и виновато топтался, стараясь не смотреть в сторону сестрицы. Ермишка сразу терял уверенность в своих революционных принципах и переставал чувствовать себя героем. А ночью он уже возился на койке и спрашивал:
– Не спишь, Горленка?
– Нет, а что?
– Не спится что-то. А что я хочу спросить тебя: ежели теперь у барышни той… родится, стало быть, младенец…
– Ну! Сын твой от насилия?
– Будет она, барышня, его любить, хотя он… от мужика, то есть от меня?
– Думаю, что будет. Матерью ему будет. Материнская любовь ничего не боится.