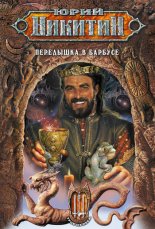Вот идет Мессия!.. Рубина Дина

Она была абсолютно нормальным человеком. В общепринятом смысле, конечно. Как говорит Доктор – ну что вы заладили, батенька, – сумасшедший он, сумасшедший… Может, он и сумасшедший, но ведь мыла-то не ест? Мыла она не ела. Но втайне за любым писателем, и за собой в том числе, оставляла право на некоторые – не извращения, зачем же, и не отклонения, а, скажем так, – изыски психики.
Да взять хоть вчера.
На террасе у Сашки Рабиновича они, как обычно, наслаждались вечерним ветерком из Иерусалима, расслабленно перебрасываясь замечаниями и лузгая тыквенные семечки, которыми торгует рыжая сушеная Яффа в своем паршивом минимаркете. Сангвиник Рабинович вернулся на днях из Праги, где пытался наладить какой-то очередной утопический бизнес.
– Нам всем надо скорей перебираться в Прагу, – говорил он, бодро лузгая семечки. – И язык родственный. «Жопа» по-чешски будет «сруля», так что база языка уже есть…
Доктор вяло возразил, что, насколько ему известно (у него был чех-пациент), «жопа» по-чешски будет не «сруля», а вовсе «пэрделэ», на что Сашка ответил, что так еще выразительней и лучше запоминается.
– А вот у меня есть пациент, – вступил своей неутомимой валторной Доктор, – так он создает сейчас альтернативную Русскую партию. И знаете – каков основной пункт предвыборной программы?
– Отнять земли у кибуцев и раздать новым репатриантам, – предположил Сашка.
– Если бы! Основной пункт – освобождение Израиля от коренных израильтян.
Все дружно ахнули, посмаковали, полюбовались этой изумительной идеей.
– Да-да, у него все записано. Точно не помню, но смысл таков: только эта Великая алия, в основе своей антиизраильская, которая в гробу видела это идиотское государство со всеми его идеалами, только она способна вытащить страну на новые рубежи. Это ее последняя надежда. Все предыдущие волны репатриантов не стоили ничего, и ничего не добились только по одной причине – они не стали в конфронтацию к обществу и государству.
– И что ты ему прописал? – спросила писательница N.
Тут появилась Ангел-Рая с очередной сушеной воблой. Ангел-Раю всегда сопровождает по жизни стайка сушеных вобл. И тут вот такая Любочка Михална, так ее и называла своим жалобным колокольчиковым голоском Ангел-Рая.
Под Любочку Михалну предупредительный Сашка немедленно подставил стул. И сначала все подумали, что вечер испорчен. Такая себе педагог с тридцатипятилетним стажем, разговаривает директивным тоном классного руководителя. И вот этим тоном она и говорит – мой внук, говорит, один из самых знаменитых сутенеров Голливуда. Профессия, как вы сами понимаете, не для слабонервных!
И все они: и Сашка, и Доктор, и остальные – восторженно с бабкой согласились, а Доктор еще и подмигнул – мол, а старушонка-то в порядке! Спустя минуту выясняется, что старая корова имела в виду профессию каскадера. И вот – от чего зависит настроение писателя: услышала от карги о сутенере-каскадере, записала украдкой в блокнотик – и весь вечер пребывала в дивном настроении.
…Она завернула краны, вылезла из ванны и прямо на мокрое тело набросила длинную и широкую майку старшего сына. Вымахал бугай под два метра, а как был очагом землетрясения в семье, так оно и по сей день. Впрочем, курс молодого бойца – первые несколько месяцев в армии – он прошел благополучно, без истерик и взбрыков, обычно сопровождавших любое его действие. Уверял даже, что он – лучший ночной стрелок в роте.
– Что значит – ночной стрелок? – насмешливо спросила мать (это было месяца через два, как сын ушел в армию, она уже попривыкла и спала без снотворного). – Есть такая опера – «Вольный стрелок», есть, опять же, такое удобство – ночной горшок. Но смешивать два этих ремесла…
Впрочем, ему не привыкать к ее насмешкам.
Из школы его попросили месяца за три перед получением аттестата. Он, как выяснилось, полюбил прогулки по Иерусалиму (занятие, спору нет, познавательное). Выходил из дома в семь утра – как бы в школу, возвращался в четыре – как бы из школы.
Вскрылось все в свое время. Звонок учительницы: почему Шмуэль (она говорила «Шмулик», все они здесь шмулики, шлемики, дудики, мотэки. Хотя, как это ни смешно, старшего сына в семье с детства звали именно Шмуликом, он был назван Семеном в честь покойного прадеда Самуила. По приезде сюда домашняя кличка мальчика естественным и гордым образом перевоплотилась в имя, и не в худшее имя великого пророка Шмуэля), – почему Шмулик уже два месяца не ходит в школу?
Как не ходит?! Что, где?! Ах, ох!! Да нет, конечно, никаких «ах» и «ох» не прозвучало – она старый боец, закаленный в передрягах, которые всегда в изобилии ей подсудобит этот мальчик. Она выслушала учительницу, роняя только – да, нет, да-да, вот как… с силой гоняя желваки, как поршни, словно хотела искрошить зубы в порошок.
К экзаменам на аттестат он, конечно, допущен не будет, добавила учительница, ну ничего, он сможет подучиться в армии и там же сдать эти предметы. Ты же знаешь, мотэк, – у нас человека не бросят.
Да, конечно, сказала она, я знаю…
Так передай привет Шмулику, удачи ему.
Обязательно передам, пообещала она.
Бить его она уже не могла. Во-первых, не было сил, во-вторых, она уже не доставала до его физиономии – он высокий красивый мальчик. В-третьих, в последнее время он научился держать оборону, выставляя острый железобетонный локоть, о который она безуспешно и очень больно колотилась, ну, и так далее.
Проблему избиения малолетних обсуждать не будем.
Каждый со своей бедой справляется по-своему…
…Да, а вчерашнюю-то воблу, Любочку Михалну, Ангел-Рая притащила, оказывается, не просто так, а знакомиться с писательницей N. Любочка Михална, как выяснилось, – как же, как же, – читала, и даже вырезала много лет (!) публикации ее рассказов и повестей. Даже сюда привезла. Собрание сочинений Лескова, поверите ли, оставила там, а вашу тоненькую книжку, такую синенькую, привезла. (Лучше бы все-таки ты Лескова привезла, старая идиотка.)
Синенькая тонкая книжка, состоящая из розовых соплей придурковатого отрочества, вышла чуть ли не в 74-м году. Когда писательнице N. о ней напоминали, ее трясло от злобы.
– Ну никогда бы не подумала, что вы такая еще молодая и такая хорошенькая!
– Она у нас пусечка! – встряла Ангел-Рая. Подожди, душа моя, скоро тебе пусечка в копеечку покажется.
– Я ж вас читаю чуть ли не тридцать лет! – Старушка зашлась. Надо остановить эту торжественную надгробную речь.
– Просто я печаталась с младшей группы детского сада, – объяснила она сухо.
– Но какая удача, что мы разговорились о вас с Раечкой. Она ведь моя ученица, знаете. Она настоящий ангел! И вдруг я узнаю, что вы здесь живете! Как – прямо здесь?! Я даже ахнула и не поверила!
– Ну почему же, – вежливо удивилась писательница N., – ведь где-то ж я должна жить.
– А я говорю: веди меня, Раюша, у меня есть для нее сюжет.
Та-ак… начинается…
– Очень интересно, – проговорила писательница N.
И за это выслушала миллион восемьсот тысяч двести пятьдесят третью историю о расстрелянной гитлеровцами сестре Фирочке, упавшей в яму и засыпанной землей. На рассвете ее – по шевелящейся глине – откопал какой-то белорусский крестьянин и укрывал в хлеву со свиньями до конца оккупации. Сейчас сестра в Бостоне, у нее, слава богу, большое ателье мод. Вот как раз она-то – родная бабушка того суте… каскадера.
Все правильно, Любочка Михална, советский педагог. Потому он и каскадер, что бабушку его пятилетнюю во рву расстреляли. Потому и все мы тут – каскадеры. И государство это – вечный каскадер. Только вот от кина подташнивает…
Между прочим, выслушивая историю о расстрелянной Фирочке, писательница N. в темноте прослезилась настоящими слезами.
Проклятое профессиональное воображение: мгновенная, натренированная годами и уже бесконтрольная мощь творческой эрекции, воссоздание яркой, и даже более яркой иной реальности с запахами, мимикой лиц, суетней жестов, безнадежными старческими хрипами, ощущением скользкой, холодной весенней глины, кишащей дождевыми червями… И маленькая девочка, оглушенная залпом, – нет, это ее пятилетний сын, оглохнув, раскрыв рот, валится навзничь в сырую, воняющую известью яму… Боже, боже! Как страшно жить…
Ее саму всегда поражал этот феномен. Ее одинокий злой ум, ее въедливый глаз, ее прикус вампира и волчий азарт преследования дичи существовали в таких случаях отдельно, а вот эти бабьи слезы, которые, сглатывая, она проталкивала в горло, – отдельно. И это было всегда, и в тысяча восемьсот седьмой раз было бы то же самое, и она знала, что против расстрелянной немцами пятилетней Фирочки она просто бессильна…
Слушая историю, все на террасе умолкли. Доктор погрустнел и кивал головой, а Сашка сказал – вы бы написали об этом в Ядва-Шем.
– Этот уникальный сюжет, – старуха преданно уставилась на писательницу N., – я должна была подарить только вам!
– Я вам страшно благодарна, – сказала та проникновенно. Нет, не буду я писать о Фирочке. И не только потому, что никогда не пишу о том, чего не знает собственная шкура. Но и потому, что не пользуюсь дареным. Я пользуюсь только награбленным. Я, дорогие мои, – бандит с большой дороги. И самое страшное, что я абсолютно в этом бескорыстна.
– Мась, по-моему, ты должна написать про это роман, – сказала Ангел-Рая. Вот одарил же Господь этаким голосом: переливы арфы, музыка небесных сфер. – Ведь правда, мась?
– Конечно, Раюсик, – ласково ответила писательница N. Вот о тебе я напишу, мой ангел!
…Из ванной писательница N. прошлепала босиком в кухню, приняла третью за утро таблетку от головной боли и, протерев тряпкой клеенку на столе, раскрыла толстую, в клетку, еще советскую общую тетрадь – 96 листов, цена 44 копейки. Она никогда не начинала новой вещи ни на машинке, ни – сейчас уже – на компьютере: свято верила, что правая – несущая – рука должна бежать или тащиться по клеткам страницы в одной упряжке с бегущей или тянущейся мыслью.
Месяца три уже она думала о новом романе, в котором собиралась – конечно, под вымышленными именами, конечно, не буквально, конечно, в иной, более острой и гротескной плоскости – изобразить некую клубящуюся вокруг странную реальность.
Вот что было главным компонентом в этом диком бульоне, что придавало ему вкус неповторимый, подобный вкусу того сказочного супа, в который волшебница добавляла заколдованную травку: нестерпимость вечного ожидания… Возьми любого, на кого упадет взгляд, – все напряженно ждут чего-то. Причем каждый своего: кто-то ждет результата очередной биржевой операции, кто-то всю жизнь с ужасом ждет банкротства, кто-то в тихой упорной уверенности ждет, что его выгонят с работы, кто-то ждет кардинального поворота дел. Левые ждут, что оправдаются и принесут мир тяжелые территориальные, моральные и национальные потери, которые несут евреи в ходе переговоров с арабами. Правые ждут падения левого правительства. Поселенцы предрекают и ждут неизбежную войну. Ну а весь народ, по своему обыкновению, ждет Мессию.
Персонажей вокруг вертелось навалом, хоть поварешкой черпай. Не было только героя. Или героини. Она приглядывалась к Ангел-Рае… Пока же записывала коротенькие мысли, наметки, обрывки сюжета, кусочки диалогов… Некую зыбкую массу, питательный бульон. Завязывалось. Она чувствовала, что завязывается, и боялась спугнуть…
Она поднялась, прошлась по кухне, подошла к окну.
Вниз под горку уходили черепичные крыши русского квартала «Маханэ руси», что переводилось как «Русский стан». Маханэ ты моя, Маханэ, оттого, что я с Севера, что ли…
Любопытная публика населяла этот квартал. Все эти университетские супермены-интеллектуалы когда-то в семидесятых ринулись в иудаизм, подгоняемые своими русскими женами. Нельзя не отметить, что одной из важнейших к тому мотивировок была: «А кому бы здесь рожу начистить?» Некоторые даже успели отсидеть чуток по этому поводу. Потом Союз пошел трещать, гулять и ходуном ходить, и сионистов отпустили восвояси, что было не так уж и глупо: из корзины воздушного шара, со страшным свистом выпускающего воздух, первым делом выбрасывают балласт.
Любопытнейшая публика. Возьмем Ури: русский человек, причем из лучших, породистых представителей нации. По слухам (а может, это и анекдот), проходил гиюр несколько раз. Говорят, всякий новый раввин, взглянув на него, понимал, что этот гой хочет любыми путями вырваться в Канаду, и заявлял, что не признает предыдущего гиюра. Последний раз Ури прошел гиюр у ультраортодоксального раввина в Меа-Шеарим. Это все равно что креститься у папы римского. Зато уж после этого «досы»[5] приняли Ури в свои объятия. Что да, то да. Что есть, то есть: у евреев не принято напоминать человеку, что когда-то он был неевреем. Считается, что у всякого в прошлом могут быть те или иные неловкости и не очень красивые обстоятельства…
Второй с краю виднелась крыша Сашкиного коттеджа, за ним – докторский, пятый с конца – коттедж Ангел-Раи.
Ангел-Рая…
Вот, извольте, жила-была девочка… по ее собственному уверению – рядовой библиотекарь районной московской библиотеки – кажется, Краснопресненской. (Известная писательница N. в свое время выступала в библиотеках по линии Бюро пропаганды писателей. В Краснопресненской тоже, было дело, выступала. Ангел-Раю… нет, не помнила.)
Могло ли быть такое, чтобы сирая библиотечная пташка, книжная краснопресненская моль обернулась здесь всеблагой Жар-Птицей, семикрылым серафимом, являющимся на всех, без исключения, перепутьях, перед всеми, без исключения, томимыми жаждой? Вряд ли… Тогда откуда она, с вашего позволения, взялась – Ангел-Рая?
Нет, существовал и общепризнанный апокриф: в дирекцию Духовного Центра Русской Диаспоры лет шесть назад – в самом начале Большой алии – явилась обаятельная молодая женщина и предложила основать библиотечку для новых репатриантов (маленькую, скромную, по запросам пенсионеров, чуть ли не переносную аптечку). Знаете, много пенсионеров приехало, жаль старичков – им уже не войти, не влиться в общество, что ж им – помирать раньше времени?
Словом, такая вот благотворительная манная кашка.
Дирекция – а это были два добрых молодца, Митя и Мотя, получающие добрые оклады и на ниве своей культурной деятельности желающие только одного: ничего, – вяло полюбопытствовала: зачем еще это?
– Как зачем? – светло удивилась луноликая. – Чтобы людям было куда прийти.
Митя и Мотя, ослепительные мудозвоны, вообще-то считали, что людям и без того есть куда прийти – ведь бар Духовного Центра работал с утра и до поздней ночи. Они помялись, переглянулись…
Целыми днями они сидели в обклеенной афишами продымленной комнатке под лестницей, курили, трепались по казенному телефону и спокойно ждали, когда явится очередной извозчик с очередной знаменитостью в пролетке и снимет зал по семьсот шекелей за вечер.
Ясный взор молодой культурницы обещал им беспросветные и бесконечные хлопоты, а возможно, и дальнюю дорогу (как оно впоследствии и оказалось), но обаяние ее улыбки было не обычного, а какого-то радиоактивного свойства. И, превозмогая себя, чуть ли не в корчах, чуть ли не предощущая свою кончину, они выделили для новорожденной библиотечки закуток, комнатку метров в двенадцать. А чё – пусть старперы радуются, в самом деле.
– Но никаких субсидий на приобретение фондов не ждите, – предупредили строго Мотя и Митя.
– Я свои книжки принесу, – успокоила их она, – у меня есть, двести пятьдесят штук.
И те успокоились, дурачье…
Уже через какое-то плевое количество дней выяснилось, что к этой молодой женщине (этому ангелу, сущему ангелу, всех обнимающему своими светлыми крылами), как муравьи к начавшему строиться муравейнику, потянулись самые разные люди. Старички, привезенные на Святую землю в молочном возрасте – отпрыски купеческих, адвокатских и врачебных еврейских семейств Москвы и Петрограда, – перед лицом грядущей кончины принялись наперегонки дарить новорожденной Русской Библиотеке Иерусалима, – да нет, не библиотеке, а ей, Ангелу нашему, – сотни уникальных изданий, вывезенных из России в начале века.
Народная тропа весьма скоро была основательно утоптана, обрела тенденцию к разрастанию в широкий тракт, в скоростное шоссе, во взлетную полосу.
И Ангел-Рая взлетела…
Вскоре Библиотека насчитывала три тысячи томов, открылся отдел редкой книги, букинистический отдел. Ангел-Рая незаметно вытянула из широких штанин «Кворума» три или четыре библиотекарские ставки, благоустроила на них каких-то своих неимущих девочек-одиночек.
Заколосилась читательская нива, организовались какие-то творческие встречи кого-то с кем-то… Очнулись от обморока эмиграции старые профессора, филологи, теоретики литературы и искусства, музыковеды, востоковеды, лингвисты, специалисты по истории Древнего мира и Средних веков, и невозможно перечислить – по чему еще! Образовался целый корпус профессуры. И каждый желал лекции читать, хоть за бесплатно… На, читай, дорогой!
Ангел-Рая ликовала, звонила каждому, приглашала на все новые и новые сходки, диспуты, лекции, концерты… Заглядывала всем в глаза и спрашивала доверчиво: «А правда, здорово, мась?»
Возникли кружки – вот как почки лопаются на деревьях, процесс неудержимый: в одно прекрасное утро проклевывается листочек… Дети ведь должны рисовать, это полезно, это развивает видение мира… Разве мы допустим, чтобы наши дети… Да, ну и хор, конечно, нет у нас непоющих детей…
Так что срочно требовались помещения.
Как это делается – известно: Большое Ходатайство припадающей к стопам Власти русской общины за несколькими сотнями подписей. «Развитие и сохранение культуры страны исхода… духовные запросы… интенсивная интеллектуальная жизнь… высокий культурно-образовательный потенциал Большой русской алии…»
(Называется здесь это деловито-слезное прошение почему-то «проектом». Это удобно: такой невинный проект под условным названием «Как зарезать и освежевать двух идиотов, которые сами себе могилу выкопали»)
Власти (родимый «Кворум», матка боска, развесистые титьки) пораскинули, прикинули и решили – а что б не дать? Составлено красиво…
По истечении весьма небольшого срока два хладных трупа, выброшенные бушующими волнами океана общественной жизни на поверхность вод, плавали с окоченевшими от оторопи физиономиями, уже не привязанные, как и подобает покойникам, ни к культуре, ни к окладам, ни к каким бы то ни было духовным центрам. Кажется, один из мудозвонов – то ли Митя, то ли Мотя – занялся распространением нового уникального препарата «Группенкайф», второй открыл кабак для русских паломников – «Гречневая каша». Собирался, по слухам, и впрямь кормить паломников гречневой кашей (интересно, за кого он их принимал?). Но прогорел. Неважно. Дальше…
А дальше все интереснее и интереснее. Многие прихожане-обожатели полагали, что Ангел-Рая-то сейчас по праву и возглавит Духовный Центр. Глупые, вы бы ей еще прачечной командовать предложили. Центр возглавил какой-то мальчик (Левинька? Гришенька? Володечка?), их много у нее по карманам было распихано, и жизнь в Духовном Центре пошла широкая, вольная и чрезвычайно интенсивная.
Ну а она, Ангел-то наш, основатель культурной диаспоры, глава и источник, – она-то что?
Она улыбалась и стеснительно говорила, рассыпала горстями ксилофонные звоночки своего небесного голоса: «А что – я? Я – простой библиотекарь…»
Потом вся эта кипящая каша созрела, разбухла и полезла, как из кастрюли, из узкого и тесного здания Духовного Центра, расползлась по разным уголкам города, освоила залы, зальчики, подвалы и клубные помещения… Ангел-Рая брала все, что предлагали, ни от чего не отказывалась – там две комнатки на чердаке, там – закуток в бомбоубежище… все хорошо, все кстати. Здесь мы организуем детскую студию художественной лепки, а там – лекции по икебане. Для пенсионеров. Это успокаивает – икебана лучше, чем вязание.
И все это возглавляется какими-то, из-под полы ее юбки, из-за пазухи, из рукава выглядывающими вдохновенными подвижниками, согласными работать за три копейки, а то и за теплое спасибо. Однако все знают, что эти подставные директора-подвижники – дело десятое. Все знают, кому в случае чего звонить, кого просить и кто поможет – она, она, светлейшая!
Вот так, между прочим, создаются империи… А вы как полагали?
Ну а что касаемо представительства, то все залетевшие сюда сдуру, по неопытности, от усталости или по старости известные люди, конечно же, ею пронумерованы и прижаты к груди. Приколоты к нежному бюсту, как блестящие брошки. Все присутствуют на торжественных открытиях, закрытиях, учреждениях, присвоениях…
Она всех собою обволакивает. Да и прикиньте – сколько их здесь, знаменитостей? Раз, два и обчелся, товар штучный. Хотя, с другой стороны, ситуация проживания в крошечном замкнутом обществе чревата обветшанием имиджа. Пропадает куда-то у восторженных масс пиетет, дистанция. Большое, как известно, видится на расстоянии, а расстояния-то здесь кот наплакал, из конца в конец страны на автобусе пять-то часиков. Поневоле большое раздражает, загромождает, хочется его отодвинуть, задвинуть в угол, наконец, отдать кому-нибудь, сирийцам, что ли…
Иногда вот задумаешься и даже испугаешься: а чего ж она, Ангел-Рая, в конце концов, хочет? Ну не миром же, в самом деле, править? Хотя еще пару-тройку таких вот ангелов… и чем вам не заговор сионских мудрецов? Кроме шуток. Зайдешь к ней по соседству – она, лапонька, сидит на краешке дивана, в халатике, старательно красит перед зеркалом ресницы и светло так говорит: «А у нас вчера было открытие «Клуба любителей оперы». Правда, здорово, мась? – Снимет мизинцем с ресницы излишек туши и добавит: – Я люблю, когда всем хорошо… Главное, чтоб людям было куда прийти».
Загадка. Вот как хотите – загадка!
Писательница N. выпила воды из крана – о, какая мерзкая вода в этой земле, текущей молоком и медом! – раскрыла тетрадь и написала: «Ангел-Рая. Крошка недюжинного, государственного ума. Женщина-учреждение. Канает под кошечку. Ходит, вертит задом – настоящим задом старинной ручной работы. Сейчас таких не делают. Сейчас редко встретишь женщину со столь добротным обоснованием всего сущего на земле… Вообще – Ангел с нежнейшим голосом. Любит быть в курсе не то что всех событий и веяний, но стоять у истоков, зачинать, держать в руках нити, поворачивать штурвал, греть под крылом, высиживать, сладко интриговать, нежно, не больно убивать соперника, да и не убивать вовсе (что это я!), а растворять в некоем вязком сиропе, тихо помешивая ложкой варево, напевая при этом колыбельную песнь. Обладает способностью возникать одновременно в нескольких местах».
Зазвонил телефон. Опять она забыла отключить это проклятье цивилизации! Ну, подойти или не подходить?
Она пропустила звонка два-три, надеясь, что муж сжалится над ней, подойдет к телефону и защитит, отгонит, как комара-кровососа, очередного знакомого-приятеля-автора-старушку.
Конечно, не подошел, эгоист несчастный.
Телефон звонил. Она притащилась в комнату и сняла трубку.
– Мамка! Только не перебивай и не пугайся! – торопливо и жалко, и как-то сдавленно проговорил ей в ухо, и, как ей показалось, прямо в больной мозг голос старшего сына. Она рухнула в кресло рядом с телефонной тумбочкой.
– Где ты?! – спросила она.
– Только не кричи… я сбежал из армии… Все, надоело! Я… я не хочу… эти проклятые грузовики… я не могу… я ему сказал, что…
– Свола-а-ачь!! – заорала она страшным утробным ревом. Так она не кричала даже тогда, когда рожала этого крупного и по сей день бессмысленного ребенка. – И-ди-о-от!!! Говнюк паршивый!
Грохнув мольбертом, выскочил из мастерской муж, обхватил ее трясущиеся плечи, сжал. Он сразу все понял, чего уж. Сын был такой. Сюрпризник.
– Тебя посадят в тюрьму, паскуда, дерьмо собачье!!! – орала она исступленно.
– Мамка, спаси меня… – плачущим голосом проговорил он.
Сердце ее оборвалось.
– Где ты?
– Здесь, рядом с воротами базы. Я сказал, что выйду за сигаретами.
Ну, не болван? Она физически ощутила, как разжались, распустились сведенные в судороге внутренности.
– Сынок! – проговорила она негромким командным голосом. Руки ее тряслись. – Успокойся и немедленно вернись на базу… Я выезжаю сию минуту. Я все улажу… Не бойся! Все будет хорошо…
Потом она металась по дому в поисках чистой блузки и немятой юбки, и муж, чувствуя себя бесполезным (он плохо говорил на иврите, и к тому же должен был встретить из школы младшего), виновато помогал ей застегнуть тесный лифчик.
Потом она умылась, припудрила истерзанное лицо, выпила еще одну таблетку от мигрени и, прихватив сумочку, выбежала из подъезда в адово пекло, жарь и муть, безвоздушное пространство хамсина.
Муж глядел из окна, как она шла через дорогу к остановке автобуса. Ей предстоял долгий и кошмарный путь – с несколькими пересадками и ловлей попуток под солнцем, на грохочущем грузовиками перекрестке – на военную базу, куда-то под Ашкелон.
Писательнице N. – и надо сказать, известной писательнице – предстояли сегодня немыслимые унижения.
5
Тель-Авив отличался от Иерусалима куда больше, чем может отличаться просто приморский пальмовый город от хвойного города на горах. Здесь по-другому текло время, иначе двигались люди. Они иначе одевались – будто невидимое око, что вечно держит стражу над Иерусалимом, здесь опускало веко и засыпало, позволяя обитателям побережья жить так, как в Иерусалиме жить просто непозволительно. Оно до времени спускало им многое, чего бы не спустило жителю Святого города, вынужденного дышать разреженным воздухом над крутыми холмами.
Иерусалимцы, когда им нужно было съездить по делам в Тель-Авив, говорили: «Сегодня я должен спуститься». Тель-авивцы не представляли, как можно жить в городе, каждую минуту предъявляющем тебе счет к оплате.
Зяме нравились только тель-авивские старухи с их аккуратно подбритыми, седыми волосами на морщинистых шеях, похожих на растрескавшуюся летом глинистую почву – такыр, с их малиновым маникюром на пальцах, с шестизначными лагерными номерами, выколотыми на дряблых руках.
Возвращаясь с работы, Зяма свободно вздыхала лишь тогда, когда автобус въезжал в «Ворота ущелья», откуда начинался подъем в город по Иерусалимскому коридору.
Отсыпалась она обычно в автобусе, на обратном пути в Иерусалим.
Кайф прилипшей за эти несколько лет привычки: вскарабкаться по неудобной угластой лесенке на второй этаж, при этом непременно получив по зубам стволом «узи», свисающим с мясистой задницы какой-нибудь восходящей впереди тебя солдатки.
Второй этаж – мечта идиотки: умоститься в ворсистое кресло у окна и задремать… Уснуть. И видеть сны.
И дремать на всем протяжении пути, блаженно ощущая безопасность дороги.
Впрочем, относительную безопасность. Года за полтора до их приезда на этом шоссе Тель-Авив – Иерусалим, на участке горного серпантина, погибла тьма народу вот в таком автобусе. Дело обычное: террорист вырвал у водителя руль и направил автобус в пропасть. Ну, и так далее.
И все-таки. Все-таки это вам не разбитая дорога через арабскую деревню Аль-Джиб…
Забавно, что просыпалась она на одном и том же отрезке пути, на вираже, где шоссе подкатывало и бежало несколько сот метров вдоль чудной картинки, местечка Бейт-Зайт: виллы под черепичными крышами карабкаются в лесистую гору, подпирающую Иерусалим.
Она просыпалась, разминала занемевшими руками шею… Минут через десять выскакивала из автобуса в бестолковщину автостанции, битком набитой солдатами, хасидами, нищими, широко шагающими пожилыми монахинями с опрятными лошадиными лицами; белобрысыми скандинавами, у которых со лбов и ушей свисают перевитые цветными нитками косицы. Со статными чернобородыми красавцами – священниками армянской церкви, с давно уже не новыми новыми репатриантами, что-то дотошно выясняющими у девушки в окошке информации.
Странно, что и здесь, то натыкаясь на автомат, то спотыкаясь о брошенный посреди тротуара вещмешок, она все еще физически ощущала и берегла, даже баюкала в себе это чувство личной безопасности. Странно и глупо: чуть ли не каждую неделю станцию оцепляла полиция, теснила по сторонам толпу, и люди привычно ждали, когда разберутся с очередным подозрительным тюком под скамейкой.
Ну-с, автобус номер двадцать пять до Французской горки. Вот и все.
Здесь, на развязке дорог, жизнь разделялась, как и дороги: за спиной оставались многоэтажные дома респектабельного района Гиват Царфатит, направо шоссе ныряло под новый мост и мимо белого безмятежного городка на горе – Маале-Адумим – уводило к Мертвому морю.
Прямо бежало стратегическое шоссе на Шхем, проложенное сквозь густонаселенные арабские города Рамалла и Аль-Бира. По краям этого шоссе, сразу за перекрестком, начинались виллы арабской деревни Шоафат.
Налево пойдешь… Направо пойдешь… Прямо пойдешь. В этом месте, на обочине шоссе, на асфальтовом пятачке возле затрапезной, бобруйского вида синагоги, ждали попутки жители поселений северной ветки. Сюда, к пятачку, и подкатывал автобус номер двадцать пять, и здесь, рядом с врытой в землю деревянной скамьей и телефоном-автоматом под металлическим козырьком, можно было топтаться часами. Зимой – под проливным дождем, летом – обморочно уплывая в сухом печном жару.
Номер этого телефона-автомата знали все поселенцы, на него звонили.
Вот и сейчас зазвонил телефон. Зяма сняла трубку. Детский голос сказал насморочно:
– Леу? Позови маму. Рони обкакался и плачет.
– А кто – мама? – спросила она. В трубке подумали, вспоминая.
– Мири. Мири Кауфман из Кохав-Яакова.
Она обернулась и крикнула в небольшую группку поселенцев:
– Мири Кауфман – Кохав-Яаков – есть?
Тонкая, в свободном черном платье женщина, с рюкзаком за плечами, по-солдатски отчеканив: «Я!», метнулась к телефону.
И тут подкатил красный «рено» Хаима Горка. Как обычно, Зяма обрадовалась, засуетилась, бросилась к кромке тротуара, боясь, что он ее не заметит… Но Хаим – военная косточка – как и было договорено, подъезжал обычно к условленному часу, а если и раньше, то ждал несколько минут. Но это случалось крайне редко, она всегда старалась приехать загодя, минут за десять.
Хаим громко объявил в спущенное окно:
– Неве-Эфраим! – А она уже ввалилась рядом на переднее сиденье. Сзади, пыхтя и что-то бормоча, долго приспосабливалась с авоськами толстуха Наоми Шиндлер. Наконец тронулись.
– Стоп, – сказал Хаим, тормознув и глядя в зеркальце. – Вон бежит Джинджик[6] Гросс, возьмем его. Зьяма, ну, крикни ему, он нас не видит.
Взяли запыхавшегося и довольного Джинджика – действительно красно-рыжего мальчика лет одиннадцати – Зяма не помнила, как его зовут, – пятого или шестого в семействе Давида Гросса.
Поехали… Замелькали арабские виллы по обеим сторонам дороги.
– Наоми, – пробурчал Хаим, – подними стекло, если ты не возражаешь.
Она вдруг подумала: ничего, ничего не поймешь в этой жизни, в этих людях, в этой езде с ними по этой проклятой дороге в это чертово поселение посреди арабского города, принципиально не огороженное забором. Подними стекло, Наоми, если ты не возражаешь, – бытовая, секундная просьба, коротенькое, почти бездумное движение… Если ты не прочь пожить еще, Наоми, подними стекло, пожалуйста. Если тебе неохота получить камнем в висок, Наоми, будь любезна… Чтобы отцу твоих детей не пришлось – упаси Боже! – читать кадиш по своей жене… Наоми, будь так добра… ну и так далее, возможны вариации…
Проехали поворот на Неве-Яаков, закончились дома и магазины деревни Шоафат, началась Рамалла. Если добираться на автобусе, то в этом месте, рядом с издали заметной виллой из розового камня, в автобус всегда входили сопровождавшие – два солдата с автоматами и рацией. Это место было некой невидимой границей, за которой опасность поездки признавалась безусловно существующей.
Муж всегда просил Зяму добираться на автобусе, «культурно» – с автоматчиками и рацией. Но скоро из Рамаллы выведут части ЦАХАЛа, и будет уже все одно – как добираться. Удивительно, как высшие силы, словно кожуру с луковицы, снимают упования простого смертного: упование на силу оружия, упование на здравый смысл, упование на людское сострадание, упование на чью-то добрую волю… Оставляя в итоге лишь одно: упование на волю Божью.
Как обычно, у нее непроизвольно напряглись мышцы шеи – это всегда происходило и усиливалось по мере приближения к повороту с центрального шоссе, рядом с мечетью, где, свернув, узкой, петляющей между каменными заборами улочкой машины поднимались в гору. Здесь, на вершине горы, подковой лежал Неве-Эфраим, небольшое поселение над Рамаллой.
Господи, сколько еще лет надо прожить в этом месте, сколько тысяч километров дороги намотать, чтобы не чувствовать так позорно, так жалко своей застывающей в параличе шеи? Истрепанные нервы, психоз полоумной дамочки: почему-то она была уверена, что если пуля – то непременно в шею.
В эти семь минут она старалась не думать, не концентрироваться на шее – какие-то несчастные семь минут…
– Джинджик, где ты болтался так поздно один? – спросил Хаим, делая суровое лицо в зеркальце.
– Я не один, – мгновенно, как все рыжие, залившись краской, торопливо ответил мальчик. – Я с папой, а он еще должен сделать покупки, а мне еще уроки делать, а мама сегодня родила мальчика.
Они втроем дружно гаркнули: «Мазаль тов!» – Зяма громче Хаима и Наоми, она всегда радовалась прибавлению в Неве-Эфраиме.
– Опять – мальчик?! – в притворном ужасе воскликнула Наоми Шиндлер. – Когда же будет девочка наконец?
Джинджик покраснел еще гуще и сказал:
– В будущем году, с Божьей помощью.
– Ты уже видел маленького?
– Да! – сказал Джинджик, сияя. – Он такой мотэк! Папа сказал, мы назовем его Ицхак-Даниэль.
– Замечательно, – сказал Хаим, заворачивая в улочку перед мечетью. – Всем отстегнуть ремни.
Вот эти три минуты были как три глубоких вдоха. Вдох: резкий поворот направо, магазин бытовых товаров, вилла с цветными стеклышками в окнах террасы, запущенный пустырек с тремя могилами; вдох: поворот налево, глухой забор с двух сторон, и, следовательно, возможность заработать камень, бутылку «Молотова», пулю; вдох: еще налево и круто вверх, приземистые дома с помойками, ряды оливковых деревьев, последний арабский дом, несколько метров пустой дороги и наконец ворота, шлагбаум, будка охранника: выдох, выдох, вы-ы-ы-дох…
Хаим гуднул перед шлагбаумом, в окне будки показалась белесая физиономия Иоськи Шаевича. Он махнул рукой, шлагбаум поднялся, они въехали на территорию поселения Неве-Эфраим.
– Зьяма, – сказала Наоми Шиндлер, – твой пес опять нагадил на моем участке.
– Что ты говоришь! – воскликнула Зяма, делая вид, что удивляется и негодует. – Я ему скажу!
Джинджика и Наоми высадили возле водонапорной башни, а Зяму Хаим всегда высаживал на том краю поселения, где под гору спускались ряды вагончиков. В них жили семьи, недавно приехавшие сюда и еще не вросшие в эту вершину, еще не решившие – врастать ли в это опасное место.
– Как твоя спина? – спросила она Хаима, приоткрывая дверцу машины.
– Болит, как болела, майн кинд.
– Ты был у врача? Какой они ставят диагноз?
Она так и сказала – «диагноз». Хаим знал несколько языков, она разговаривала с ним свободно, подпирая беседу, если это требовалось, подвернувшимися под руку общеиностранными словами.
– Диагноз называется «молодой-пройдет», – сказал он. Хаиму весной исполнилось шестьдесят восемь.
– Все пройдет, майн кинд, – сказал он. – Еще немного, и все пройдет…
…Вагончик этот назывался по-здешнему «караван» – как-то странно, не по делу. Но если взглянуть отсюда, сверху, на спускающиеся под гору однообразные ряды вагончиков, в воображении и впрямь возникал караван, медленно вползающий в лысое мшистое ущелье.
Вагончик, где жила ее семья, стоял у подножия горы, на самом краю поселения. Дверь распахивалась в захватывающее дух пространство далеких и близких холмов, долинок, ущелий, которые видны были разом все, – эффект здешней топографии. Например, на боку шестой отсюда, ржаво-зеленой горки, как в бинокль, видна была группа олив, издали напоминавших рассыпанные кочаны брюссельской капусты; в ясный день вокруг этих кочанов ползали букашки овец и двигалась белая точка – куфия на голове пастуха-араба.
Проклиная каблуки, Зяма стала спускаться по асфальтированной узкой дорожке круто и извилисто вниз (ей-богу, лучше б оставили первозданную тропку с кустиками по краям), а снизу, от последнего «каравана», уже бежали к ней в сумерках семилетняя дочь и собака – годовалый тибетский терьер, возлюбленный пес, – облаивая и обкрикивая округу…
6
Сашка Рабинович хотел разбогатеть. Окончательно. Чтоб навсегда забыть о деньгах, которые, в сущности, он не любил. Сашка не был алчным человеком, наоборот, его щедрость и широта славились в округе.
Редкая птица не прилетала в субботу посидеть на его террасе, полюбоваться на Иерусалим, поклевать семечки и орешки, запивая их стаканом сухого красного.
Нет, Сашка не любил деньги и никогда не знал, сколько их у него. Не интересовался. Но когда они кончались, приходилось придумывать и создавать очередной источник дохода, который со временем неизбежно иссякал.
Первые месяцы после приезда Сашка раз в неделю подрабатывал на радиостанции «Русский голос» – Всевышним. Получал соответственно – 300 шекелей в час.
Это была религиозная передача для советских евреев. Работали они на пару с Семой Бампером. Когда Сема, к примеру, читал:
– «И сказал Господь…»
Сашка вступал своим обаятельным мягким баритоном:
– «И уничтожу у тебя всяк мочащегося к стене…»
Потом загадочный американский спонсор, решив, очевидно, что русских евреев скопилось на Святой земле достаточно, перестал давать деньги на эту затею, и должность Всевышнего на радио была упразднена, хотя сам Он, да святится Имя Его, конечно же, вечен…
Затем некоторое время Сашка, как многие здесь, водил экскурсии. Он бросил это неблагодарное занятие после того, как один скандальный турист из Боярки отнял у него свою, уже уплаченную за экскурсию, десятку. Туриста потрясло отсутствие еврейского Храма.
– Что это, вот это?! – спрашивал он, брезгливо кивая на остатки Западной Стены (тоже, между прочим, не маленькие). – За что ж вы деньги-то гребете?
– Я разделяю ваше разочарование, поверьте, – с достоинством отвечал Рабинович. – Но Храм сожгли римляне в начале новой эры.
– Так предупреждать же надо!!! – оскорбленно орал тот.
Боярка, как известно, довольно крупный поселок городского типа. Но можно допустить, что вести доходят туда не скоро.
Будучи талантливым театральным художником, Сашка знал, что для всего в жизни требуются соответствующие декорации: для Любви и Смерти, для Одиночества и Пира, для Радости и Битвы. Что же касается Добывания Денег, тут нужны декорации особого рода – переносные, удобные, легко складывающиеся, многофункциональные. Тут нужен интеллект, пространственное воображение, инженерный подход к делу.
Для начала – поскольку надо же было где-то жить – он возвел декорации Дома, для чего вступил в строительный кооператив «Маханэ руси» («Русский стан»).
Ряды строящихся коттеджей этого нашумевшего кооператива и впрямь были вылитые декорации: фирма строила по бельгийскому проекту, не опробованному еще в условиях местного климата, – стены из толстой фанеры, впоследствии обложенные камнем.
Фанерная стройка произвела на будущих жильцов столь глубокое впечатление, что многие пайщики, плюнув на убытки, срочно покинули ряды «Русского стана».
Сашка же Рабинович, привыкший к условиям сцены, бродил меж фанерных щитов радостно возбужденный, ему нравилось, что на второй этаж будет вести деревянная лестница (тоже по виду и цвету подозрительно смахивающая на фанеру), что во внутренних стенах легко будет вырезать окна разных форм и размеров, и, наконец, ему нравилось то, что окружать коттедж будет полоска земли, на которой он собирался возвести декорации Сада.
На завершающем этапе изнурительно долгого (из-за отсутствия нужного числа пайщиков) строительства, когда голые фанерные щиты прикрыли плитками бело-розового, похожего на бруски пастилы, иерусалимского камня, а затем и черепицу настелили, – эти декорации, как и положено хорошим декорациям, стали удивительно напоминать настоящие дома. И хотя полки с книгами вешать на стены все-таки не советовали, а звукоизоляционную прокладку между первым и вторым этажом строители положить забыли, новоселы шхуны «Маханэ руси» с энтузиазмом въехали в свои новенькие дома и бодро принялись сажать на полосках собственной земли кусты бугенвиллеи, цветущей, как известно, избыточно яркими фиолетовыми, бордовыми и розовыми соцветиями.
Вот тут-то нужда и схватила Рабиновича за горло. У него потянулась полоса неоправданных расходов.
Взять хотя бы эту чертову террасу.
Дома кооператива «Маханэ руси», как ласточкины гнезда, лепились вверху, на склоне горы, на вершине которой и раскинулся эллипсом их городок, по сути – спальный район Иерусалима.
Из окон новеньких коттеджей открывался эпохальный вид для паломников. Масличная гора и гора Скопус лежали на горизонте, как груди, полные молока мифов и легенд. Сосками торчали на их вершинах башни университета и госпиталя Августы-Виктории. Извилисто бежала меж этих грудей дорога из Иерусалима к Мертвому морю. Она была унизана фонарями, которые с наступлением сумерек затепливались, почти сливаясь с угасающим светом дня, затем наливались топленым молоком, густевшим с каждой минутой, и вскоре сверкали во всю мочь, словно низку топазов бросили сверху на черные горы.