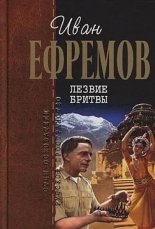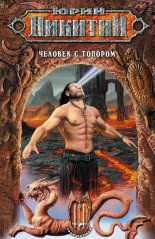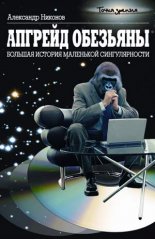Роман о Виолетте Дюма Александр
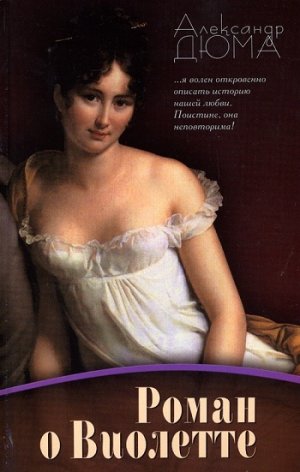
Виолетта отправилась к г-ну Х. в моем сопровождении, и я лично передал ему письмо своего друга. Прослушав три роли, он согласился со мной, что при ее способностях наибольших успехов она добьется, изображая смешное и забавное.
Он начал разучивать с ней роль Керубино. Три недели или месяц все шло как нельзя лучше, но однажды вечером Виолетта бросилась мне на шею и, покачав головой, решительно заявила:
– Я больше не хочу ходить к господину Х.
Я стал ее расспрашивать.
Произошло то, что и предвидел мой друг. Четыре или пять первых уроков учитель обходился с ученицей как с сестрой, однако мало-помалу, под предлогом, что надо научить ее согласовывать жест со словом, стал давать волю рукам, и Виолетте пришлось отбиваться от нескромных прикосновений, позволительных любовнику, но никак не педагогу.
Виолетта расплатилась за полученные уроки и прекратила эти занятия.
Нашли другого преподавателя.
Этот начал подобно своему предшественнику, и кончилось все примерно так же.
Как-то зайдя в кабинет нового наставника, она обнаружила на письменном столе раскрытую книгу, лежавшую на месте Мольера, которого они обычно репетировали.
Книга была непристойная, с бесстыдными гравюрами, и взгляд Виолетты, естественно, остановился на ней. Она называлась «Тереза-Философ».
Название ни о чем Виолетте не сказало, однако первая же встретившаяся в книге гравюра оказалась достаточно красноречивой.
Возможно, книга попалась ей на глаза случайно. Виолетта рассудила иначе и отказалась от услуг подобного наставника.
Виолетта была страстной, но не распутной. За три года знакомства мы с ней – то вдвоем, то втроем – исчерпали репертуар самых смелых любовных ласк, однако ни одной непристойности не сорвалось с ее губ.
Расплатившись со вторым преподавателем, мы задумались, как избегать впредь неприятностей такого рода.
Задача оказалась не из легких. Все обдумав, я решил подыскать педагога-женщину.
Я обратился за советом к одной своей знакомой – известной актрисе; та порекомендовала некую весьма одаренную особу, успешно выступавшую на подмостках Одеона и театра Порт-Сен-Мартена. Звали ее Флоранс. Правда, в данном случае приходилось выбирать между Сциллой и Харибдой, поскольку Флоранс слыла одной из самых пылких трибад Парижа.
Все знали, что она не желает выходить замуж и никогда не заводит любовников.
Полученные сведения я обсудил с графиней и Виолеттой.
Зная по опыту о всех неприятностях, которые несет любви рассеянный образ жизни, я ничуть не стремился расширять наш тесный союз. Но мне хотелось всячески содействовать артистической карьере своей юной возлюбленной.
После недолгих колебаний я обстоятельно побеседовал с графиней; огонек в ее глазах живо свидетельствовал, насколько взволнована она предметом нашего разговора. Итак, я склонял ее стать обожательницей знаменитой актрисы, затем представить Виолетту в качестве начинающей, в чьей судьбе она принимает участие, и, разыграв сцену ревности, строго-настрого предписать Флоранс быть сдержанной со своей ученицей.
В ту пору Флоранс была на вершине успеха – ей удалось создать сценический образ, как нельзя более соответствующий бурному разнообразию страстей, какими ее щедро наделила природа.
Графиня, не испытывая ни малейшего отвращения к роли, которую ей предстояло играть, сняла на месяц маленькую литерную ложу в театре Флоранс.
Там Одетта представала в мужском обличье – и настолько достоверно, что обмана, казалось, не раскрыл бы и Лаферрьер; ложа была устроена так, что приподняв зеленую ширму, графиня оставалась скрытой от глаз зрителей, и ее видела только актриса.
Надо признать, что Одетта была восхитительна в своем оригинальном костюме, включавшем редингот из черного бархата на атласной подкладке, брюки цвета морской волны, замшевый жилет и вишневый галстук; в сочетании с черными усиками и черными бровями она вполне могла сойти за восемнадцатилетнего денди.
Рядом с ней на стуле неизменно покоился огромный букет от г-жи Баржу, модной тогда цветочницы, и в нужный момент он летел к ногам Флоранс.
Получая в течение нескольких вечеров подряд букеты по тридцать-сорок франков, актриса наконец удостоила взором ложу, откуда они исходили.
Она обнаружила там миловидного юношу, судя по наружности ученика коллежа; он показался ей таким красивым и забавным, что у нее даже вырвалось сожаление: «Ах, не будь это мужчина!»
И на другой день, и на третий – тот же восторг со стороны поклонника, та же досада со стороны актрисы.
На пятый день в букет было вложено письмо.
Флоранс заметила его, но из безразличия к нашему полу решила, что вскроет конверт, лишь вернувшись домой.
Отужинав в грустном одиночестве, она, сидя у камина, предалась размышлениям, и тут ей вспомнилось письмо.
Вызвав горничную, она приказала:
– Мариетта, в том букете, что прислали сегодня вечером, была какая-то записка; разыщи ее.
Поскольку серебряного подноса не было, Мариетта принесла записку на фарфоровом блюде.
Флоранс развернула послание и стала читать. С первых же строк от ее былого равнодушия не осталось и следа. Вот что в нем было написано:
«Восхитительная Флоранс, пишу Вам, от стыда краснея до корней волос – не судите строго – ибо нам, жалким смертным, не миновать испытаний, назначенных судьбой. Не ждите излияний безумца, обреченного на роковую встречу с Вами. Будьте же снисходительны, каюсь – я вовсе не тот, за кого меня принимают и за кого себя выдаю: я не безумец, а безумная – и я в Вас влюблена.
А теперь поднимайте меня на смех, презирайте, отвергайте: мне дорого все, что исходит от Вас, даже оскорбления!
Одетта».
Дойдя до слов "Я не безумец, а безумная – и я в Вас влюблена ", Флоранс вскрикнула.
Она вызвала горничную, от которой у нее не было секретов, и сказала ей, сияя от радости:
– Мариетта, Мариетта, это оказалась женщина!
– Я и раньше догадывалась, – ответила горничная.
– Бестолковая! Что же ты мне тогда не сказала?
– Да боялась ошибиться.
– Ах, – прошептала Флоранс, – до чего она, должно быть, хороша!
Флоранс умолкла, словно стараясь пытливым взором проникнуть сквозь мужской наряд графини; минуту спустя она томным голосом спросила:
– Где же эти букеты?
– Госпоже прекрасно известно, что, посчитав, будто они подарены мужчиной, она велела их выбросить.
– А сегодняшний букет?
– Пока цел.
– Давай-ка его сюда.
Мариетта принесла букет.
Флоранс взяла его и, с удовольствием разглядывая цветы, произнесла:
– Роскошный букет, ты не находишь?
– Ничем не лучше остальных.
– Неужели?
– На другие госпожа даже не взглянула.
– О, к этому я не буду столь неблагодарной, – усмехнулась Флоранс. – Помоги мне раздеться, Мариетта.
– Надеюсь, госпожа не станет держать его в спальне.
– Почему бы и нет?
– Все цветы в нем издают сильный запах – что магнолия, что туберозы, что сирень; от них сильно разболится голова.
– Не страшно.
– Умоляю госпожу позволить мне унести этот букет.
– Посмей только к нему прикоснуться.
– Желаете задохнуться, сударыня, – воля ваша.
– Если можно задохнуться от аромата цветов, то не считаешь ли ты, что предпочтительнее смерть скорая, среди цветов, чем длящееся три или четыре года угасание от чахотки, которая, по всей вероятности, и сведет меня в могилу.
И Флоранс несколько раз сухо кашлянула.
– Если госпожа и умрет через три-четыре года, – рассуждала Мариетта, спуская платье по бедрам хозяйки, – то только по своей вине.
– На что ты намекаешь?
– Я прекрасно слышала, что вчера врач говорил госпоже.
– Так тебе все известно?
– Да.
– Выходит, ты подслушивала?
– Не совсем; из туалетной комнаты, где я выливала воду из биде госпожи… порой слышно даже то, к чему не прислушиваешься.
– Допустим! И что же он сказал?
– Он посоветовал госпоже больше не действовать в одиночку, а лучше завести двух или трех любовников.
Флоранс поморщилась от отвращения.
– Не выношу мужчин, – и сладострастно понюхала букет графини.
– Не удобнее ли госпоже присесть, пока я снимаю чулки? – услужливо предложила Мариетта.
Флоранс молча присела, погрузив лицо в цветы.
Она машинально дала себя разуть, а затем вымыть ей ноги в воде, куда Мариетта добавила несколько капель вытяжки «Тысяча цветов» Любена.
– Какой эссенцией госпожа прикажет надушить воду в биде?
– Той самой, что любила незабвенная Дениза. А знаешь, Мариетта, вот уже полгода я остаюсь ей верна.
– В ущерб собственному здоровью.
– О, я вспоминаю о ней, делая вот так… а в миг наслаждения тихонько призываю: «Дениза!.. Дениза…»
– Сегодня вечером опять обратитесь к Денизе?
– Тсс! – усмехнулась Флоранс, прикладывая палец к губам.
– Похоже, госпожа во мне уже не нуждается!
– Именно так.
– Проснетесь завтра с недомоганием – дело ваше, сударыня, меня не в чем будет упрекнуть.
– Не беспокойся, Мариетта, за завтрашнее недомогание вину я возложу лишь на себя. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, сударыня.
Мариетта вышла, что-то сердито бормоча на ходу по праву избалованной субретки, или, что еще хуже, субретки, посвященной во все секреты своей госпожи.
Оставшись в одиночестве напротив псише, освещенного двумя канделябрами, Флоранс прислушалась к шагам удаляющейся горничной и, босиком подойдя на цыпочках к дверям спальни, заперла их на задвижку.
Вернувшись к зеркалу, она при свете свечей вновь прочла записку графини, прижала ее к губам, вложила в букет, лежащий неподалеку на туалетном столике, распустила волосы, развязала ленту сорочки и, освободившись от последней одежды, осталась обнаженной. Флоранс воистину была великолепна: брюнетка с огромными голубыми глазами, обычно обведенными темно-коричневой краской, длинные, ниспадающие до колен волосы, окутывающие, точно покрывалом, несколько худощавое тело, но, несмотря на это, безупречно пропорциональное.
Причину подобной худощавости нам только что сообщила Мариетта.
Однако, даже эта хранительница тайн своей госпожи вряд ли могла разъяснить, отчего вся передняя часть тела Флоранс заросла густой растительностью.
Причудливые заросли восходили до самой груди, где вкраплялись, точно острие пики, между двумя полушариями. Далее, спускаясь, узор истончался, сливался с темной массой, покрывающей низ живота, вклинивался между бедрами и тут же появлялся внизу спины.
Флоранс необычайно гордилась своим украшением, казалось, делавшим ее представительницей обоих полов одновременно; она холила его и с необычайным тщанием опрыскивала духами. Примечательно, что на остальных участках ее смуглая, но прекрасного тона кожа была полностью лишена волосяного покрова.
Вот она, улыбаясь, самодовольно разглядывает себя и поглаживает изящной щеткой своенравный мох, непокорно восстающий под напором щетины. Наиболее благоуханные из цветов она водружает на голову, точно корону; роскошную свою шевелюру по всей длине усеивает туберозами и желтыми нарциссами; на Холме Венеры устраивает розовый сад, прокладывая до самой груди дорожку из пармских фиалок, и, с головы до пят покрытая цветами, упоенная резкими ароматами, укладывается на кушетку перед псише так, чтобы не упустить из виду ни одного из потаенных уголков своего тела. Наконец взор ее туманится, ноги напрягаются, голова откидывается назад, ноздри раздуваются, губы судорожно сжимаются; пока одна рука пятью растопыренными пальцами обхватывает полусферу груди, другая неудержимо стремится к алтарю, на котором себялюбивая и нелюдимая жрица совершает жертвоприношение: ее палец, слегка дрожа, утопает в розах; трепет наслаждения сотрясает прекрасный стан; за содроганиями следуют невнятные слова, приглушенные вздохи, перерастающие в хрип любви; и в завершение – жалобные стоны, посреди которых трижды звучит имя Денизы, перемежаясь с не менее нежным именем Одетты.
Впервые за истекшие полгода она изменяет своей русской красавице.
ГЛАВА VIII
Наутро, войдя в спальню хозяйки, Мариетта испытующе огляделась кругом; кушетка перед псише, ковер, сплошь усеянный цветами, Флоранс в совершенном изнеможении, и ей нужна ванна.
Горничная неодобрительно покачала головой:
– Ах, сударыня, сударыня!
– Что такое? – спросила Флоранс, с трудом приоткрыв глаза.
– Подумать только, лучшие юноши и девушки Парижа готовы на любые безумства ради вас!
– Разве я этого не заслуживаю? – промолвила Флоранс.
– О, речь не о том, сударыня, как раз совсем наоборот!
– Вот и я, следуя их примеру, совершаю безумства ради себя.
– Госпожа неисправима, но будь я на ее месте, то хотя бы для приличия завела бы любовника.
– Не требуй слишком многого, ведь я не выношу мужчин. А сама-то ты их жалуешь, Мариетта?
– Мужчин – нет. Мужчину – да.
– Мужчины любят лишь ради того, чтобы потешить собственное самолюбие, стремясь выставить нас напоказ, если мы красивы, либо появиться рядом с нами, если мы талантливы.
Подчиняться мужчине – нет, уволь, для этого ему должно превосходить меня настолько, чтобы вызывать во мне если не любовь, то, по крайней мере, восхищение.
Мать моя умерла рано, я и узнать ее не успела. Отец мой преподавал математику и учил меня верить только в прямые, квадраты и окружности. Бога он называл «великой единицей», Вселенную – «великим целым», а смерть – «великой задачей». Отец покинул этот мир, оставив меня, пятнадцатилетнюю, без средств и без иллюзий. Я стала актрисой, и на что мне теперь вся эта наука? Для того, чтобы большей частью презирать то, что мне приходится играть, и находить в исторических драмах множество ошибок.
На что мне моя душевная тонкость?
Чтобы обнаруживать ошибки в изображении благородных чувств в психологических драмах и пожимать плечами, видя самовлюбленность авторов, которые мне их читают. Мой успех меня не радует – чаще всего это уступка дурному вкусу. Поначалу мне хотелось говорить на сцене естественно – это не произвело впечатления. И тогда я заговорила нараспев – гром рукоплесканий. Я придавала своей игре надуманность, патетику и искусственность – меня одобряли: «Да, неплохо, недурно». Я размахивала руками, закатывала глаза, вопила – зал сотрясался от возгласов «браво». Мужчины, делающие мне комплименты, превозносят вовсе не то, что я считаю в себе истинно ценным; женщины, рассуждающие о красоте, понимают ее совсем не так, как я.
Незаслуженная похвала ранит не меньше справедливой критики. Слава Богу, и мои недостатки и мои достоинства помогают мне зарабатывать достаточно, чтобы не нуждаться ни в ком.
Быть должницей мужчины и говорить ему: "На, вот мое тело в уплату» – по-моему, уж лучше умереть!
– Ну а женщины?
– Женщин я принимаю, лишь поскольку я властвую над ними, поскольку для них я мужчина, супруг, хозяин; правда, женщины капризны, вздорны, неумны; кроме некоторых, это существа низшего порядка, созданные для послушания. Велика ли заслуга подчинить себе женщину? Но они тут же начинают кричать о тирании и обманывать вас. Нет уж, Мариетта, лучший вид власти – это быть хозяйкой собственной судьбы, заниматься лишь тем, что тебе по душе, ходить только туда, куда пожелаешь, повиноваться только собственной воле, никому не позволяя сказать тебе: «Я так хочу».
Ни у кого нет подобного права по отношению ко мне. Мне двадцать два года, я девственница; да, я невинна, как Эрминия, как Клоринда, как Брадаманта, и если когда-нибудь целомудрие станет мне в тягость – я сама себе вручу его, точно дар, мне одной достанется боль и наслаждение; я не желаю, чтобы после моей смерти кто-нибудь из мужчин сказал: «Эта женщина принадлежала мне».
– Если вам такое по вкусу, – промолвила Мариетта, – чего ж тут возражать.
– Речь не о вкусах, Мариетта, это моя жизненная философия.
– А по мне так, – продолжала Мариетта, – умереть девственницей – просто стыд.
– С тобой, я уверена, такой беды не случится. А сейчас помоги мне одеться, Мариетта.
Флоранс осторожно поднялась с кровати и устало опустилась на кушетку перед псише.
Мы уже говорили, что Флоранс не была в точном смысле слова красавица. Но лицо ее отличалось необычайной выразительностью; эта женщина, познавшая любовь лишь умозрительно, в совершенстве умела изображать любые безумные страсти, вплоть до исступления. Это был один из редких талантов, таких, как Дорваль и Малибран.
Она приняла ванну, на завтрак выпила чашку шоколада, повторила наизусть свою роль, раз десять перечитала письмо графини, не на шутку разволновавшись, на обед съела консоме, два сваренных в салфетке трюфеля и четыре рака по-бордоски.
В театр она отправилась вся дрожа. Прелестный юноша, или, вернее, графиня, уже заняла свою ложу; перед ней на кресле лежал огромный букет.
В четвертом акте во время самой трогательной сцены графиня бросила букет актрисе.
Флоранс подобрала цветы, отыскала записку и, не дойдя до своей гримерной, прочла:
«Заслуживаю ли я пощады? Сгораю от нетерпения – объявите приговор.
Если даруете прощение, вставьте цветок из моего букета в Ваши волосы. И тогда самая любящая и самая счастливая из женщин будет ждать Вас в экипаже у артистического подъезда, в надежде, что сегодня за ужином Вы решите не грустить в одиночестве, а предпочтете полакомиться крылышком фазана у нее в гостях.
Одетта».
Флоранс, не раздумывая, выдернула из букета красную камелию и вернулась на сцену с цветком в волосах.
Одетта зааплодировала так, что едва не вывалилась из ложи; Флоранс сумела послать ей воздушный поцелуй.
Полчаса спустя принадлежавшая графине двухместная карета уже стояла с опущенными шторами на улице Бонди.
Флоранс торопливо сняла кольдкремом белила и румяна, прошлась по лицу рисовой пудрой, накинула халат из пестрой кавказской ткани и выскочила на улицу.
Негр Одетты отворил дверцу. Флоранс впрыгнула в карету; чернокожий слуга занял свое место, и кучер погнал лошадей крупной рысью.
Графиня заключила Флоранс в свои объятия, но нам известны суждения актрисы о своем достоинстве. И, вместо того чтобы занять место, которое приготовила ей графиня в своих объятиях и на своих коленях, сама Флоранс резким и стремительным движением подхватила графиню на руки как ребенка и тем же движением – движением борца, повергающего противника, уложила ее себе на колени и столь же стремительно и крепко прижалась губами к ее губам, скользнула языком между ее губ, расстегнула пуговицы ее панталон, и вот уже ее рука оказалась между бедер графини.
– Сдавайтесь, красавец мой, – со смехом воскликнула Флоранс, – вряд ли кто-нибудь вас выручит!
– Сдаюсь, – отозвалась графиня, – и прошу только об одном – чтобы меня никто не выручал, я хочу принять смерть от вашей руки.
– Ну, так умрите, – произнесла Флоранс с какой-то кровожадностью.
И в самом деле пять минут спустя графиня, во власти сладкой агонии, готовая испустить последний вздох, прошептала:
– Флоранс, милая, как приятно испустить дух в ваших объятиях, ах, я умираю… умираю… умираю…
При последнем вздохе графини экипаж остановился у дверей ее дома.
Запыхавшись от волнения, поддерживая друг друга, женщины поднялись по лестнице.
Графиня вынула из сумки ключ, открыла дверь квартиры и тут же заперла. Прихожая освещалась китайским фонарем. Проведя Флоранс через спальню, где сияла лампа из розового богемского стекла, графиня отворила дверь ярко освещенной столовой, посреди которой стоял накрытый стол.
– Любовь моя, – сказала графиня, – с вашего позволения мы обойдемся без прислуги; стоит сказать, что я собиралась остаться в мужском костюме, чтобы прислуживать вам, но, полагаю, он помешает нашим вольностям. Избавлюсь-ка я от этого ужасного наряда и явлюсь перед вами, готовая к битве. Вот туалетная комната. Думаю, там есть все, что вам понадобится.
Нам уже знакома туалетная комната графини. Та самая, куда она приводила Виолетту. В этой комнате царствовал белый мраморный стол с расставленным на нем набором изысканнейших ароматов от Дюбюка, Лабулле и Герлена.
Через несколько минут графиня вошла туда и присоединилась к своей подруге.
На ней не было ничего, кроме розовых шелковых чулок, подвязок из голубого бархата и из такой же ткани туфель без задника.
Стоит ли говорить, что комната была равномерно прогрета калорифером.
– Простите мой наряд, – рассмеялась графиня, – просто благодаря вам я в таком состоянии, что мне необходимо привести себя в порядок; хотелось бы также узнать, какие духи вы предпочитаете.
– Я вольна выбирать? – спросила Флоранс.
– Разумеется, как вам будет угодно, – ответила графиня.
– Отлично! Что скажете, если я возьму вот этот одеколон от Фарина?
– Тут я не советчица, берите все, что вам по вкусу.
Флоранс щедро выплеснула воду из огромного графина в изящное биде из севрского фарфора, умелой рукой подмешала туда четверть флакона одеколона и, встав на колени рядом с биде, взяла с мраморной столешницы губку:
– Надеюсь, – сказала она, – вы позволите помочь вам; только что вы прислуживали мне, теперь мне быть вашей служанкой.
Вместо ответа графиня, переступив через биде, устроилась сверху.
– Ну, за чем же дело стало? – произнесла графиня с улыбкой.
– Я любуюсь вами, любовь моя, – сказала Флоранс, – вы великолепны.
– Тем лучше для вас, – произнесла графиня, – ведь все это ваше.
– Что за дивные волосы! Какие зубы, какая шея! Дайте расцеловать эти бутоны у вас на груди. Мне страшно раздеться перед вами; я знаю, вы сочтете меня безобразной; какая атласная кожа! Я буду глядеться сущей негритянкой; а эти огненного цвета волосы! Какое чудо! Рядом с вами я покажусь совершеннейшим угольщиком.
– Замолчи, насмешница, и не томи меня; волосы огненного цвета оттого, что дом загорелся… потуши пожар… потуши…
Флоранс просунула губку между бедер графини, и первое же легкое влажное прикосновение исторгло из графини стон сладострастия.
– Разве я коснулась тебя рукой? – спросила Флоранс.
– Пока нет, но, если это произойдет, не страшно, я не обижусь.
Флоранс еще два-три раза провела губкой по дорожке, проложенной в глубине тесной долины наслаждений, затем губку отбросила и начала растирать рукой.
Графиня наклонилась к искусной массажистке; их уста слились; она обхватила актрису обеими руками и, внезапно поднявшись и не отрывая рук от ее плеч, оказалась, мокрая и благоухающая, вровень с ее губами.
Флоранс хватило времени лишь на то, чтобы прошептать: «Спасибо!» Она тут же прижалась ртом к устам еще более благоуханным, чем те, что целовала раньше, к устам, столь неожиданно раскрывшимся перед ней, и, оставаясь на коленях, подталкивала пятившуюся перед ней графиню все ближе к канапе, пока графиня не рухнула, точно античный гладиатор, со всей, однако, возможной при подобных обстоятельствах грацией.
Графиня не привыкла играть пассивную роль в занятиях такого рода, однако, тотчас почувствовав, что в этой нервной и худой брюнетке мужское начало выражено еще ярче, чем в ней самой, она снова ей подчинилась, и на этот раз с не меньшей обходительностью, чем в предыдущий; поскольку теперь Флоранс пустила в ход другое средство – им она владела с еще большей ловкостью и изощренностью, графиня признала ее превосходство и объявила об этом такими движениями, которые не оставили во Флоранс никакого сомнения, что этим способом она вознесла графиню на верх блаженства.
На несколько мгновений оба тела оставались неподвижными. Всякий знает – наслаждение отдавать ничуть не уступает по остроте наслаждению брать. Первой пришла в себя Флоранс, она привстала на колени, словно молясь у еще курящегося алтаря, где только что ею было совершено жертвоприношение. Взгляд, улыбка, обессиленно упавшие руки – весь ее облик являл собой свидетельство ее восторга.
Нечувствительная к мужской красоте, ибо она сама ощущала себя чуть ли не мужчиной, Флоранс поклонялась красоте женской. И сейчас она была охвачена одной тревогой – она опасалась, что ее своеобразная красота придется не по нраву графине, и гордыня ее страдала от этого.
И вот, когда, придя в себя, графиня в свою очередь принялась развязывать витой шнур, стягивающий пояс Флоранс, та вся затряслась, как дитя, чье невинное тельце, знакомое прежде лишь материнскому взгляду, впервые будет выставлено на обозрение чужим глазам.
Графиню охватило нетерпение. Восхитительным запахом веяло сквозь проймы рукавов и разрез на груди сорочки Флоранс; графиня жадно вдыхала этот пьянящий аромат, и голова ее кружилась.
– Послушай, – говорила она в лихорадочном возбуждении, – да ведь ты не женщина, ты – цветок! А раз так, то тебя надо не впивать, тебя надо вдыхать. О красавица! Просто невероятно! – воскликнула она, обнажив торс Флоранс. – Кто посмеет сказать, что это волосы! Нет, шелк! Цветущие… благоуханные волосики…
И графиня принялась покусывать кончиками зубов и вбирать губами очаровательную шерстку, поднимавшуюся к ложбинке грудей, спускавшуюся, истончаясь, к животу и вновь расширяющуюся на бедрах; уходя из театра, Флоранс осыпала ее лепестками целого букета фиалок.
Наконец Одетта справилась с сорочкой и, преклонив колени перед этим чудом природы, столь невиданным, что оно казалось шедевром искусства, погрузила нос и губы в густое руно, как пчела, хлопочущая над розой.
– Признаю себя побежденной, – заявила она, – ты не только по-иному прекрасна, ты гораздо красивее меня!
И, обвив Флоранс руками, она приподняла ее и, не отрывая от ее губ свои губы, повела в столовую.
Обнаженные, они вошли в этот зеркальный дворец, где тысячекратные отражения их прекрасных тел перемежались с отблесками люстр и жирандолей.
Переглянувшись, они обнялись, каждая преисполненная гордостью за свою собственную красоту и красоту своей подруги; взяв со стула две белоснежные, будто сотканные из воздуха прозрачные накидки: одну шитую золотом, другую – серебром, они уселись на вишневые бархатные подушки перед накрытым столом, где в графинах из тонкого стекла сверкало жидким топазом охлажденное шампанское, которое им предстояло отведать из одного бокала и еще много-много раз из губ возлюбленной.
ГЛАВА IX
Все началось с обычных знаков внимания, которые оказывают своим возлюбленным любовники: изысканно отрезанное крылышко фазана, окропленное лимонным соком; шато-икем, налитый в тонкий хрустальный бокал дрожащей от любовного трепета рукой; трюфель, тушенный в шампанском с корицей, самый темный и с самыми лучшими прожилками, предложенный после того, как развратные зубки уже надкусили его; сливки, съеденные из общей тарелки и одной ложкой; засахаренные персики, пурпурная сердцевина которых зияла на месте вынутых косточек, увенчали бутоны белоснежных грудей, напоминавших плоть персика, лишенного бархатистой шкурки, – все это перемежалось с пылкими поцелуями рук, плеч и губ. Наконец, обе поднялись, сбросив накидки; графиня, как богиня Помона, понесла фрукты в золотой плетеной корзинке, а Флоранс, точно вакханка, – пенящийся кубок с шампанским.
Обнявшись, обе приблизились к кровати. Рядом стоял ночной столик из белого мрамора – он представлял собой усеченную колонну, внутри которой пряталась изысканная вазочка из севрского фарфора. Графиня поставила на столик корзинку, Флоранс – кубок. Взглянув друг на друга, они словно искали ответ на вопрос: кто начнет первой?
– Ах, на этот раз, – проговорила графиня, – слава Богу, пробил мой час.
Видимо, притязания графини показались Флоранс вполне справедливыми: она молча прижала губы к губам графини и, одарив ее пылким поцелуем, покорно улеглась на спину, раскинув ноги.
На миг графиня застыла в немом восхищении перед странным телом, соединяющим и мужскую, и женскую привлекательность; взяв золотой гребень с бриллиантами, поддерживавший ее волосы за ужином, она соорудила из него диадему для этого милого божества, этой таинственной Исиды, которой, первой среди всех богинь, поклонялись, называя ее чудесным именем Урания.
Бриллианты и золото поблескивали, затерявшись в черном меху, где зубья гребешка увязли до самого основания, так и не достигнув отверстия, которое графиня так страстно хотела отыскать.
Тогда графиня встала на колени и, чтобы пышное украшение, которое она собиралась принести к алтарю, не мешало ей совершать благочестивый обряд в святилище, бережно положила бедра Флоранс себе на плечи, раздвинула густое руно, завешивавшее вход в пещерку, добралась до нижних губ, раскрыла их и будто очутилась у черного бархатного ларчика с розовой атласной подкладкой.
При виде таких нежданно раскрывшихся красот она с ликующим возгласом припала ртом к этому ларчику и стала покусывать и сосать клитор, тотчас напрягшийся от сладострастия. Немного поласкав его языком, она пожелала вознаградить подругу ласками еще более проникновенными и сладострастными, чем те, которые были получены ею самой от меня; однако тут ее радостные крики сменил возглас удивления: проход, который она рассчитывала найти свободным, оказался закрыт. Она отпрянула от преграды, менее всего ею ожидаемой, приподняла Флоранс и жадно всматриваясь в ущелье, недоуменно спросила:
– Как это понимать?
– Все очень просто, дорогая Одетта, – улыбнулась Флоранс, – я девственна, хотя, выражаясь поточнее, следовало бы признать: девственна я только наполовину.
– На какую такую половину?
– O, с моральной точки зрения, душа моя, данная поправка весьма существенна. Девственной следует назвать юную особу, которой не касались ни чьи-либо уста, ни чей-либо палец, даже ее собственный; она целомудренна, и ей неведомо наслаждение. Быть девственной наполовину означает познать и свою собственную ласку, и чужую – мужскую ли, женскую ли – и иметь выдержку сохранить в неприкосновенности девственную плеву.
– Ах! – радостно воскликнула графиня, – наконец-то я встретила женщину, не запятнавшую себя связью с мужчиной! О, даже не смею поверить в это, моя прекрасная Флоранс.
– Ручаюсь тебе в этом, – сказала Флоранс, – у меня, кстати, куда больше поводов для упреков – ты остановилась в самый неподходящий момент. Негодница, только я начала настраиваться!.. Не отвлекайся, любимая Одетта, и, если что-нибудь обладает еще чудесным даром удивлять тебя, подожди говорить мне об этом до того, как закончишь.
– Позволишь сказать хоть слово?