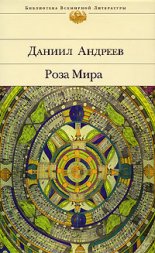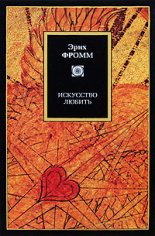Хлопок одной ладонью Звягинцев Василий

Книга первая
Игра на железной флейте без дырочек
Неужель хоть одна есть крыса
В грязной кухне иль червь в норе,
Хоть один беззубый и лысый
И помешанный на добре,
Что не слышат песен Улисса,
Призывающего к Игре?
Н. Гумилев
Глава 1
Cвои действия мы заранее спланировали, как на командно-штабных учениях, проиграв все варианты предстоящего сражения. Благо опыт работы в Сети у нас был уже довольно солидный. Причем в разных ситуациях, и вынужденный, и благоприобретенный.
Поэтому даже никаких особенных усилий не потребовалось. Совсем короткая совместная медитация в абсолютно пустой комнате, где на полу лежали четыре тростниковых татами, а в нише-токонома стоял в кувшине букет из засохших бессмертников и над ним – лист пергамента с японскими иероглифами, тибетскими письменами и арабскими закорючками, которые из вежливости принято называть «вязью».
Это тоже придумал Удолин. Нам с Шульгиным таких дополнительных средств для активизации подсознания не требовалось. Но если человек считает, что нужно, – пусть так и будет.
На этот раз найти Удолина не составило особого труда.
Профессор по-прежнему, как будто и не было в его недавней биографии разных бурных событий, увлекался исследованием древних эзотерических рукописей султанской библиотеки и некоторых хранилищ, в коих обнаружились порядочные фонды пресловутой Александрийской. Это ведь не в новейшие времена придуманная технология – сначала украсть все, что успеешь, а потом списать на других воров, стихийное бедствие или «неизбежную на море случайность».
Во времена позднего эллинизма и раннего Халифата тоже достаточно было библиофилов, которые, пользуясь неудовлетворительной постановкой учета и отчетности, не одну сотню лет потомственно перли все, что представляло художественный или финансовый интерес. Что-то оставляли себе, что-то загоняли на черных рынках Иерусалима, Рима, Константинополя или где там еще находились ценители раритетов, а когда ревизия стала неминуемой, библиотека, как «Воронья слободка»[1], запылала, подожженная сразу с четырех концов.
Одним словом, материалов для научных занятий у Константина Васильевича хватало. Параллельно, утоляя непреодолимую страсть к публичности и многословию, он почти непрерывно гастролировал между четырьмя главными российскими и полудюжиной европейских университетов, где читал скандальные, но собирающие полные аудитории лекции по нескольким взаимоисключающим дисциплинам.
Это удовлетворяло ненасытную жажду славы и приносило неслыханные гонорары.
Неизбежные же запои он столь мастерски регулировалскользящим графиком, соотнесенным с планом гастролей, студенческими каникулами и прочими сложноучитываемыми факторами, что фактически его можно было считать скорее изощренным трезвенником, с некоей тайной целью прикидывающимся пьяницей, чем полноценным алкоголиком.
Разыскать его удалось в древней Саламанке, и для чистоты эксперимента я доставил его легким самолетом через Стамбул и Сухуми на уединенную и близкую к звездам дачу недалеко от Архыза.[2]
Когда мы расположились на веранде сложенного из дикого местного камня дома, повисшей над многосотметровым обрывом, Шульгин изложил результаты своих последних наблюдений и созревшие предложения.
Далеко внизу, по ту сторону бурной речки, светились редкие огни карачаевского аула, вдоль плато тянул знобящий ветерок, и очень к месту пришлись наброшенные на плечи белые, тончайшей выделки «ханские» бурки.
У мангала трудился лучший во всем горном Карачае шашлычник, присланный наследственным владетелем этих мест князем Курманом Кипкеевым в знак уважения к «большим людям». Сам же он ждал нас в своем дворце в Хасауте завтра.
Запахи стояли умопомрачительные. На всякий случай я заглянул в загородку, чтобы проверить, действительно ли в дело пущен настоящий черный барашек, или, как шестьдесят лет спустя, местные жители для русских лохов красят обычных, грязновато-серых, черной гуашью. Нет, тут все было без обмана.
Вино, конечно, на столах стояло грузинское, из-за недалеких перевалов, и хорошее до чрезвычайности. Ничего другого на стол ставить было нельзя, чтобы уважаемый профессор раньше времени не выскочил в зону неуправляемости. А так поговорили очень хорошо. Издалека подходя к теме, Шульгин вызвал у собеседников (вернее, собеседника, поскольку меня готовить не требовалось) должный настрой.
Астрал, мол, дело давно привычное, и ничего плохого и опасного, кроме научного и развлекательного интереса, он пока не приносил. И вот сейчас возникла еще одна тема. Сложная, скрывать не буду, подчеркнул Александр, но и результат обещает быть не только общеполезным, но и до чрезвычайности познавательным для вас, Константин Васильевич. Потому что, по некоторым данным, в возникшей сопредельной реальности проводятся эксперименты по организации собственного канала нам навстречу. Вроде бы как оттуда кто-то «долбит стенку», но она не «крошится», а «прогибается», и в месте приложения усилий образуется «нейтральная зона» с непонятными свойствами.
То есть, если установка Левашова в свое время проткнула пространство-время, как шпага – соломенное чучело, устройство наших «соседей» работает как таран, бьющий в резиновую преграду. Даже не в резиновую, а скорее в свинцовую, потому что «остаточная деформация» очень велика.
И, чтобы подзадорить Удолина, сказал наугад, вернее – интуитивно, и, как не раз уже бывало, попал почти в яблочко.
– Сдается мне, Константин Васильевич, что не научный эксперимент в государственных масштабах там проводится, а некий свой «Левашов» упражняется. Только не на инженерном, а скорее мистическом уровне. Завелся там, предположим, маг и некромант, возможно, превосходящий нас с вами силой ума и способностями…
– Это чрезвычайно интересно, – воздев на вилку солидный пучок гурийской капусты, воскликнул профессор. – Мало что эксперимент сам по себе интересен, так никогда в жизни не видел коллегу из иных измерений. Вы – не в счет, – счел нужным уточнить профессор, – прошлое, будущее – это все одно и то же, а вот параллельный мир – это да! – Он закусил и снова немедленно выпил.
– Так, может, посмотрим?
Посмотреть на «коллегу» Удолину в этот раз не удалось, зато само вхождение в астрал «вирибус унитис»[3] прошло в этот раз на удивление гладко. Несмотря на то что я обещал Ирине больше не соваться в Гиперсеть, удержаться не смог. Да и работа втроем на порядок повышала безопасность предприятия.
Разумеется, при каждом «заходе» антураж «предбанника», или входного портала (можно еще сказать – интерфейс Сети), оказывался новым, неожиданным, совершенно непредсказуемым. Неизвестно, зависело это «оформление контакта» от текущего состояния самого «компьютера», подсознательного психологического настроя «пользователей» или регулировалось некими «свыше» установленными правилами и принципами.
Наиболее комфортным был предпоследний вход в Сеть Шульгина с Удолиным. Тогда они очутились в заброшенном, одряхлевшем и опустевшем Замке Антона, и всю необходимую информацию Сашка получил частью в беседе с Голосом, частью – войдя в ментальную связь с неожиданно заработавшим личным компьютером форзейля.
И, погружаясь, мы все договорились настраиваться именно на Замок. Привычнее как-то, сохраняется иллюзия безопасности и благожелательности того, кого Шульгин назвал Хранителем, или Душой Замка. И оставалась надежда, что оттуда, в случае чего, можно выбраться в свою реальность чисто «механическим» путем, как это делалось раньше, в самом начале наших приключений.
Запасной парашют, в общем, который помогает летчику спастись, когда отказывает самая навороченная электроника.
Но сейчас, кажется, парашют не раскрылся. Абсолютно банальным образом.
Я ощутил сильнейший удар сначала ногами об землю, а потом, не успев подняться и, как принято, ощупать себя, проверить, целы ли кости и все остальное, получил чем-то твердым по затылку.
В голове загудело, боль отдалась в глаза, но сознания я не потерял. И готов был даже рвануться, вывернуться из обхвативших рук, оказать достойное сопротивление. Совершенно так, как десантник, выпрыгнувший на условленные три костра в партизанском крае, но попавший вроде бы не туда.
Сил у меня хватило бы, чисто физически я человек достаточно крепкий, да и обучен кое-каким штукам, чтобы при необходимости убить врага мгновенно и не оставляя следов.
Однако допустил, сознательно или нет, паузу, после которой дергаться было уже поздно. Знающий человек понимает, что, если в затылок упирается нечто железное, пистолетный ствол или просто торец кочерги, думать следует о худшем. А тут еще умелые руки обматывают тебе запястья сыромятным ремнем. Это нынешняя молодежь не умеет отличить сыромятный ремень от дубленого, а кто жил в те годы, помнят разницу.
Потом меня повели. И я по-прежнему не видел ни одного из тех, кто так со мной обошелся в «момент приземления». Кто они и откуда, вот вопрос. Внутри Узла высокоинтеллектуальные Держатели вряд ли пользовались сыромятными ремешками, которыми можно шнуровать ботинки, а если вязать руки, то очень больно становится от пальцев и до лопаток.
И все равно я соображал, что не в девятом веке меня поймали и скрутили. Простые матерные слова произносились с лексическим оттенком именно конца ХХ века. Даже в его начале выражались хоть немного, но иначе. Да и стены, двери того здания, куда меня втолкнули, были из цивилизованной жизни.
Со двора и до начала круто спускавшейся вниз лестницы я ощущал позади двух или трех человек, с очень неприятной, странной и агрессивной привычкой толкать под ребра то кулаком, то железом.
Я, конечно, мог бы сейчас начать размышлять о превратностях жизни, о том, в какой межвременной пробой залетел, и даже попытаться напрячь свои силы, но понимал, что это бессмысленно. Что планировал – сделал, а сейчас не моя партия.
Надеялся на хорошее каре или флеш, а сдали мелкий мусор, меняй не меняй, лучше не выйдет. На выход сюда мы все силы потратили, а уж куда попали – извините. Сашки рядом нет и Удолина. А что есть? А вот то и есть. Станешь дергаться – пришибут. Посему – потерпим и посмотрим. Одна надежда – не для того сюда затащили, чтобы убить без объяснения причин.
А когда спустились этажом ниже, парни вдруг исчезли. Доверили дальнейшее конвоирование женщине. Одной. И не очень привлекательной.
Она обошла меня справа, на плече у нее висел стволом вниз немецкий «МП» (с чего вдруг?), и довольно спокойным голосом сказала:
– Идите. Не спеша. Здесь довольно круто, а если оступитесь, придержаться будет нечем.
Женщине было лет сорок. Выглядела она неухоженной. Темные волосы давно не мыты, глаза и губы не подкрашены. Свитер крупной вязки, то ли из сероватой шерсти, то ли просто заношен. Плотная темная юбка прямого покроя ровно по колено. Коричневые чулки, издали не поймешь, капрон, нейлон, шелк? Туфли без каблука на толстой подошве. Все практично, но некрасиво и почти не поддается временной идентификации. Плюс-минус тридцать лет. В общем – небогатая интеллигенточка промежутка от Сталина до Брежнева, собравшаяся на шефскую помощь в пригородный колхоз.
А вот три кожаных пенала для автоматных магазинов на ремне с пряжкой «Gott mit uns»[4] – интереснее. Что здесь – военное время? Какой-нибудь партизанский край? Или наоборот – оккупация, и попал я в руки к местным полицаям или власовцам?
Ничего, скоро разберемся. Случалось с нами уже подобное, и не раз. И по своей воле, и по чужой. Когда Сильвия, перебрасывая меня на Валгаллу, что-то не так настроила в своем универблоке, довелось побывать и в личности попавшего в чекистский концлагерь белого генерала, и еще кое-где. Вот и сейчас тоже… Правда, в данный момент я находился в своем собственном теле, и реализма вокруг было многовато.
Обойдя меня сбоку, дама оказалась в такой позиции, что лучше не придумаешь. Даже со связанными руками ничего бы не стоило ее сейчас подсечь под неказистые, в чулках с затяжками ножки. Разом. И покатилась бы она, болезная, вниз, стукаясь затылком о края цементных ступеней.
И что?
Убиться не убьется, автомат останется лежать на площадке, а руки как развязать? Никак. Не обо что перетереть ремешки, ни одного острого предмета поблизости не видно. Да и закричит она наверняка, и мгновенно появятся те самые ребята. Или – другие. И непременно приложат прикладами по зубам и по ребрам. Совсем не ко времени. Значит, ваше превосходительство, еще чуток потерпим.
Лестница была какая-то странная. Мы шли вниз и вниз. Литые узорные ступени, зачем-то поверх чугуна крашенные белой масляной краской, и перила тоже чугунные, сделанные давно и с забытым ныне искусством.
На третьем марше вниз (а ведь ввели меня сюда на уровне земли?) я увидел слева высокую двустворчатую дверь. Она была закрыта на тяжелый засов, однако сквозь щель просвечивал явно дневной свет. Это как возможно?
Возможно, тут же сообразил я, если здание стоит на очень крутом косогоре. Один фасад может быть двухэтажным, а другой – четырех.
Какая ерунда в голову приходит. Впрочем, почему ерунда? В моем положении самая мелкая деталь может оказаться жизненно важной.
– Слышь, девка, а куда мы идем? – спросил я, заранее изобретая себе подходящую для непонятной ситуации роль, никак не интеллигента, а так, приблатненного слесаря с ближайшего завода. – Я вас вообще не трогал, в разборках ни с кем не связывался. Пушку не ношу, с ментами все тип-топ. Зачем я вам? А вы сами-то из каких?
Мне показалось, что половина сказанного женщине оказалась непонятна. Опять попал не туда?
Но тут же она ответила, совсем не так, как я ожидал.
– Вы лучше говорите, как привыкли. Что же, думаете, я, кандидат филологии, с диссертацией по послевоенной русской лексике, не понимаю, как вы сейчас язык коверкаете? Не нужно.
Тут я натуральным образом обалдел. Уж чего-чего, а такого от «затруханной», той же лексикой выражаясь, женщины, пусть и с автоматом, не ожидал услышать.
Но нашелся.
– Интересно, мадам кандидат, кто же это вам позволил такую тему? Не то чтобы защищать, а вообще прикоснуться? При «батьке усатом» – посадили бы. При Хрущеве – ну, не знаю, в первые два-три года, может, и проскочило б. А потом… Да и, простите, год у вас нынче какой? И лексика моя вас теперь устраивает?
– Вы – из наших? – странным шепотом спросила женщина и вдруг кинулась развязывать стягивающие запястья ремни. Получалось плохо, парни постарались, затянули на совесть.
Я указал глазами на штык-нож у нее на поясе. Нет, в самом деле, люди обвешались оружием, а для чего оно – просто не понимают. И снова, какой непрофессионализм, сказал человек пару слов на подходящем языке, и на тебе – руки развязывают. А вдруг бы я – тот самый враг, от которого они столь неграмотно обороняются? Но, похоже, сам того не подозревая, сказал нечто, позволяющее идентифицировать меня благоприятным образом.
– Из каких – из наших? А! – сделал вид, что догадался. – Из интеллигентов-диссидентов-шестидесятников? Так у вас здесь что, очередная гражданская война, что ли? И про год вы мне так и не ответили…
– Успеется, – в голосе женщины опять проскользнул холодок. Опять, наверное, я допустил какую-то оплошность, и она успела пожалеть о своем порыве. Так откуда мне знать, на самом-то деле, где я и что здесь творится? Допустим, эпоха насильственного свержения Советской власти, а здесь – лагерь ее последних защитников. Тогда я подставился.
Но дело было сделано, и филологичка велела мне идти дальше, а сама приотстала, держа ствол автомата на уровне моих лопаток.
Разминая затекшие руки, я продолжил спуск в неизвестность.
Не очень улучшилось мое положение. Что-то тут опять очень альтернативное, а я – дурак дураком и с совершенно пустыми карманами. Пачка сигарет и зажигалка «Зиппо». Все. Ножа, и того нет. Документов никаких, денег тоже.
«А деньги при чем? – подумал я. – Да хотя бы как вещественное доказательство своей непричастности к их забавам. Посторонний я!»
За тяжелой броневой дверью, действительно броневой, да еще и с массивным штурвалом кремальеры, оказался просторный тамбур с многочисленными трубами под потолком и по стенам. Пахло ржавчиной и кошками. Справа и слева двери, тоже металлические.
Женщина приказала открыть левую.
В неярком свете забранных сетками ламп передо мной открылась длинная сводчатая анфилада. Очень длинная. Прямо даже и конца ее не видно. Не хуже, чем в Замке. А вдоль стен – открытые шкафы и застекленные витрины с разными музейными ценностями, причем по преимуществу – оружием. Огнестрельным и холодным. И то же самое оружие, только покрупнее, стояло на огороженных легкими перильцами площадках и подиумах. Пушки, например, трехдюймовки 1902 года, пулеметы «Максима» и других систем на конных лафетах и треногах и еще разное в этом роде.
Весьма напоминает залы и запасники Артиллерийского музея в Ленинграде.
Глубокая ниша во втором от входа зале была обставлена, как кабинет хранителя этого богатства. Старый письменный стол, старый диван с круглыми валиками и зеркалом вдоль верхнего края спинки. Каталожные ящики до потолка, всякая рухлядь по углам, может быть, имеющая историческое значение, но никак не товарную ценность.
Бывал я в подобных местах, неоднократно. Помещения музейных фондов и кабинеты сотрудников везде выглядят почти одинаково. Что в Эрмитаже, что в каком-нибудь областном краеведческом. Органически эти люди не могут выбрасывать старые вещи, мебель в том числе, если она непрерывно и автоматически превращается в антиквариат.
За столом пил чай с черными сухарями старик с узким морщинистым лицом, глубоко посаженными глазами и орлиным носом. Было ему лет восемьдесят, но выглядел он крепким, жилистым и очень напоминал капитана Кусто.
К этому мы тоже успели привыкнуть. Все «видения и посещения», которые устраивали потусторонние силы, обязательно базировались на образах, ассоциациях и аллюзиях, извлеченных из нашей собственной памяти. А больше откуда взять? Увидели мы один раз с Сашкой не для нас приготовленные декорации, так это было то еще зрелище!
Жуткое, честно сказать …
И сейчас при воспоминании морозцем дернуло по коже.
…Тогда, в Замке, направляясь к кабинету Антона, мы элементарным образом заблудились. Такого просто не могло быть на этом, многократно исхоженном пути. Но тем не менее, пройдя нужное количество лестниц и коридоров, оказались не на пятом этаже, а на первом, перед обширным холлом, двери которого выводили к главным воротам и подъемному мосту.
– Увлекательно, да? – Шульгин поджал губы и посмотрел на меня, как бы в надежде на сочувствие. Я неопределенно пожал плечами. Больше всего мне хотелось, не задерживаясь, проследовать по предложенному маршруту: за ворота и дальше. Но, не будучи по-настоящему отважным человеком, я самолюбив и упрям. И ни за что не позволил бы себе проявить слабость, даже если свидетелем этого – один Сашка.
Второй раз мы попробовали добраться до цели на лифте. Он привез к дверям моей комнаты и дальше просто не пошел.
– Что делать будем, экстрасенс? – теперь я смотрел на Шульгина с некоторой растерянностью.
– Можно, конечно, позвонить Антону, посоветоваться. Но лучше давай еще раз попробуем. Есть идея…
Идея оказалась не слишком плодотворной. То есть по замыслу она была, может быть, и хороша, но Замок, или некие силы, захватившие контроль над ним, не дремали. И в результате мы заблудились всерьез.
Если раньше нам только казалось, что атмосфера коридоров, по которым шли, напоминает антураж готического романа, то сейчас зловещие перемены были видны невооруженным глазом. Чем дальше углублялись мы в лабиринт лестниц и переходов, похожих на те, что таятся за малоприметными дверьми с табличкой «Посторонним вход воспрещен» в старинных театральных зданиях, в Большом, например, или в Мариинском, тем явственнее становилась печать запустения, все мрачнее закоулки, слабее освещение, гуще паутина и копоть на стенах и потолке. Хотя откуда взяться всему этому в специально сконструированном и в одночасье созданном для вполне конкретных целей здании? Когда Шульгин об этом спросил, я ответил, что не вижу повода для удивления. То, с чем столкнулся при первом посещении Замка Воронцов, тоже не соответствовало облику стандартной инопланетной базы.
– Или мы с тобой подсознательно хотим увидеть именно это, или…
– Или нам довелось увидеть предназначенное не нам. Присмотрись повнимательнее…
Мне будто не хватало именно Сашкиной подсказки. А ведь и на самом деле такое впечатление, что здешние декорации совсем не из этого фильма. Все чуть-чуть, но не так, не по-земному! И кладка стен, и форма сводов, изгибы лестниц и оформление перил. Словно бы архитектор руководствовался не только другими СНиПами, но и не совсем человеческой логикой… Это и имел в виду Шульгин, когда предложил свой план – пройти к Антону той частью Замка, где на нас не рассчитывали и не ждали. Вот только не предположил, что угадает чересчур точно – мы, похоже, забрели в сектор, выходящий на совсем другие миры, предназначенный для охмурения и вербовки существ с принципиально иными вкусами и привычками.
Очень захотелось повернуть обратно, гораздо сильнее, чем в первый раз. Заблудиться, так уж в земном лабиринте, а не инопланетном.
Теперь мы оказались как бы внутри аналога московского ГУМа, разумеется, со всеми поправками на детали чуждой архитектуры, из-за которых простая схема продольных галерей, связанных то висячими горбатыми мостиками, то заостренно-арочной фигурной кладки тоннелями, воспринималась с трудом, как фантазии Мориса Эшера.
И было все раз в десять больше в длину и в высоту, не имело никакого видимого смысла, с человеческой точки зрения, но каким-то целям, безусловно, служило.
Разговаривать, да еще громко, в таком месте не хотелось, поэтому Шульгин тихонько насвистывал попурри из первых приходящих на память мелодий, а я молча рассматривал и запоминал все достопримечательности этого загадочного сооружения, ощущая себя одним из героев лемовского «Эдема». И оба непроизвольно все ускоряли и ускоряли шаги.
Сначала мне показалось, что от усталости рябит в глазах. Потом – что на соседней галерее мелькнула крупная крыса. Потом такие же крысы померещились еще в нескольких местах сразу. И раздалось частое мелодичное цоканье, словно стайка крошечных козлят бежит наперегонки по хрустальному полу.
– Саш… – выдохнул я, вскидывая к плечу карабин.
– Стой, не стреляй! Бегом! – Шульгин увидел новую, действительно омерзительно-жуткую опасность одновременно со мной, только тактическое решение у него созрело другое.
Вверху, внизу, на поперечных, переброшенных над тридцатиметровой пропастью мостиках, неизвестно откуда появившись, скользили стремительно-плавной рысью десятки громадных пауков. А может, и не пауков вовсе, а неких паукообразных существ неземного происхождения. Паук и сам по себе отвратителен, даже простой крестовик или тарантул, но когда он размером с кавказскую овчарку…
Пауки, похоже, не проявляли пока интереса к землянам и решали какие-то свои проблемы, но слишком их вдруг стало много, и так угрожающе-близко проносили они свои тугие, как наполненные нефтью бурдюки, брюха… Вот вывернет сейчас один-другой из ближайшего коридора и…
Почти до конца галереи нам удалось добежать без помех, а потом пауки словно бы увидели добычу или получили команду извне.
Прерывая свой механический бег в никуда, они вдруг начали тормозить всеми восемью конечностями, разворачиваться на месте, искать многочисленными фасеточными глазами цель. И вот первый уже помчался вдогонку.
По счастью, все пауки оказались отчего-то на параллельных галереях, и, когда самый прыткий, опередив нас, рванул наперерез по висячему мостику, Шульгин, не останавливаясь, взял его влет, прямо сквозь витые балясины перил.
Гениально придумал Сашка – тонкая оболочка пули, надсеченная глубокими и крутыми надрезами, ударившись в хитин, развернулась тюльпаном. Мельхиоровая розетка со сгустком ртути внутри разнесла чудовищное создание в клочья. Вследствие несжимаемости заполняющей его брюхо слизи.
То делая короткие перебежки, то разворачиваясь на ходу поочередно и прикрывая друг друга огнем, прорвались мы все же к подножию узкой, почти вертикальной лестницы.
Совсем рядом мелькали мохнатые ноги, щелкали, как ножи сенокосилки, устрашающие хелицеры, разлеталась по сторонам и застывала на стенах и полу тошнотворная рыже-фиолетовая гадость…
Если бы хоть немного времени на эмоции, меня непременно бы вырвало, как однажды в сельве, где я наступил на паука размером с куриное яйцо. А здесь с непривычным гулким свистом молотил почти без пауз карабин Шульгина, громыхал, вырываясь из рук, мой собственный, густую сортирную вонь перебивал резкий пороховой запах, и отвлекаться на ерунду было некогда.
Единым духом взлетев сразу на три марша, мы остановились на решетчатой площадке перед узкой металлической дверью.
Шульгин швырнул вниз загремевший по ступенькам предпоследний расстрелянный магазин и вдобавок мстительно плюнул.
– Вот, – сказал он, когда дверь отделила нас от пережитого кошмара. – Я говорил. Пауки. Как раз, кого ты терпеть не можешь…
– Да уж… – меня все же начало запоздало мутить. – А ты кого больше всего не любишь?
– Сложный вопрос, однако… Вслух не будем, от греха. Но за меня не бойся. Очередная подставка все равно снова для тебя будет…
– Не думаю, что третий раз вообще будет. Глупо как-то… За пацанов нас держат. Или убивали бы, или отвязались… – Мне неожиданно стало скучно. В прямом смысле. Все понятно, все предсказуемо. Как в Диснейленде.
И вот здесь, сейчас – чрезвычайное близкое предощущение. Похожие коридоры, похожая аура. Только тогда рядом был верный друг и противослоновые карабины в руках, теперь же все наоборот. Решили посильнее припугнуть? На коленки поставить? Как Сашку Сильвия, не сумев в роли Шестакова согнуть, в Ниневию отправила?
Значит, опять мы их, сами того не подозревая, прищучили? Или чересчур близко подошли к тому, к чему не следует?
Тогда – тем более вперед, черные гусары! Впереди победа ждет, наливай, брат, чары!
И сразу вспомнилось заклинание Шульгина: «Ловушка, ловушка, я в тебя не верю!»
– Здравствуйте, садитесь, – предложил старик. Указал на древний электрический чайник, алюминиевый, с деревянной ручкой и толстым шнуром в тканевой оплетке: – Выпьете? Горячий. Ничего больше предложить не могу. Света, посмотри, там, кажется, леденцы в банке еще остались…
– Спасибо, я только чаю. Хоть настоящий? Или уже морковный?
Старик усмехнулся.
– Вы историк или непосредственно из эпохи морковного чая к нам прибыли?
– Я журналист, значит, и историк в некоторой мере. Новиков, Андрей Дмитриевич, последнее место работы – еженедельник «За рубежом».
Старик опять усмехнулся.
– Я – директор музея. Вайсфельд Герман Артурович. Это – Светлана Петровна, заведующая архивно-библиографическим отделом.
– С автоматом «МП-38» фонды бережет? А вы еще и Вайсфельд. Из старых запасов ствол? От кого защищаетесь. От белых, от красных, от банды батьки Шпака или наследников Че Гевары?
– Разбираетесь? Вы какого года рождения?
– Пятидесятого. Тысяча девятьсот. Еще бы не разбираться…
– Ну да, ну да. Похоже. А к нам как попали?
Чай из стакана в серебряном подстаканнике был вполне ничего. Краснодарский, а то и индийский «со слоником». Да в горле у меня так пересохло, что и пустой кипяток пошел бы за милую душу.
– Курить можно?
– Курите, и нас со Светой угостите.
Протянул им почти полную пачку «Кэмела» из пароходных запасов. В Крыму я обычно курил отборные турецкие папиросы, а на «Валгалле», вспоминая молодость, баловался американскими сигаретами.
– Из спецбуфета? – со знанием дела спросил Вайсфельд, затягиваясь с жадностью давно не курившего человека.
– Вроде того.
Я никак не мог сообразить, как выгоднее всего держаться и какую легенду излагать.
Судя по тому, как отреагировал директор на мой возраст, место работы, сорт сигарет – здесь что-то около восемьдесят седьмого – девяностого. Канун событий девяносто первого, о которых я так и не успел ничего узнать, потеряв в схватке с грабителями драгоценную пачку газет.
И вдруг, с таким запозданием, я подумал, а не было ли то нападение организовано отнюдь не для того, чтобы отнять у меня кожанку и изнасиловать Ирину в темной подворотне, а именно – не позволить переправить в другое время материальный носитель информации. То, что я успел просмотреть несколько заголовков, сочтено было несущественным, а вот пара сотен печатных страниц, да еще и с фотографиями – парадокс. А если бы Ирина в ресторане не помешала, и я прочел их целиком – выпустили бы нас из девяносто первого, или удар нунчаками по затылку достиг бы цели?
– Ну а к нам как попали? Прямо во двор музея? Чтобы вы стену перелезали, ребята не заметили. Но допустим. Узнали о наших безобразиях и приехали материал собирать? Откуда? Из Москвы? А она вообще еще существует, Москва-то, и хоть что-нибудь за окраиной нашего города?
– Какого города?
– А вот не скажу пока, – хитро сощурился Вайсфельд. – Раз вы утверждаете, что не знаете. Сам не знаю почему, но… И вообще, как это в книжках пишут: «Вопросы здесь задаю я!» – и дробно рассмеялся. Смех у него действительно был старческий.
– Ничего я вам дельного не скажу. Потому что сам ничего не понимаю. Сидели мы с друзьями в комнате, выпивали понемногу, о пустяках болтали. Потом один любитель эзотерики начал насчет астрала, эфирных и тонких сущностей человека распространяться и какую-то мантру или сутру произнес. Меня как схватило, закрутило, встряхнуло, понесло… Только ваши охранники в чувство привели…
Не верите? Так внимательней присмотритесь: в таком виде на разведку ходят или просто в командировки ездят? У меня же с собой вообще ничего. Еще спасибо, я привычки не имею сигареты на стол выкладывать, в нагрудном кармане держу, а то бы вообще труба… Да и то, на троих нам едва до вечера хватит, а потом?
– Ничего, «Беломором», «Примой» и махоркой я вас обеспечу. С другим, извините, временные трудности[5]. Но если вы не шпион, не вражеский агент, отчего вы так нечеловечески спокойны? Я что, думаете, не представляю реакцию нормального человека, с которым случилось бы то, что якобы с вами?
– Профессиональное свойство, если хотите. Бывал я и в плену у никарагуанских «контрас», у «охотников за головами» гостил, с вертолетом в тундре падал. Со шпаной в московских переулках дрался несчетно. Привык, наверное…
– Это хорошо. Вы нам, наверное, пригодитесь. В оружии разбираетесь? Вон у меня «Максим» почти новый стоит, наладить можете?
– Да не вопрос. Но до тех пор, пока вы мне не расскажете, в чем дело и где я, – ничего не будет.
– Договорились. Так в каком году вы занялись вашими медитациями?
Никакой другой год, кроме своего последнего нормального, восемьдесят четвертого, называть смысла не было. Так я и сказал.
– В любом другом случае я бы вам не поверил. А сейчас поверю чему угодно. До прошлого воскресенья у нас был восемьдесят восьмой. Октябрь месяц. Какой теперь – не знает никто. Радио, телевидение, телефон не работают. Самолеты, может, и летают, но не у нас. Поездов, по слухам, тоже пятый день не приходило. Один наш сотрудник на своей машине рискнул отправиться на разведку, хотя бы до соседней узловой станции, но не вернулся до сих пор.
Я хотел спросить, а чем же занимаются партийные и советские власти, милиция, КГБ, армия, наконец, в городе, который внезапно и непонятно оказался отрезан от мира, но Вайсфельд, предупреждая этот естественный вопрос, начал рассказывать все подряд, с самого начала, вполне четко, как полагается профессиональному историку.
Получалось так, что здесь уже произошла глобальная, или локальная, что для присутствующих, включая меня, не имело практического значения, деформация времени. Та самая, о теоретической возможности которой мы неоднократно рассуждали с Антоном и друзьями. Которую в конечном счете и собирались предотвратить. А сейчас, как уже не раз бывало, внутренний настрой определил способ и место контакта с Сетью.
И либо сейчас передо мной крутят своего рода «научно-популярный фильм» в назидание, либо меня действительно занесло в область уже случившегося разлома. Что именно происходит, я узнаю только когда (и если) выберусь. Изнутри процесса догадаться о степени его подлинности практически невозможно.
Ростокин, вон, в тринадцатом веке оказавшись, без малейшего удивления отнесся к наличию на вооружении Ливонского ордена танковых соединений, да и сам в должности князя разъезжал на пушечном бронеавтомобиле древнерусского производства.
Хорошо, что у меня самого сейчас несколько большая степень здравомыслия сохраняется. Значит, будем смотреть и слушать, в любом случае пригодится. Если отпустят – для доклада друзьям и размышлений, если нет – для облегчения адаптации.
И еще я подумал, что взрослые мы вроде бы мужики, тертые жизнью, а ведем себя как дети неразумные. Сколько раз уже с такими гиперпереходами сталкивались, а как-то не усвоили, что надо в них снаряжаться, как для парашютной высадки в тыл врага. Обойдется чисто эфирным переносом матрицы, ну и ладно, амуниция не помешает, а попадешь вот так, телесно, хоть на первое время будет комплект выживания.
Глава 2
…А Вайсфельд продолжал рассказывать.
Привычная жизнь в городе мгновенно перестала существовать. Случилось нечто худшее, чем даже ташкентское землетрясение. Там хоть сохранилась управляемость, базовая инфраструктура и связь со страной. Здесь же…
Буквально мгновенно несколько хронопластов, как при тектоническом сдвиге, наехали друг на друга, и в городе перемешались годы, десятилетия, люди и архитектура.
Если в отдельных «изолятах» стабильность вроде бы сохранилась, то буквально через квартал-другой можно было вдруг оказаться в пределах довоенного города, как его помнил Вайсфельд, причем с теми самыми, прежними жителями. И можно представить, что началось, когда в первые часы катаклизма «современные» горожане, бывшие кто на работе, кто просто на других улицах, в кино и магазинах, кинулись по домам и обнаружили, что с виду почти те же самые строения населены совсем другими людьми, тоже ничего не понимающими, но на порогах «своих» квартир стоящими насмерть.
Многие, построенные в период массовой застройки кварталы пяти-девятиэтажек просто исчезли, вместе со всеми, кто в них на тот момент находился. И тут же, буквально за углом, не менее новые корпуса возвышались, как ни в чем не бывало.
Стоявшее на центральной площади в сотне метров от музея громадное здание Дома Советов, выстроенное в начале шестидесятых и вместившее в себя практически все краевые и городские власти, растворилось бесследно. На его месте раскинулась необъятная, покрытая выходами дикого камня и поросшая бурьяном площадь с остатками разрушенной в тридцатые годы церкви.
То есть здесь оказался локальный участок примерно пятьдесят пятого – пятьдесят седьмого годов, потому что позже уже начали рыть котлован под фундамент «желтого дома», как его сразу же окрестили за цвет стен, сложенных из местного песчаника. По иной причине – тоже.
Доходили слухи, что дальше к окраинам можно провалиться и в дореволюционность, и чуть ли не во времена Дикого поля. Половцы не половцы, но мародеры весьма неприглядного вида по улицам уже бродят, в одиночку и толпами.
Милиция исчезла с улиц в первый же день, потому что руководить ею оказалось некому, а те сотрудники, что не исчезли и не разбежались, по большей части закрепились в уцелевших помещениях служб, ожидая дальнейшего развития событий и распоряжений, если таковые откуда-нибудь вдруг последуют.
Многие горожане, имевшие родственников в окрестных селах, устремились туда, на всех видах еще действующего городского транспорта, собственных и захваченных с боем чужих машинах, а также пешком.
Хуже всего было то, что деформации пространственно-временного континуума продолжались, спорадически и бессистемно, отчего приспособиться к ним было совершенно невозможно. Так, к примеру, посланные с биноклями на крышу наблюдатели сообщали, что несколько раз то появлялись в положенном месте и совершенно исправном виде вокзал и пути Туапсинской железной дороги, разрушенной во время Гражданской войны, да так с тех пор и не восстановленной, то снова исчезали. Один раз якобы по ней, удаляясь от города, прошел пассажирский поезд из десятка зеленых и синих вагонов.[6]
Точно так же, словно миражи в пустыне, в разных точках города обозначились купола и колокольни давно взорванных церквей. Но выяснить, действительно ли храмы возродились «по-настоящему», или это только обман зрения, возможности пока не было.
Вайсфельд не рисковал посылать своих ребят в дальнюю, явно рискованную разведку. Они и свою-то территорию обороняли с большим трудом. На второй и третий день катаклизма предпринимались неизвестными людьми явно целенаправленные и скоординированные попытки взять здание штурмом, но неожиданно мощное огневое противодействие их образумило. Больше мародеры не возвращались, но гарнизон не терял бдительности. В чем Андрей убедился на собственном опыте.
Герману Артуровичу и большинству его сотрудников вообще повезло. Во-первых, когда исчезло здание Дома Советов, а заодно и находившееся поблизости общежитие педагогического института, тоже послевоенной постройки, в музее был санитарный день, посетителей не пускали, а персонал весь был на работе.
Шок, разумеется, имел место, но общей паники удалось избежать.
Само же полуторастолетнее здание, в целом (как я правильно сообразил) трехэтажное, но сзади имевшее еще три дополнительных цокольных этажа, выстроенное разомкнутым с восточной стороны квадратом, вполне годилось в качестве крепости. Занимавшее целый квартал, с двухметровыми стенами, забранными прочными решетками окнами, подвалами в несколько ярусов (строилось как Торговые ряды богатым местным купечеством по образцу ГУМа, но чуть поскромнее), внутренним двором, трехметровой, тоже каменной, оградой и весьма солидными воротами. Танк проломит, конечно, а с налету не возьмешь. Здесь, в сравнительной безопасности, можно разобраться в происходящем и пересидеть смутное время.
Гарнизон составили около полусотни научных сотрудников, смотрителей, шоферов, слесарей, электриков и плотников, да еще было несколько студентов исторического факультета, помогавших монтировать очередную выставку. Они же первые выбрались на разведку, покрутились по центру, привели с собой еще человек двадцать друзей и подруг, кого встретили поблизости.
Оружия для самообороны в фондах музея было сколько угодно, а вот насчет патронов – плохо. Точнее – почти никак. И тут молодежь нашла выход. По ту сторону ныне опустевшей площади располагались корпуса военного училища. Ребята сбегали, разыскали приятелей-курсантов, и те, пользуясь общим разбродом и беспорядком, нагрузили полный кузов бортового «уазика» ящиками с патронами. Да сами и привезли. Самых нужных, трехлинейных, образца восьмого года. Заодно договорились об огневой поддержке, если потребуется, и вообще о дружбе и взаимопомощи.
Училище представляло собой столь же старинное и прочное, как и музей, каре корпусов, более чем по сотне метров длиной каждый, с многочисленными подсобными и складскими строениями внутри, собственным стадионом, каштановым парком с эстрадой и танцплощадкой, куда так любили ходить студентки в поисках женихов. И все, почти без исключений, находили.
– Там тысячи полторы курсантов, солдат и офицеров. Если катаклизм больше наш район не затронет, с их помощью надеемся выжить…
Это директор объяснял мне, когда мы уже поднялись на третий этаж и через полукруглое, от пола до потолка окно в зоологическом зале я сам увидел и площадь, и мрачные стены училища, похожие на Трубецкой бастион Петропавловки, и пугающую, в свете всего услышанного, панораму центра города с зияющими прогалинами на месте бывших новостроек.
– Вон видите, там, слева, по улице Дзержинского, – указал Вайсфельд, – было Управление внутренних дел.
Я увидел. Ничего особенного не представляющий в архитектурном смысле двухэтажный дом в окружении небольших старинных особнячков. Позади него – густой не то парк, не то роща.
– Его сорок лет достраивали и перестраивали, там в итоге целый «Пентагон» получился, с семиэтажной башней в центре, а сейчас снова – гостиница Пахалова в первозданном, тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года, виде. И где теперь милиционеры, уголовные дела, оружейные склады и все прочее? – без особых эмоций, почти академическим тоном спросил директор. – А вы говорите – властные структуры!
– Так значит, предполагаете, что вас накрыло… каким примерно годом?
– Частично от тридцатого до сорокового, частично – послевоенные до пятьдесят седьмого. А если железная дорога – не мираж, так это уже между девятьсот десятым и семнадцатым. Я же здесь всю жизнь прожил, после двадцатого года все помню, каждый дом, каждый проходной двор, по фамилиям и в лицо всех тогдашних известных людей. Одно время – каждую машину по номеру и водителя по имени знал. Музеем тридцать лет заведую. В оккупации тоже был.
Кстати, – вдруг озарило его, – почему оккупация пропущена? Если б еще немцев сюда, да потом бои за освобождение – это ж вообще представить невозможно, во что город превратится…
– Значит, в расчеты не входит, – мудро заметил я.
– В чьи расчеты, о чем вы?
– Знал бы, сказал непременно. Вообще, на вашем месте я бы сразу в училище перебазировался. Там все ж крепкие ребята с оружием, и казармы, и пищеблок, и техника. Наверняка электрогенераторы свои есть, склады НЗ месяца на три, медчасть, госпиталь. Натуральный феодальный замок со всеми его функциями, если до того дойдет…
А сам подумал – вот тебе, пожалуйста, этот провинциальный музей и военное училище – прямой аналог «Валгаллы» и нашего форта. Островок стабильности и выживания в рушащемся мире. А надолго ли?
– Нет, что вы! Как же я могу все бросить? Тут же такие… такие исторические ценности. А архивы! У нас даже подлинные автографы Пушкина, Лермонтова, Одоевского, Толстого есть. Они же все здесь бывали. Вы видите, Светлана Петровна, женщина, автоматом научилась пользоваться, и никуда отсюда не уйдет, хотя ее дома тоже, кажется, больше нет. Хорошо хоть она незамужняя. А другие… Она вон там, на Северо-Западе, жила, – Герман Артурович подвел меня к противоположному окну. Как я и догадывался, здание стояло на крутом обрыве, под которым на сотню метров ниже простиралась громадная ложбина, сплошь покрытая лесом. Лишь в центре посверкивало пятно большого пруда или маленького озера. А дальше к горизонту лес вновь поднимался по склонам, неизвестно куда и на сколько десятков или сотен километров.
«Сибирь здесь, что ли? – подумал я. – Так нет, тополя и каштаны по улицам растут». Никак не получалось определить, где все-таки нахожусь. Ни один известный мне город под имеющуюся картинку не походил тем или иным параметром. Постой, постой! Пушкин, Лермонтов, Одоевский… Кисловодск, Пятигорск – нет. Орджоникидзе, бывший Владикавказ? Там горы. Краснодар – на равнине…
– Вон там, за кромкой леса, был целый большой район, построенный не так давно. И создавалась панорама чуть ли не Манхэттена. А сейчас – ничего… И что прикажете думать?
Директор махнул рукой.
Я, конечно, готов был сочувствовать всем, однако опять окружающее – только картинка, сюжет, морок. Единственная правильная позиция – вести себя спокойно и собирать информацию.
А если вдруг окажется, что застрял я здесь напрочь (нельзя исключать), тогда и начнем рефлексировать по полной программе.
– С первой минуты хочу вас спросить, уважаемый Герман Артурович, я не дурак, поверьте, и в делах определенного сорта понимаю, – каким образом вы в вашем заштатном заведении сумели накопить такое количество боевого оружия в рабочем состоянии? Что я, не видел, как поганенький именной наган местного героя революционных битв, перед тем, как поместить в витрину, сверлили с нечеловеческой яростью, и по патроннику, и даже по каморам барабана. А у вас – и «МП», и «Максимы», и прочих винтарей немерено, если вам патроны восьмого года машинами завозят… Я советскую власть изнутри знаю, сроду б она такого не допустила.
Вайсфельд снова рассмеялся тем же дробным смехом, но теперь он звучал торжествующе.
– Знаете, да не совсем. Или – московскую знаете, а местную плохо! Первые секретари крайкома – и. о. царя и бога на земле. Если себя правильно поставили. А наши умели, ох, умели. Да что говорить, если с самого сорок четвертого года один как Сталину в доверие втерся, так до безвременной кончины в восемьдесят лет серым кардиналом Политбюро пребывал. Второй едва-едва Генсеком не стал, болезнь аорты подкосила. А третий – стал! Где еще такое видано, уголочек страны самый захолустный, а – кузница кадров! Почище Днепропетровска.
Теперь наконец я понял, где оказался.
Интересный поворотик сюжета, я вам замечу!