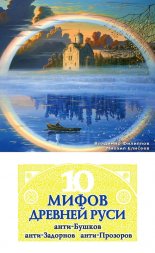Игра судьбы Алексеев Николай

Попал в эту комнату и я – Троекуров в своих владениях не делал для иностранцев особого отличия от соотечественников. Увидев медведя, я достал миниатюрный английский пистолет, который имел при себе на крайний случай, и выстрелил зверю в голову. Медведь взревел и тут же умер. Хозяин дома сначала растерялся от сорвавшейся шутки, но потом объявил меня героем и любил живописать о моем подвиге с такой же веселостью, передающейся слушателям, как и о чуть не до смерти перетрусившем Спицине.
Решив, что Спицин онемел от сообщения о гибели славного мишки, Троекуров позвал Марью Кирилловну, чтобы с ее помощью Спицин, не понимавший ни слова по-французски, мог узнать от меня подробности, а сам же вернулся к гостям. Я сделал вид, что жестами и словами объясняю Спицину, как был убит страшный медведь, просил Марью Кирилловну спустя минуту выйти в парк, где я должен сообщить ей нечто касающееся не только наших с нею чувств, но и то, от чего зависит жизнь моя. Улучив момент, я по-русски шепнул Спицину, что английский пистолет находится при мне всегда, и если он вздумает раскрыть меня, то я поступлю с ним точно так же, как и с троекуровским медведем.
Выйдя в парк, я дождался Марью Кирилловну и объяснился в своих чувствах. Она была польщена, как всякая девица, но не знала, что отвечать, ибо видела во мне гувернера Дефоржа, слугу отца своего.
Услышав, что перед ней Дубровский, она упала в обморок. Я привел ее в сознание и начал рассказывать, что я совсем не тот кровожадный разбойник и грабитель, о жестоких подвигах которого говорит весь уезд, а всего лишь жертва действий отца ее, лишившего меня состояния.
Но в это время послышались крики дворовых людей Троекурова, обыскивающих парк, и я понял, что Спицин преодолел страх и, надеясь на защиту хозяина дома, выдал меня. Как потом я узнал, Спицин сделал это сразу же, но Троекуров выставил его глупцом и не поверил, почитая трусом и выдумщиком. Это и дало мне время объясниться с Марьей Кирилловной.
12. Исповедь горячего сердца (продолжение)
«Я ждала вас до последней минуты… Но теперь, говорю вам, теперь поздно».
А. С. Пушкин.
Конечно, я не рискнул оставаться более в Покровском. Обнадеженный клятвою Марьи Кирилловны следовать велению ее сердца, я возвратился в Кистеневский лес. А спустя месяц получил от нее письмо, переданное верной горничной моим людям. Марья Кирилловна писала, что после многих размышлений о том, что произошло, она решила связать свою судьбу с моею, так как обстоятельства изменились.
Случайно имение Троекурова посетил недавно возвратившийся из Англии дряхлеющий князь Верейский. Старик вдруг пленился юной красавицей. Он попросил руки Марьи Кирилловны. Троекуров, польщенный возможностью породниться с князем, дал ему на это согласие. Марья Кирилловна умоляла меня спасти ее от бессердечной воли родителя и объятий престарелого жениха. Единственное условие, которое она требовала от меня, это то, чтобы я не проливал кровь ни отца ее, ни князя. Ей, видимо, представлялось, что я, как легендарный разбойник, всемогущ и обладаю несметными сокровищами.
У меня же после выплаты годового жалованья настоящему гувернеру, французу Дефоржу, и покупки его паспорта почти ничего не осталось от денег, отданных мне Спициным. А два десятка моих дворовых не могли штурмом взять Покровское, где одних псарей несколько сотен.
Но письмо любимой женщины, взывающей о помощи, помутило мой разум. И я решил напасть на свадебный поезд по пути в церковь и похитить невесту. Венчание намечалось в церкви, находившейся рядом с Арбатовом, имением князя Верейского. Я устроил засаду на дороге – ждать пришлось очень долго и, наконец, вместо вереницы колясок появилась одна только карета князя Верейского.
Увидев внутри кареты Марью Кирилловну, я дал своим людям знак остановить лошадей, бросился к карете и открыл дверцу. Князь Верейский тут же выстрелил в меня из пистолета. Превозмогая боль, я отнял у него оружие и запретил своим людям прикасаться к старику. Однако Марья Кирилловна не стала выходить из кареты. Она сказала, что я опоздал, венчание состоялось в Покровской церкви, она уже жена князя Верейского и не может нарушить священного церковного обряда, хотя и была к нему приневолена. Я попытался напомнить ей о данной клятве, о письме… Но силы оставили меня и я упал с подножки кареты и очнулся уже только в своем лагере.
Рана оказалась как будто не опасной, я быстро поправился – и обстоятельства того требовали, из губернии выслали против нас воинскую команду, а Спицин указал место, где мы скрывались. Если бы я был один, я бы не стал сопротивляться – Сибирь для меня даже желанна. Но бесчестно было оставить своих людей, видевших во мне и барина, и своего предводителя одновременно. Когда начался штурм, я велел стрелять из двух старых отцовских пушек и идти в атаку, а всем, кому удастся вырваться из окружения, спасаться как кто сможет.
Солдат вели два офицера. Одного убило ядром, второго я заколол в схватке. В суматохе моим людям удалось скрыться. Я тоже спасся. Но той же ночью открылась моя рана, я бродил по лесу, преодолевая страшный жар, пока не потерял сознание. В себя я пришел на чердаке флигеля тетушки барона Дельвига… Рана моя, затянувшаяся без должного лечения, а потом воспалившаяся, едва не унесла меня в мир иной, куда я сам потом подумывал отправиться по собственной воле, с жгучим стыдом вспоминая все, что я сделал за эти полгода.
Более всего проклинал я собственную глупость и безумие, называемое в романах словом «любовь», и ту, которая стала причиною затмения моего рассудка. Обряд, совершаемый бородатым священником под заунывные песнопения, оказался для нее важнее клятв, да и жизни того, кому она их давала. И если уж обряд сей так священен, зачем она ответила «да» на вопрос по обряду этому задаваемый, то есть лгала – ведь не любила же и никогда не полюбит она князя Верейского!
Чувство, с коим Владимир Дубровский почти выкрикнул последние слова, дало повод Александру Нелимову предположить, что тот не совсем освободился от страсти, им же на словах проклинаемой.
– Впрочем, что винить ее, – продолжал Дубровский, – разве не сам виноват я во всем? Кому не известно легкомыслие женщин? Кто не знает, что они – источник всех бед и зол? Отец мой советовал мне обратиться за правдой к императрице. Бедный старик мой принадлежал к тому поколению честных провинциальных дворян, которые верили в святость высшей власти. Я же вырос в Петербурге и служил в гвардии. Имея глаза и уши и способность мыслить, мне никогда бы и в голову не пришло искать правду при дворе. Слишком многое, даже против желания своего, я видел и слышал и был способен понимать.
Отцы наши, воспитанные в другое время, имели счастье жить, веря в манифесты. Мы, их дети, уже не в силах заставить себя искренне верить в то, что распутная женщина, вместе со своим любовником убившая мужа, и безо всякого на то права занявшая его место на троне, – матерь отечества. Мы можем пить шампанское, весело гулять с французскими актрисами, маршировать на парадах и даже, наверное, смело идти в бой по приказу своих командиров. Но в бой я и мои товарищи по полку пойдут не потому, что считают себя обязанными исполнить долг перед царем и отечеством, а чтобы не показаться позорным трусом. А если гвардии объявят отправку на юг, то возможно и неповиновение и бунт. Никто из моих прежних товарищей не видит свой долг в том, чтобы сложить голову, потому что очередному любовнику императрицы вздумалось покрыть себя лаврами покорителя оттоманов.
А ведь если бы отец мой был жив и здоров и отправился бы в столицу добиваться справедливости, то он, всю жизнь тянувший армейскую лямку, мог бы пробиться со своей обидой к государыне, только обратясь к Потемкину, который через спальню императрицы пролез в истинные правители государства. Обратил ли бы сей альковный властелин, осыпанный милостями монархини, посреди своих мечтаний о славе внимание на беду престарелого майора?
Не подумайте, Александр, что вину за свои преступления я хочу оправдать развратом и беззакониями высшей власти. Я знаю, что совершил, и готов отвечать за все, что на моей совести, перед Богом и людьми, но не перед самодуром Троекуровым, и не перед теми, кто так устроил, что бездарь и самодур ходит в генерал-аншефах и, помыкая холуйским судом, нагло отнимает у честного дворянина скромное имение его, право на которое имеет он после многих лет безупречной службы на поле боя, где проливал он кровь свою. Похоронив отца и будучи изгнан из родительского дома, решил я прежде отомстить обидчикам, а уж потом думать, как мне жить и что мне делать. Но даже главному врагу своему не успел я воздать должное, ибо не сумел обуздать чувств к дочери этого негодяя. Она же, ничуть не озаботясь этими чувствами, с легкостью забыла, ради привычных условностей, о том, кто готов был положить жизнь свою к ее ногам.
И сегодня я не знаю, как распоряжусь собою. Пущу ли себе пулю в лоб, не умея распутать узел, мною завязанный, или действительно отправлюсь грабить с удалой шайкой на дорогах, подобно славным шотландцам Робин Гуду и Роб-Рою, не притесняя бедных и не щадя богачей, в надежде, что какой-нибудь поэт, вроде барона Дельвига, упомянет имя мое в своих балладах, или даже сочинит целый роман о моих приключениях. Да, не обладая предусмотрительностью и дальновидностью, самым неразумным образом погубил я жизнь свою. Вы вызываете во мне симпатию, Александр. Барон восхвалял вас как человека необыкновенных дарований и благородной души. Вы молоды и жизнь у вас впереди. И я искренне радуюсь, видя, как вы не поддаетесь предлагаемым вам соблазнам, помня о цели своей жизни.
13. Цель жизни
А. С. Пушкин.
- Быть может, это все пустое,
- Обман неопытной души!
– Цель жизни моя такова, что она может стать целью жизни любого смелого и решительного человека, думающего о судьбе России. Слова ваши, коими вы охарактеризовали беззаконие, исходящее от тех, кто захватил власть и губит своим произволом государство, говорят мне о том, что цель моя близка вам не менее, чем мне, – сказал Александр Нелимов.
– Каким образом? – удивился Дубровский.
– Если мы видим и понимаем причину беззакония и произвола… И готовы бороться за будущее России… То что может быть благороднее цели восстановить закон и справедливость, которые соответствовали бы обычаям нашего народа…