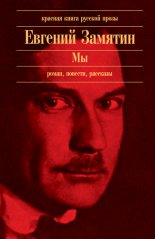Место встречи изменить нельзя (сборник) Вайнер Георгий

– Ну а тебе-то для чего ворованный браслет?
Сапрыкин пошевелил тяжелыми губами, дрогнул мохнатой бровью:
– Так, между прочим, я его не купил – выиграл. И тоже не собирался держать. Думал толкнуть, да не пофартило, я его и спустил дурачку Копченому. А что, загремел уже?
Жеглов пропустил его вопрос мимо ушей, спросил невзначай:
– Фокс у Верки по-прежнему ошивается?
– Не знаю, не думаю. Чего ему там делать? Сдал товар и отвалил!
– Ну уж! Верка разве сейчас берет? – удивился Жеглов.
Я взглянул на него и ощутил тонкий холодок под ложечкой: по лихорадочному блеску его глаз, пружинистой стянутости догадался наконец, что Жеглов понятия не имеет ни о какой Верке, ни о каком Фоксе и бредет сейчас впотьмах, на ощупь, тихонько выставляя впереди ладошки своих осторожных вопросов.
– А чего ей не брать! Не от себя же она – для марвихеров старается, за долю малую. Ей ведь двух пацанят кормить чем-то надо…
– Так-то оно так, – облегченно вздохнул Жеглов. – Скупщики краденого подкинут ей на житьишко – она и довольна: процент за хранение ей полагается. Да Бог с ней, несчастная она баба!
И я от души удивился, как искренне, горько, сердобольно пожалел Жеглов неведомую ему содержательницу хазы.
– Так ты что, больше Фокса не видел? – спросил Жеглов.
– Откуда? Мы с ним дошли до дома, где он у бабы живет, и я отвалил.
– Скажи-ка, Сапрыкин, ты как думаешь – Фокс в законе или он приблатненный? – спросил Жеглов так, будто после десяти встреч с Фоксом вопрос этот для себя решить не смог и вот теперь надумал посоветоваться с таким опытным человеком, как Кирпич.
– Даже не знаю, как тебе сказать. По замашкам он вроде фраера, но он не фраер, это я точно знаю. Ему человека подколоть – как тебе высморкаться. Нет, он у нас в авторитете, – покачал длинной квадратной головой Сапрыкин.
– А не мог Фокс окраску сменить? – задумчиво предположил Жеглов.
– Да у нас, по-моему, никто и не знает, чем он занимается. Сроду я не упомню такого разговора. Он на хазах почти не бывает – в одиночку, как хороший матерый волчище, работает. Появится иногда, товар сбросит – только его и видели…
Жеглов встал, прошелся по тесной комнатке, потянулся.
– Эх, чего-то утомился я сегодня! – Он снял трубку и набрал номер. – Кондрат Филимонович? Жеглов снова беспокоит. Я вызов пока отменяю, мы тут сами с Сапрыкиным разобрались. Нет, он себя прилично ведет. Ну и мы соответствуем. Привет…
Жеглов брякнул трубку и сказал Кирпичу:
– Жеглов – хозяин своего слова. Все будет, как мы договорились. Лады?
– Лады! – довольно кивнул Кирпич.
– Вот только я сейчас возьму здесь машину, и мы на минутку подскочим, ты мне покажешь дом, где остался Фокс в прошлый раз…
– Погоди, погоди! Мы об этом не договаривались, – задыбился Кирпич, но Жеглов уже натянул плащ и совал ему в руки шапку.
– Давай, давай! Запомни мой совет – никогда не останавливайся на полдороге. Поехали, поехали, я ведь и сам знаю, куда ехать, но с тобой оно быстрее будет. – И, приговаривая все это, Жеглов теснил его к двери, мягко и неостановимо подталкивал перед собой, и все время ручейком лилась его успокаивающе-усыпляющая речь, парализуя волю Кирпича, который сейчас медленно пытался сообразить, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего. Но времени на эти размышления Жеглов ему не давал, и, прежде чем вор смог принять какое-то решение, они уже сидели в милицейской «эмке» и призывно-ожидательно рокотал заведенный мотор, и тогда Сапрыкин махнул рукой:
– Поехали на Божедомку. Дом семь…
Они осмотрели быстро маленький двухэтажный дом, вернулись назад, уже в МУР, на Петровку, 38, и там Жеглов так же стремительно выколотил из Кирпича адрес Верки Модистки…
Без четверти девять Жеглов отправил Сапрыкина с конвоем и велел опергруппе загружаться в «фердинанд».
– Поедем в Марьину Рощу, к Верке Модистке, – сказал он коротко, и никому в голову даже не пришло возразить, что время позднее, что сегодня суббота, что все устали за неделю, как ломовые лошади, что всем хочется поесть и вытянуться на постели в блаженном бесчувствии часиков на восемь-девять. Или хотя бы на семь.
Все расселись по своим привычным местам на скользких холодных скамейках автобуса, Жеглов с подножки осмотрел группу, как всегда проверяя, все ли в сборе, махнул рукой Копырину, тот щелкнул своим никелированным рычагом-костылем, и «фердинанд» с громом и скрежетом покатился.
Жеглов сел рядом со мной на скамейку, и было непонятно, дремлет он или о чем-то своем раздумывает.
Шесть-на-девять устроился с Пасюком и рассказывал ему, что точно знает: изобретатели открыли прибор, который выглядит вроде обычного радиоприемника, но в него вмонтирован экран – ма-а-ленький, вроде блюдца, но на этом экране можно увидеть передаваемое из «Урана» кино. Или концерт в Колонном зале – а на блюдце все видно. И даже, может быть, слышно.
Пасюк мотал от удовольствия головой, приговаривал:
– От бисова дытына! Ну и брешет! Як не слово – брехня! Ой, Хгрышка!..
И снова повторял с восторгом:
– Ой брехун Хгрышка! Колы чемпионат такой зробят, так будешь ты брехун на всинький свит!
Шесть-на-девять кипятился, доказывая ему, что все рассказанное – правда, а он сам, Пасюк то есть, невежественный человек, не способный понять технический прогресс.
Жеглов спросил медленно, как будто между прочим:
– Ты чего молчишь? Устал? Или чем-то недоволен?
Я поерзал, ответил уклончиво:
– Да как тебе сказать… Сам не знаю…
– А ты спроси себя – и узнаешь!
Я помолчал мгновение, собрался с духом и тяжело, будто языком камни ворочал, сказал:
– Недоволен я… Не к лицу нам… Как ты с Кирпичом…
– Что-о? – безмерно удивился Жеглов. – Что ты сказал?
– Я сказал… – окрепшим голосом произнес я, перешагнув первую, самую невыносимую ступень выдачи неприятной правды в глаза. – Я сказал, что мы, работники МУРа, не можем действовать шельмовскими методами!
Жеглов так удивился, что даже не осерчал. Он озадаченно спросил:
– Ты что, белены объелся? О чем ты говоришь?
– Я говорю про кошелек, который ты засунул Кирпичу за пазуху.
– А-а!.. – протянул Жеглов, и когда он заговорил, то удивился я, потому что в один миг горло Жеглова превратилось в изложницу, изливающую не слова, а искрящуюся от накала сталь: – Ты верно заметил, особенно если учесть твое право говорить от имени всех работников МУРа. Это ведь ты вместе с нами, работниками МУРа, вынимал из петли мать троих детей, которая повесилась оттого, что такой вот Кирпич украл все карточки и деньги. Это ты на обысках находил у них миллионы, когда весь народ надрывался для фронта. Это тебе они в спину стреляли по ночам на улицах! Это через тебя они вогнали нож прямо в сердце Векшину!
Ну и я уже налился свинцово-тяжелой злой кровью:
– Я, между прочим, в это время не на продуктовой базе подъедался, а четыре года по окопам на передовой просидел, да по минным полям, да через проволочные заграждения!.. И стреляли в меня, и ножи совали – не хуже, чем в тебя! И может, оперативной смекалки я начисто не имею, но хорошо знаю – у нас на фронте этому быстро учились, – что такое честь офицера!
Ребята на задних скамейках притихли и прислушивались к нашему напряженному разговору. Жеглов вскочил и, балансируя на ходу в трясущемся и качающемся автобусе, резко наклонился ко мне:
– А чем же это я, по-твоему, честь офицерскую замарал? Ты скажи ребятам – у меня от них секретов нет!
– Ты не имел права совать ему кошелек за пазуху!
– Так ведь не поздно, давай вернемся в семнадцатое, сделаем оба заявление, что кошелька он никакого не резал из сумки, а взял я его с пола и засунул ему за пазуху! Извинимся, вернее, я один извинюсь перед милым парнем Костей Сапрыкиным и отпустим его!
– Да о чем речь – кошелек он украл! Я разве спорю? Но мы не можем унижаться до вранья – пускай оно формальное и по существу ничего не меняет!
– Меняет! – заорал Жеглов. – Меняет! Потому что без моего вранья ворюга и рецидивист Кирпич сейчас не сидел бы в камере, а мы дрыхли бы по своим квартирам! Я наврал! Я наврал! Я засунул ему за пазуху кошель! Но я для кого это делаю? Для себя? Для брата? Для свата? Я для всего народа, я для справедливости человеческой работаю! Попускать вору – наполовину соучаствовать ему! И раз Кирпич вор – ему место в тюрьме, а каким способом я его туда загоню, людям безразлично! Им важно только, чтобы вор был в тюрьме, вот что их интересует. И если хочешь, давай остановим «фердинанда», выйдем и спросим у ста прохожих: что им симпатичнее – твоя правда или мое вранье? И тогда ты узнаешь, прав я был или нет…
Глядя в сторону, я сказал:
– А ты как думаешь, суд – он тоже от имени всех этих людей на улице? Или он от себя только работает?
– У нас суд, между прочим, народным называется. И что ты хочешь сказать?
– То, что он хоть от имени всех этих людей на улице действует, но засунутый за пазуху кошелек не принял бы…
– И это, по-твоему, правильно?
Я думал долго, потом медленно сказал:
– Наверное, правильно. Я так понимаю, что если закон один разок под один случай подмять, потом под другой, потом начать им затыкать дыры каждый раз в следствии, как только нам с тобой понадобится, то это не закон тогда станет, а кистень! Да, кистень…
Все замолчали, и молчание это нарушалось только гулом и тарахтением старого, изношенного мотора, пока вдруг Коля Тараскин не сказал со смешком:
– А мне, честное слово, нравится, как Жеглов этого ворюгу уконтрапупил…
Пасюк взглянул на него с усмешкой, погладил громадной ладонью по голове, жалеючи сказал:
– Як дытына свого ума немае, то с псом Панаской размовляе…
И ничего больше не сказал. Шесть-на-девять стал объяснять насчет презумпции невиновности. А Копырин притормозил, щелкнул рычагом:
– Все, спорщики, приехали. Идите, там вас помирят…
Дом стоял в 7-м проезде Марьиной Рощи, немного на отшибе от остальных бараков. Был он мал, стар и перекошен. Свет горел только в одном окне. Жеглов велел Пасюку обойти дом кругом, присмотреться, нет ли черного хода, запасных выходов и нельзя ли выпрыгнуть из окна.
А мы стояли, притаившись в тени облетевшего кустарника. Пасюк, сопя, обошел дом, заглянул осторожно в окна, махнул нам рукой. Жеглов постучал в дверь резко и громко, никто не откликался, потом шелестящий женский голос спросил:
– Это ты, Коля?
– Да, отворяй, – невнятно буркнул Жеглов, и долго еще за дверью раздавался шум разбираемых запоров.
Потом дверь распахнулась, и женщина, придерживающая в ковшике ладони коптилку, испуганно сказала:
– Ой, кто это?
– Милиция. Мы из МУРа. Вот ордер на обыск…
Мы вошли в дом и словно окунулись в бадью стоялого жаркого воздуха – пахло кислой капустой, жаренными на комбижире картофельными оладьями, старым, рассохшимся деревом, прогорелым керосином и мышами. Я заглянул за ситцевую занавеску – там спали в одной кровати два мальчика лет пяти – семи, – повернулся к оперативникам, шумно двигающим по комнате стулья, сказал вполголоса:
– Не галдите, ребята спят…
Жеглов усмехнулся, кивнул мне, усаживаясь плотно за стол:
– Давай, командир, распоряжайся!
Я взял лежащий на буфетике паспорт, раскрыл его, прочитал, взглянул в лицо хозяйке:
– Моторина Вера Степановна?
– Я самая… – От волнения она комкала и расправляла фартук, терла его в руках, и от беспорядочности этих движений казалось, будто она непрерывно стирает его в невидимом корыте.
– У вас будет произведен обыск, – сказал я ей нетвердым голосом и добавил: – Деньги, ценности, оружие предлагаю выдать добровольно…
– Какое же мое оружие? – спросила Моторина. – Все ценности мои на лежанке вон сопят. А кроме этого, нет ничего у меня. Карточки продуктовые да денег сорок рублей.
– Тогда сейчас пригласят понятых, и мы приступим к обыску, – предупредил я.
– Ищите! – развела она руками. – Чего найдете – ваше.
– А вы не удивляетесь, что обыск у вас делают, гражданочка дорогая? – спросил Жеглов, облокотившись на стол и положив голову на сжатые кулаки.
– Чего ж удивляться! Не от себя небось среди ночи в мою хибару поехали. Раз ищете, значит, вам надо…
– А с чего вы живете? С каких средств, спрашиваю, существуете? – Жеглов, прищурясь, смотрел на нее в упор.
– Портниха я, дают мне перешивать вещички, – вздохнула она глубоко. – Там перехвачу, сям перезайму – так и перебиваемся…
– Кто дает перешивать? Соседи? Знакомые? Имена сообщить можешь?
– Разные люди, – замялась Моторина. – Всех разве упомнишь…
– А-а-а! – протянул Жеглов. – Не упомнишь! Тогда я напомню, коли память у тебя ослабла: у воров ты берешь вещички, перешиваешь, а барыги-марвихеры их забирают и, пользуясь нуждой всеобщей, продают на рынках да в скупках. Так вот вы все и живете на людской беде и нужде…
– Ну да, – кивнула согласно Моторина. – Вон я как на чужой беде забогатела: мне самой много – хочешь, с тобой поделюсь…
– А ты меня не жалоби, – мотнул головой Жеглов. – Ишь, устроила клуб для воровских игр и развлечений…
Он широко взмахнул рукой, как бы приглашая всех полюбоваться на патефон с набором пластинок и гитару с пышным бантом на стене.
– Тебя, видать, разжалобишь, – сказала Моторина и, повернувшись ко мне, предложила: – Вы, гражданин, ищите, чего вам надо. А хотите – спросите, может, я сама скажу, коли знаю, чтобы и время вам не терять…
– К вам когда приходил Фокс? – наугад спросил я.
– Фокс? Дня два тому или три…
– А зачем приходил? Что делал?
– Ничего не делал. Он у меня вещи свои держит, с женой не живет. Вот он забрал шубу и ушел…
– Какие вещи? – посунулся я к ней.
– Чемодан, – спокойно сказала Моторина. Зашла за занавеску и вынесла оттуда кожаный желтый чемодан с ремнем посредине – точно по описанию Ларисы Груздевой.
– А какую, вы говорите, шубу он взял?
– Так я разве присматривалась? Черная меховая шуба, под котик она, кажется. Сложил ее в наволочку и унес.
В чемодане оказались чернобурка, платье из панбархата, темно-синий вязаный костюм, две шерстяные женские кофты – почти все вещи, похищенные из квартиры Ларисы. Это была неслыханная удача, в нее было трудно поверить. Оставалось только понять, как эти вещи от Груздева попали к неведомому Фоксу. Если бы его удалось задержать, все стало бы тогда на свои места.
– А как попал к вам Фокс? – спросил я.
– Его привел как-то несколько месяцев назад Петя Ручечник. Сказал, что знакомец его, в Москву он в командировки часто наезжает, а с гостиницами плохо, просил приютить. Он мне платил помаленьку…
– Фокс в последний раз как выглядел?
Моторина с удивлением взглянула на меня, неторопливо объяснила:
– Приличный человек, одет в военное, только без погон. Очень культурный мужчина: слова плохого не скажет или чтобы с глупостями какими приставал – никогда. Но ночевал он редко, все больше принесет вещи, а потом забирает. Нет, ничего плохо про него не скажу – приличный мужчина…
– Скажите, Вера Степановна, – начал я, мучительно подбирая слова. – Вот как бы вы определили, вы же видели здесь жуликов, отличить можете… Фокс этот – преступник или нет?
– Не думаю, – рассудительно сказала Моторина. – Он научной работой занимается…
И вдруг мне пришла в голову неожиданная мысль, но, прежде чем я открыл рот, Жеглов выхватил из планшета фотографию Груздева – в фас и профиль – и протянул Моториной:
– Ну-ка, Вера, глянь – он?
Моторина долго крутила в руках фотоснимок, внимательно присматривалась, потом сказала нетвердо:
– Нет, не он вроде бы. Этот постарше. И нос у этого длинный… И не такой симпатичный…
– Что значит «вроде бы»? – рассердился Жеглов. – Ты же его не один раз видела, неужели не запомнила?
– А что мне в него всматриваться? Не замуж ведь! Но все ж таки этот – на карточке – не тот. Фокс – он вроде тебя, – сказала она Жеглову. – Высокий, весь такой ладный, быстрый. Брови у него вразлет, а волосы курчавые, черные…
– Про чемодан что сказал? Когда придет? – спросил я.
– На днях обещал заглянуть – перед отъездом домой. Тогда, сказал, и вещи свои заберу…
Пока оперативники заканчивали обыск, я поинтересовался у Жеглова:
– Глеб, а кто такой Петя Ручечник?
– Ворюга отъявленный. Сволочь, пробы негде ставить…
– Разыскать его трудно?
– Черт его знает – неизвестно, где искать.
– А какие к нему подходы существуют?
– Не знаю. Это думать надо. Через баб его можно попробовать достать. Но он и с ними не откровенничает. – Жеглов встал и повернулся к Моториной: – У вас останутся два наших сотрудника. Теперь они будут вашими жильцами.
– Зачем? – удивилась она.
– Затем, что в доме вашем остается засада. Вам из дома до снятия засады выходить не разрешается…
– А сколько же ваша засада сидеть тут у меня будет?..
– Пока Фокс не заявится…
Еще не было одиннадцати, когда мы торопливо вывалились на улицу. Шагая к автобусу по немыслимым колдобинам 7-го проезда, я с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух, который казался еще слаще после духовитой атмосферы Веркиного дома, и размышлял о том, какое все-таки чудо – личный сыск, когда в огромном, многомиллионном городе не растворился, не исчез в людском скопище тонюсенький ручеек следов, начавшийся в квартире Груздевых, ушедший под землю, забивший нежданным ключиком во второсортном ресторанчике «Нарва», сделавший столько прихотливых извивов и вышедший на ровное место в 7-м проезде Марьиной Рощи. Один лишь вопрос имеется: судя по всему, этот Фокс – тертый калач и, какой бы он ни был окраски, он из преступного мира. А Груздев все-таки врач, кандидат наук, человек почтенной специальности, и совершенно непонятно, что его может связывать с уголовником. Правда, я уже слышал о таком: Груздев мог нанять Фокса или как-нибудь иначе заставить его принять участие в преступлении, но, честно говоря, подобный вариант представлялся мне более похожим на рассказы Гриши Шесть-на-девять.
Дошли до автобуса, молча расселись по своим местам, Копырин лязгнул дверным рычагом, и «фердинанд» тронулся. На улицах было пустынно, и ехали быстро – промелькнул детский парк, заброшенное кладбище, выехали на Трифоновскую, потом на Октябрьскую. На площади Коммуны Тараскин вдруг сказал радостно:
– Гля, с театра-то камуфляж сымают, а?
Театр Красной Армии был хорошо освещен – на стройных его колоннах висели малярские люльки. Омерзительные зеленые разводы, маскировавшие театр при воздушных налетах под немыслимые, ненастоящие деревья, теперь тщательно закрашивали, и к огромным колоннам возвращалась их прежняя строгая красота…
Жеглов сказал мне:
– Значитца, так, Володя. Мы сейчас в Управление: надо Верку по учетам проверить, чемодан с вещичками посмотрим внимательно. А вы с Тараскиным едете дальше, на Божедомку, выявляете женщину, о которой говорил Кирпич. Сделаешь быстро установочку на нее, оглядишься – и к ней. Только осторожно: если тот орелик у нее, можете на пулю нарваться. А дальше – по обстоятельствам. Жду!
Автобус по Каретному подкатил к воротам дежурного по городу, ребята выскочили на улицу, а мы с Тараскиным поехали на Божедомку.
«Фердинанд» мы оставили за квартал до седьмого дома и пошли по тротуару неторопливой, фланирующей походкой, чтобы не привлекать внимания, – так, два немного загулявших приятеля. Освещение было тусклое, фонари на редких столбах светили словно нехотя, и разбойно посвистывал в подворотнях пронизывающий, едкий октябрьский ветерок. Под номером семь оказалось, собственно говоря, не один, а целых три дома, и на каждом из них была табличка: «Дом 7, строение 1», «Дом 7, строение 2», «Дом 7, строение 3». Домишки неважные, ветхие, скособоченные, обшитые почерневшими трухлявыми досками. Кирпич указал «строение 2», но списка жильцов в подъезде не было, да и что от него толку, когда нам неизвестна фамилия знакомой Фокса? Надо было искать дворника.
– Эх, за участковым следовало заехать! – шепотом пожалел Тараскин, и я не успел согласиться, как из двора вышел человек в подшитых валенках, зимней шапке-ушанке, с огромной железной бляхой на фартуке – дворник.
Попыхивая невероятных размеров «козьей ногой», он подошел к нам, подозрительно присмотрелся и спросил неожиданно тонким, скрипучим голосом:
– Ай ищете кого, гражданы? Вам какой дом надобен?..
Я торопливо достал из гимнастерки свое новенькое удостоверение и с удовольствием – предъявлять его приходилось впервые – показал дворнику. И сказал вполголоса:
– Нам управляющий седьмого дома нужен. Срочно!
Дворник пыхнул цигаркой, окутавшись таким клубом едкого дыма, словно дымзавесу химики протянули, и сказал вполголоса, будто огромную тайну нам доверил:
– Воронов Борис Николаевич. Они тут же, при домправлении проживают. Спят, должно…
– Веди! – скомандовал Тараскин, и мы двинулись вслед за дворником к домоуправу, который, как вскоре выяснилось, не спал, а сидел в конторе с большой кружкой чая в единственной руке и читал «Пещеру Лейхствейса», засаленную и растрепанную.
Мы полистали домовую книгу, такую же древнюю, как «Пещера», только для нас в данный момент более интересную. В строении № 2 проживали четыре семьи. Муж и жена Файнштейн, оба рождения 1873 года. Суетовы – Марья Фоминична, 1903 года рождения, и ее сыновья-близнецы, тридцать пятого года рождения. Фамилия Суетова Ивана Николаевича, 1900 года, была прочеркнута, и сбоку красными чернилами написано: «Погиб на фронте Отеч. войны 17 дек. 1941 года». Курнаковым досталось два таких прочерка, а значились женщины, – видимо, свекровь и сноха, Курнакова Зиновия, 1890 года, и Курнакова Раиса, 1920 года. Завершался список квартиросъемщиков строения № 2 Соболевской Ингрид Карловной, 1915 года рождения. Курнаковы и Соболевская жили на втором этаже, поэтому я сразу же и попросил управляющего:
– Борис Николаевич, опишите нам коротенько жильцов второго этажа…
– Пожалуйста. – Воронов, прижав коробок ладонью к столу, очень ловко чиркнул по нему спичкой, закурил. – Соболевская – женщина интеллигентная, певицей работает, разъезжает часто. Ведет себя скромно, квартплату вносит своевременно…
– До войны еще замуж вышла, – вмешался дворник. – Переехала к мужу, да, как война началась, он погиб в ополчении. Она и вернулась… Приличная жилица, себя соблюдает, не то что Катька Мокрухина из двадцать седьмой, спокою от нее ни днем ни ночью нет…
– Постой, Спиридон, что из тебя, как из рваного мешка, сыплется! – сказал домоуправ, и дворник обиженно замолчал. – Теперь Курнаковы. Зиновья Васильевна на фабрике работает, ткачиха, а невестка, Рая, та дома по хозяйству – больная она, после контузии видит плохо, ей лицо повредило… А так люди хорошие, простые…
Мы с Тараскиным переглянулись – выбирать было не из чего, – попрощались с домоуправом, позвали с собой дворника и вышли. На втором этаже слабо светилось из-за тюлевой занавески одно окно. Дворник показал на него, бормотнул:
– Соболевская…
– Слушай, друг! – Я положил ему руку на плечо. – Ты не видал, часом, парень к ней ходит, довольно молодой…
Спиридон почесал затылок, сказал неуверенно:
– Хто ее знает… Ходют, конечно, люди… Ходют… И молодые ходют. А какой он из себя?
В спешке у Кирпича не взяли подробного словесного портрета Фокса, да и тактически было неправильно показывать Кирпичу, что ищем мы и сами не знаем кого, и теперь, кроме скупой Веркиной характеристики – «Ладный, брови вразлет, высокий, черный», – я ничего о Фоксе и сказать не мог. Так я и объяснил:
– Высокий, ладный такой, брови вразлет, волосы черные…
– Вроде заходил наподобие… – сказал задумчиво дворник, и было видно, что он говорит это скорее из желания сделать приятное работникам милиции, беспокоящимся в такую поздноту. И совершенно бездумно повторил: – Высокий, ладный…
– В военной форме, только без погон, – вспомнил я.
– Так ведь сейчас все в военной форме без погон ходют, – резонно возразил дворник. – Это я тут слыхал, как один сговаривался по телефону с другим спознаться: я, говорит, буду в галошах и в пиджаке.
– И то верно, – согласился Тараскин и сказал мне: – Хватит небось рассусоливать, пошли к ней, там видно будет…
Мы вошли в подъезд, темный, пропахший старым крашеным деревом, кошками, щами и оладьями из картофельной кожуры, которые все называли тошнотиками. Наверх вела старая перекосившаяся лестница, и от одного только взгляда на нее, казалось, поднимался невероятный скрип. Между этажами горела маленькая пыльная лампочка – уныло, вполнакала, еле-еле самое себя освещала.
– Вы меня здесь подождите, – шепнул я и двинулся наверх неслышным плывущим шагом, от которого уже начал на гражданке отвыкать; приник к двери Соболевской. За дверью было совершенно тихо, и я стал прикидывать, под каким предлогом лучше всего стучаться в квартиру.
С одной стороны, Кирпич мог наврать, показать вовсе и не тот дом, и в этом случае мы сейчас поднимем неповинного человека, одинокую женщину. Невелика радость ей посреди ночи двери открывать кому бы то ни было. С другой стороны, если адрес правильный, Фокс может сейчас быть здесь, а поскольку он мальчишечка серьезный, то и бабахнет за милую душу. Жеглов не зря предупреждал. Конечно, был бы здесь Жеглов, он бы что-нибудь придумал…
В общем, какие фортели ни перебирай, а входить надо. И если Фокс там, наш приход должен выглядеть понатуральнее, а всякие там «примите телеграмму» и все такое прочее сразу наведет его на подозрение.
Я опять спустился, быстро отдал распоряжения:
– Тараскин, ты давай под окна на всякий случай – вдруг сиганет, здесь невысоко, так что ты его встретишь. А ты, дед Спиридон, со мной. Она тебя знает?
– Знает, – буркнул дворник.
– Скажешь ей, что с тобой милиция – проверка документов. Извинись.
Дворник кивнул, и мы пошли наверх. Стучать в дверь пришлось довольно долго, наконец сонный испуганный женский голос спросил:
– Кто там?
– Это я, дворник, Спиридон Иваныч, – сказал дед, прокашлявшись. – Вы уж извините, гражданочка Соболевская, отворите на минутку…
Дверь приоткрылась – видимо, на цепочке. Соболевскую в темном коридоре не видно было, но она, наверное, разглядела дворника и сказала уже спокойнее, но с раздражением:
– Что приключилось, Спиридон Иваныч?
– Да вот из милиции, проверка документов, вы уж отворите, – сказал виновато дворник, и Соболевская, сняв цепочку, открыла дверь, зажгла свет в прихожей.
Я поздоровался и сразу же, бормотнув «извините», прошелся по квартире – ни в комнатах, а их было две, ни в крохотной кухоньке, ни в тоже крохотном туалете никого не было. Только убедившись в этом, я вернулся в прихожую, сказал хозяйке:
– Извините, пожалуйста, гражданочка. Служба! – И, разведя руками, пояснил: – Время трудное, паспортный режим приходится соблюдать.
Соболевская хмуро, без всякого сочувствия, кивнула. На ней был толстый махровый халат, голова низко – по самые брови – плотно повязана шелковой косынкой, лицо покрыто таким густым слоем белого крема, что черты толком разглядеть невозможно. Я помялся немного, попросил:
– Мне бы поговорить с вами хотелось. Можно?
Соболевская пожала плечами:
– Н-ну… Если это необходимо… Извините за такой вид… Лицо – мой профессиональный инструмент… Прошу в гостиную.
Мы прошли в гостиную – небольшую, на мой взгляд, богато обставленную комнатку, очень непохожую на ужасный внешний вид «строения 2». Многое мне здесь понравилось и удивило: красивый пушистый ковер, лежащий на полу, в то время как многие охотно повесили бы такой ковер на стену, кабы достали – жалко мне было ногами топтать такую добрую вещь, – и стоящая на полу лампа в виде узкой длинной китайской вазы с огромным темно-красным пушистым абажуром, и коротконогий столик с хрустальной пепельницей и ворохом красивых заграничных журналов, и низкие мягкие кресла. Я так засмотрелся на все это, что чуть не забыл о цели своего прихода, но хозяйка, даже не предложив сесть, сухо напомнила:
– Так я слушаю вас…
Я взглянул на дворника, который столбом замер в прихожей. В предстоящем разговоре он был человеком лишним, и я сказал:
– Спасибо, Спиридон Иваныч, за службу. Свободен!
Дворник ушел, а я осторожно присел на краешек кресла – умаялся за день! – и приготовился спрашивать, не в лоб, конечно, а осторожно, с подходцем. Соболевская, скривив губы, закурила длинную пахучую папиросу и тоже села.
– Ходят последнее время по разным домам разные люди… – начал я весьма неопределенно, поскольку и сам еще не представлял, как выстроить план атаки, и все слова, подходящие и уместные мысли испарились, и снова я с завистью вспомнил о Жеглове – он-то не растерялся бы, – но поскольку Жеглов находился совсем в другом месте, мысленно махнул я рукой и пустился во все тяжкие: – Под видом, значит, государственных этих… служащих, жульничают, ну и… В порядке, так сказать, предупреждения… К вам приходил кто за последнее время?
– Только мои хорошие знакомые, – твердо сказала Соболевская и этим ответом напрочь отсекла возможность развития темы о каких-то неизвестных проходимцах.
И тогда я плюнул на все подходы и спросил прямо:
– А четыре дня назад вечером к вам приходил… Кто такой?
Зажав длинный мундштук папиросы двумя пальцами и красиво отставив мизинец, Соболевская глубоко затянулась, выпустила узкую струю пахнущего медом дыма, не спеша, растягивая слова, сказала:
– А-а… Во-от вы о чем… Н-ну что ж… Этого человека я действительно мало знаю… – И надолго замолчала.
Я добыл из кармана измочаленную пачку «Норда», размял папироску, чиркнув трофейной зажигалкой, тоже закурил. Молчание затягивалось, но молчать – не разговаривать, молчать я могу всерьез и подолгу, и поэтому я спокойно потягивал дымок, аккуратно скидывал пепел в ладонь, пока весь табачок не прогорел и жженой бумагой не запахло; тогда я поднялся, стряхнул мусор в пепельницу и выжидательно посмотрел на Соболевскую.
– Не скрою, я хотела бы знать его лучше, – сказала она так, будто никакой паузы вовсе и не было. И огорченно развела руками: – К сожалению, у меня это не получилось…