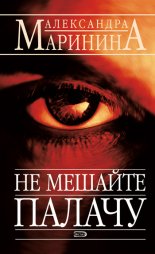Воющие псы одиночества Маринина Александра

Глава 1
Господи, если бы знать, что на самом деле это так страшно, так невозможно страшно… Или не Господи, а дьявол? Или кто там еще искушает нас, обещая, что один раз будет очень тяжело, зато потом все наладится, и в следующий раз уже не так страшно, а потом легче, и легче, и легче… А главное – после этого первого раза сразу же все встанет на свои места, тяжесть упадет с плеч, и ты поймешь, что все было не зря, не напрасно. В первый раз так и случилось, тяжесть упала, и стало легко дышать, и можно было снова поднять голову и жить дальше, и казалось, что второй раз будет легче. Но во второй раз все равно страшно.
А в третий?
– Со мной никто еще так не разговаривал…
Эти последние слова все еще звучат в ушах, и этот последний взгляд, доверчивый, восхищенный, все еще прожигает мне щеку, хотя сами глаза уже мертвы, и голос, теплый и чуть удивленный, никогда больше не вырвется из этой гортани, заключенной в нежную оболочку белой кожи, покрывающей шею. И уже другой голос, властный, пугающий, набирает силу в воспаленном мозгу, напоминая: мне все равно, как ты убьешь, но на теле должна остаться метка – розовый шелковый бантик, приколотый к волосам.
Бантик лежит в кармане, приготовлен заранее. От ужаса происходящего пальцы внезапно обретают какую-то сверхчувствительность, и шелковая ткань кажется на ощупь шершавой и жесткой, как наждачная бумага. Мелькает несуразная мысль о том, что продавщица в галантерейном отделе универмага обманула и подсунула вместо шелковой ленты дешевую синтетику. Надо перестать думать и довести дело до конца.
Приколоть бантик к волосам. Достать заколку-невидимку, которая никак не выковыривается из карманного шва. Нагнуться. Дотронуться до пряди волос. Мертвая прядь. Мертвых волос. На мертвой голове мертвого человека. Зажмуриться, ничего не видеть, потом открыть глаза и убедиться, что это только сон…
* * *
А вода в ванной все шумела и шумела. Георгий недовольно поморщился, переменил позу, высвобождая затекшую ногу, огляделся в поисках телевизионного пульта. Вечно она засовывает его в самые неожиданные места и потом подолгу ищет, разбрасывая все, что попадается на пути. Зачем он тут сидит? Чего дожидается? Сейчас она выйдет из ванной и… Что? Кинется к нему в объятия? А потом, удовлетворенная и притихшая, снисходительно спросит, какой подарок он хотел бы получить к Пасхе? Ничего этого не будет, потому что сегодня она не в настроении. Сегодня она опять… Появилась среди ночи, взбудораженная, нервная, бросила, выходя из машины, косой взгляд на Георгия, терпеливо сидевшего возле ее дома на скамейке.
– Зачем ты здесь? – спросила сквозь зубы, полуобернувшись через плечо. – Я тебя не звала.
– Мы давно не виделись, – виновато пробормотал он.
– Ну и что? Это дает тебе право меня караулить? Ты должен приходить только тогда, когда я тебе звоню и мы договариваемся. Сколько раз нужно повторять, чтобы ты наконец запомнил?
– Я могу войти? – покорно вздохнул он.
В тот момент он еще надеялся, что она просто задержалась в гостях, ездила куда-то далеко, потому и вернулась поздно. Войдя следом за ней в квартиру, заметил при ярком свете запавшие страшные глаза, обведенные серыми полукружьями, и понял, что все повторяется. Ярко-алые узкие брючки в точности совпадали по цвету с губной помадой и мягкой кожей, из которой сделана изящная сумочка, все остальное в ее облике было черным вплоть до лака на ногтях и украшений с ониксами. И такими же черными и жуткими были ее глаза. Ведьма, прилетевшая с шабаша. Единственной вещью, выпадавшей из образа, был пакет, обычный пакет из супермаркета, в таких покупки носят.
Она бросила пакет прямо у двери, словно тут же забыв о нем, и молча ушла в ванную. Георгий знал, что теперь она будет долго стоять под душем, словно не моется, а отмывается от чего-то липкого и мерзкого, потом нальет воду в ванну, бросит ароматические и расслабляющие соли и будет лежать не меньше получаса, потом выйдет, обернутая большим полотенцем, пройдет, не говоря ни слова, в спальню и закроет за собой дверь. Она не будет спать, нет, просто полежит минут тридцать-сорок. Потом выйдет и спокойно и твердо потребует, чтобы он ушел. Никакой близости, никаких ласк, никаких разговоров. Он покорно уйдет и станет ждать ее звонка, но позвонит она не раньше чем через две недели. Так уже было раньше несколько раз. Она ничего не объясняет и ни за что не просит прощения, она просто делает так, как считает нужным и как ей удобно, а он терпит, потому что у нее есть деньги. А у него их нет.
Зачем он тут сидит? Чего ждет? Очередной подачки в виде модной куртки или стильных часов? Честно говоря, было бы очень кстати, но сегодня, совершенно очевидно, не обломится ему. Ждать придется как минимум две недели, а ведь уже тепло и носить зимнюю куртку как-то не по сезону. А если не ждать? Если попробовать не пойти у нее на поводу? Ну что она сделает? Убьет его? Кишка тонка. Выгонит? Так она и без того его выгонит, только не сразу, а когда выйдет из спальни. Чем он рискует?
Ноги снова затекли, Георгий поднялся, немного походил по комнате, чтобы размяться, дошел до окна, выглянул на улицу, сделал несколько шагов к входной двери и споткнулся о брошенный пакет. С досадой пнул его ногой и наклонился, чтобы поднять. Из пакета выпала черная вельветовая куртка. И что-то непонятное, лохматое. Парик? Да, парик. Длинные каштановые кудри, слегка отливающие медью. Странно… Зачем ей парик? Совсем недавно она постриглась. Зачем было стричься, если ей нравятся длинные волосы? Оставила бы как есть. Чепуха какая-то. Вечно она пытается сделать себя получше, попривлекательнее, то с прическами мудрит, то с макияжем, то с одеждой, хочет выглядеть моложе и сексуальнее. А зачем? Кому она нужна-то, кроме него, Георгия? Кто на нее позарится?
Хотя… ведь ездила же она куда-то. Для кого-то надевала и парик этот патлатый, и молодежного покроя куртку. Неужели нашелся любитель несвежего тела? И ведь это уже не в первый раз.
Он еще раз с силой ударил по вывалившемуся из пакета содержимому, парик взмахнул крыльями-локонами, отлетел и приземлился на пороге комнаты, а куртка испуганно забилась в угол.
Решительно рванув ручку двери, Георгий вошел в ванную. Что ни говори, а выглядит она очень даже прилично для своих лет, подумал он, имея в виду, конечно же, не ванную комнату, а находившуюся в ней женщину.
– Где ты была? – громко спросил он, стараясь при помощи децибел придать себе храбрости. – Мне надоели твои постоянные отлучки.
– Ничем не могу помочь, – равнодушно бросила она. – Если что-то надоело тебе, то это проблема твоя, а не моя.
– Так все-таки, где ты была?
– Там же, где всегда.
– Где это? – он немного растерялся, не ожидая такого ответа.
– Это не твое дело. Ты проводишь со мной несколько часов в неделю, все остальное время я живу своей жизнью, о которой я тебе не обязана рассказывать. Выйди, пожалуйста, и не мешай мне.
– У тебя кто-то появился?
– Это не твое дело. Мы с тобой не живем вместе, ты всего лишь приходящий любовник и моим временем не распоряжаешься. Я бываю там, где хочу, и тогда, когда хочу. И, если уж на то пошло, с тем, с кем хочу. Не понимаю, что тебя не устраивает.
Она даже не повернула голову, так и лежала, вытянувшись в ванне и подняв лицо, будто разглядывая что-то на потолке.
– Я понял. – Георгий сделал над собой усилие, чтобы не ответить грубостью, за которую ему пришлось бы потом дорого заплатить. – Я не прошу, чтобы ты передо мной отчитывалась…
– Было бы странно, – презрительно фыркнула она.
– Но я могу спросить хотя бы просто из любопытства? Мы все-таки не чужие с тобой, правда? Ты приходишь в два часа ночи, напряженная, взбудораженная, сама на себя не похожая, со мной не разговариваешь, даже видеть меня не хочешь. Так было и в прошлый раз, месяц назад, я помню. И в декабре, перед Новым годом. И осенью было. Я ничего не требую, я просто хочу знать, откуда ты возвращаешься в таком… непонятном состоянии.
Она соизволила повернуть голову, подняла над розоватой от ароматических кристаллов водой одну руку, пошевелила пальцами в воздухе, рассматривая маникюр. Потом проделала ту же манипуляцию с другой рукой. Ногти были длинными, покрытыми черным и красным лаком: на черном поле красная полоска по диагонали. «Ей не идет, – подумал Георгий. – Молодым девчонкам черный цвет придает сексуальность, а ее он уже старит. Неужели сама не видит?»
– Я бываю там, где получаю удовольствие, – негромко ответила она, снова уставившись в потолок. – Более того, я получаю наслаждение, такое наслаждение, какое тебе и не снилось. Самое острое и самое глубокое наслаждение, какое только можно вообразить.
– Ты что, не понимаешь, что в твоем возрасте это очень опасно?! – взорвался Георгий. – Тебе уже не семнадцать лет!
– Ты о чем? – Она слегка удивилась, но, однако, не настолько, чтобы все-таки посмотреть на него.
– Ты ведь наркотики употребляешь, да? Я угадал? Что ты делаешь? Нюхаешь кокаин? Или колесами заправляешься? Или уже колешься? У тебя что, совсем мозги отшибло, не соображаешь ничего, да? Забыла, сколько тебе лет?
Он еще успел проорать несколько столь же гневных слов, когда вдруг понял, что она его не слушает. Она хохочет. Громко, немного истерично, даже как-то надрывно. Теперь она сидела в ванне, полуобернувшись к нему, положив руки на бортик и уткнувшись в них лицом. Внезапно смех оборвался. Она подняла голову и посмотрела на Георгия так, что ему стало не по себе. Глаза ее были еще более страшными, а лицо еще более бледным, чем полчаса назад, когда она пришла.
– Я все помню, мальчик, – медленно произнесла она. – И про свой возраст, и про твой, и про свои деньги, и про твои. В твоей убогой головенке живет скудный набор представлений, которыми ты и руководствуешься в своей скудной жизни массажиста. Ты думаешь, что единственный источник настоящего наслаждения это наркотики? Мне жаль тебя, мальчик. Ты не знаешь и никогда не узнаешь истинных глубин наслаждения и восторга, потому что они недоступны твоей скудной, убогой душонке.
Она сделала короткую паузу и вдруг завопила:
– Убирайся! Вон отсюда! И не смей за мной следить и задавать мне вопросы!
Георгий испуганно шарахнулся к двери, он не ожидал такого перепада громкости. А она продолжала спокойно и холодно:
– Иди домой. Придешь, когда я разрешу. Будешь хорошо себя вести, подарю тебе что-нибудь… Какой у нас там ближайший праздник? Пасха, что ли? Вот на Пасху и подарю, если будешь умником. Пошел вон отсюда.
«Старая шлюха, – злобно твердил про себя Георгий, натягивая куртку и захлопывая за собой дверь. – Сволочь! Истеричка! Хамло! Почему она смеет так со мной разговаривать? И главное, почему я ей это позволяю? Почему она не боится, что я ее брошу? Откуда у нее такая уверенность, что на мое освободившееся место тут же выстроится очередь из претендентов? Смотреть не на что, а туда же… Или у нее денег больше, чем я думаю? Гораздо, гораздо больше, просто она не хочет это афишировать, потому и квартирка у нее самая обыкновенная, и машинка у нее скромненькая, и не швыряет она купюры направо и налево, а бережет, копит. Много у нее денег, ох, много, и она твердо знает, что на эти деньги она сможет купить себе любого мужика, который понравится. Но если это так, если так, то… Надо все обдумать. Если она действительно не просто состоятельная стареющая дама, а очень и очень богатая дама, то это мой шанс, который я могу использовать на все сто, а могу бездарно профукать. Лучше, конечно, первое, чем второе».
* * *
Она любила ночной город. Так было не всегда, росла она правильной городской девочкой, которую родители оберегали и запрещали возвращаться домой за полночь. Любовь к ночному городу возникла во время первой длительной загранкомандировки, когда ей пришлось три года прожить с мужем в Индии. Днем в многолюдном и заполненном звуками и запахами Дели она задыхалась и глохла, и только ночь приносила некоторое облегчение. Тогда она и привыкла строить свою жизнь так, чтобы днем спать, а ночью работать. Посольской переводчице, разумеется, никто такой вольности не давал, но все равно она как-то устраивалась, стараясь дремать в любую, не заполненную работой минуту, набираясь сил к наступлению вечера и лишь часов в одиннадцать начиная дышать полной грудью. В пять утра, когда город просыпался, принимаясь источать жару, звуки и запахи, она засыпала и крепко спала до девяти. Этого ей хватало, чтобы продержаться рабочий день, не делая заметных ошибок и не допуская грубых промахов.
По возвращении домой она научилась любить ночную Москву, а во время второй командировки – на этот раз со вторым мужем, во Францию – прониклась прелестью ночного Парижа.
Она давно научилась мало спать, и даже теперь, когда не было возможности поменять местами день и ночь, ложилась поздно, часа в три.
«Нет, я не Элеонора, – привычно подумала она, воспользовавшись паузой в движении, чтобы посмотреть на себя в зеркало. – И не Нора. И не Элла. Я – Аля, простая Аля. Эллой я была много лет назад, когда щечки были тугими, а глазки – ясными и радостными. Потом, спустя лет десять, я вполне годилась для Норы, элегантно одетая, вся в заграничных шмотках на зависть приятельницам, пахнущая изысканным парфюмом. А теперь я – обычная домохозяйка. Я по-прежнему элегантно и дорого одета, и духи у меня все такие же изысканные, и тремя иностранными языками свободно владею, но зеркало не обманешь. Годы идут и стирают наносную глупость, навешанную на меня родителями вместе с иностранным именем, и за всей моей светскостью сути не скрыть. Аля. Может быть, даже Алевтина. Но уж никак не Элеонора. Морщин-то, господи! Мили, версты, парсеки. Седина, хотя и умело закрашенная, но я-то знаю, что она есть. Какой смысл себя обманывать?»
Она хорошо знала тот перекресток, на котором сейчас стояла. Или сидела? Интересно, если ты сидишь в машине, а машина стоит, то какой глагол, согласно канонам русского языка, нужно применить? Это как в старом анекдоте про тюрьму: лежишь ты на нарах или ходишь по камере, ты все равно сидишь. Что это ей мысли про тюрьму в голову пришли?
Некстати. Не нужно это. Нельзя беду кликать.
На этом перекрестке, к которому она всегда подъезжала со стороны второстепенной дороги, подолгу горел красный свет, отдавая преимущество тем, кто двигался по проспекту. В ночное время такой режим был бессмысленным, машин все равно мало, но она привыкла и не раздражалась. Более того, всегда на этом самом месте доставала зеркальце с четырехкратным увеличением, ехидно выставляющим напоказ все, даже самые малюсенькие дефекты внешности, и рассматривала свое лицо. И думала о том, что она не Элла и не Нора.
Светофор милостиво мигнул, дескать, ладно, так и быть, проезжайте, второстепенные водилы, только быстренько-шустренько, не спите на ходу, благосклонность моя ненадолго, давайте шуруйте по своим второстепенным делам и не задерживайте главных. Аля быстро сунула зеркальце в лежащую на пассажирском сиденье сумочку и тронулась.
Когда парковала машину возле дома, на часах было без четверти три. Она подняла глаза к окнам и недовольно поморщилась. Свет на кухне горит, но это ладно, легли спать и выключить забыли, это в ее семействе частенько случается. Но свет горит и в комнате Дины. Паршивая девчонка, опять не спит допоздна, дурью мается. В Интернете, что ли, торчит? Или снова глупостями своими опасными голову забивает?
Войдя в квартиру, она скинула туфли и заметила мокрые следы. Нагнулась, пощупала пальцем – совсем свежие. Рядом стояли туфли Дины, больше похожие на домашние тапочки: мягкие, без каблуков, на тонкой подошве и со слегка приподнятыми носами. Аля подняла их, посмотрела внимательно – так и есть, влажные. Куда она ходила? Откуда только недавно вернулась? Ох, не доведут до добра эти ночные гулянки!
Она прошла на кухню, хотела выпить чаю. Чайник был еще горячим.
Кто-то совсем недавно его кипятил. Кто-то… Понятно, кто. Дина, конечно. Остальные спят давно. Поговорить с ней, что ли? Да ведь слушать не станет. Кто ей Аля? Даже не родственница, если по формальным признакам. Так, непонятно кто.
Нажала кнопку на чайнике, чтобы приготовить заварку так, как она любит: кипятком, в строго выверенной пропорции и с ломтиком лимона.
Истинные ценители чая за такую заварку покрыли бы ее несмываемым позором, но Але было наплевать. И на ценителей, и на позор. Ей вообще уже давно было наплевать на то, что подумают другие.
Чай получился бледным и прозрачным, с четко определяемым вкусом жасмина и легкой терпкостью. Аля сделала первый глоток, блаженно зажмурилась и почувствовала, как начинает размягчаться и оттаивать замерзший где-то в груди ком напряжения. После таких вечеров, как сегодня, у нее всегда внутри что-то замерзало, или каменело, или сжелезивалось, как она сама определяла это неприятное состояние, в котором присутствовали и чувство вины, и брезгливость к себе самой, и отчаянные попытки найти себе оправдание, и горькая очевидность бессмысленности и бесплодности этих попыток.
Скрипнула дверь, тяжелые, но тихие шаркающие шаги зашептали что-то невнятное: не то «я иду к тебе», не то «пойду в туалет и снова лягу». На пороге кухни возникла Дина в очередном невероятном балахоне, с распущенными спутанными волосами и подсвечником в руках. Свеча в подсвечнике была новой, только что зажженной. Все понятно, подумала с раздражением Аля, сейчас начнет проталкивать свои безумные идеи и «лечить» тетку.
– Ты почему не спишь? – Она решила перейти в атаку прежде, чем племянница приступит к делу.
Иногда такая тактика помогала. Но не в этот раз. К сожалению.
– А ты где была? Ты ведь тоже не спишь. Ты считаешь нормальным приходить в три часа ночи?
– Ну, положим, ты сама только недавно явилась, так что не надо, ладно?
Аля пока еще старалась быть миролюбивой. В конце концов, девчонка не сделала ей ничего плохого, и разве она виновата, что на семью обрушилось горе и что она потеряла мать, и уродилась она до такой степени не красавицей, что просто удивительно. Отсюда и странности. Однако же до тех пор, пока странности проявляются в рамках семьи и квартиры, это еще ничего, а вот если они начинают затрагивать внешний мир и его обитателей, это может оказаться опасным.
Дина аккуратно поставила подсвечник с горящей свечой на середину стола и села напротив тетки. Язычок пламени нервно дергался, от его кончика поднималась тоненькая темная струйка копоти.
– Ну и зачем это? – спросила Аля, делая очередной глоток из чашки, расписанной голубыми цветочками и зелеными листиками.
– У тебя плохие мысли и на душе черно. Откуда ты пришла… такая?
– С чего ты взяла, что у меня плохие мысли?
Аля говорила равнодушно, но ком внутри снова затвердел и стал стремительно остывать.
– Свеча коптит и горит неровно. Это означает, что в комнате зло.
– И именно от меня? А может, от тебя, а, Динок? Может, это мне впору спросить, откуда ты пришла, как ты выразилась, «такая» и почему свеча неровно горит? Давай сразу оставим попытки врать, потому что вернулась ты совсем недавно, минут за двадцать до моего прихода, у твоих туфель до сих пор мокрые подошвы. А дождь, если ты не забыла, начался после часа ночи, до часу тротуары были сухими. Так где ты была?
– Гуляла.
Дина посмотрела с вызовом, но тут же отвела глаза.
– Где? – продолжала допрос Аля.
– На улице. Где еще можно гулять? Парки закрыты, на проезжей части машины. По тротуару гуляла.
– Не хами, детка. Ты гуляла одна или с кем-то?
– Не твое дело…
– И не груби. Так с кем ты гуляла?
– Одна! Одна я гуляла. Я что, воздухом подышать не могу? Я просто гуляла, понимаешь ты это?
Дина невольно повысила голос, и Аля тут же оборвала ее:
– И не кричи, пожалуйста. Папа тебе разрешил уходить так поздно?
– Аля, мне девятнадцать лет, ты не забыла?
– Значит, ты дождалась, пока отец уснет, и ушла. И где-то шлялась до половины третьего ночи. Так, Динок?
– А хоть бы и так! Что такого?
– Ничего. Все нормально. Чего ты распсиховалась? Смотри, свеча не только коптит, но и трещит от твоих переживаний. Так что давай не будем рассказывать мне, что это я вернулась домой с плохими мыслями и черной душой. Хорошо? Кстати, было бы неплохо, хотя бы в порядке информации, сказать мне, где и с кем ты была, чтобы окончательно закрыть вопрос.
– А сама ты где была? – кинулась в контрнаступление девушка.
– У себя дома. Два раза в неделю я езжу проверять свою квартиру и поливать цветы, тебе это прекрасно известно. Еще есть вопросы?
Дина посмотрела на нее расширившимися глазами, в которых не было ничего, кроме презрения.
– У тебя любовник. Молодой. Ты с ним встречаешься на своей квартире.
– Это не твое дело, – холодно отрезала Аля. – У меня нет никакого любовника, ни молодого, ни старого, но даже если бы и был, ты не имеешь права это обсуждать.
– Нет, имею. Потому что после этих непристойных свиданий ты возвращаешься с плохими мыслями и тяжелым сердцем. Я не допущу, чтобы в дом, в котором я живу, приносили зло. Или прекрати это свинство, или после каждого свидания я буду тебя чистить.
Откуда она узнала? Ком в груди налился тяжестью и стал разрастаться, распирая грудную клетку. Але показалось на миг, что она слышит, как раздвигаются и трещат ребра. Откуда у девчонки такое поистине звериное чутье? Как, каким двадцать седьмым чувством она угадала и плохие мысли, и тяжесть на душе? А может, она и в самом деле сумасшедшая? Не «девушка с небольшими странностями», а самая настоящая сумасшедшая. Говорят, у настоящих сумасшедших стирается налет цивилизации и остается голая первобытная сущность, в которой главными были не знания и логика, а чутье и интуиция.
Але стало страшно. Так страшно, как не было никогда в жизни. Надо что-то говорить, что-то нейтральное, ерунду какую-нибудь, судорожно законопачивая щели, чтобы не дать страху вырваться наружу.
– И как ты собираешься меня чистить?
– Я буду совершать обряд. Каждый раз, когда ты придешь домой внутренне нечистой, я буду совершать обряд.
– А кто дал тебе право совершать обряды? Ты кто, священник? Господь Бог? Ты что возомнила о себе, девочка? Кто ты такая?
Наступать, наступать, не оглядываясь по сторонам, не считая потери, не слыша свиста пуль, только вперед!
– Я – посвященная.
Атака захлебнулась, едва начавшись. Дина сумасшедшая, это раз. И по ночам она ходит на какие-то сборища, это два. Секта? Сатанисты? Или еще что-нибудь в этом роде? Как с ней разговаривать? Потакать и соглашаться, чтобы не спровоцировать всплеск злобы? Или уговаривать и убеждать, вести к врачу? Или в милицию обратиться, чтобы с этой сектой разобрались?
Нет, в милицию нельзя. Все, что угодно, только не милиция.
Свеча отчаянно трещала, пламя дергалось в разные стороны и никак не хотело остановиться и замереть в форме перевернутой капли. И холодный чугунный ком внутри все продолжал разрастаться, леденеть и тяжелеть, сокрушая хрупкие ребра и разрывая тонкую кожу.
Але хотелось завыть.
* * *
Зачем, зачем это все… Все эти оправдания, все эти слова о невозможности исправить ситуацию другим способом, доводы о том, что совершенное сейчас зло принесет освобождение и покой в будущем… Человек слаб и подвержен соблазну… Можно сколько угодно клясться себе, что больше никогда… А вдруг снова станет нужно? И только таким чудовищным способом можно будет выкупить у судьбы новую порцию покоя и освобождения? Неужели возможно сделать это еще раз?
Нет. Нет!!!
Ни за что на свете. Что бы ни случилось.
А все-таки после второго раза не так тяжело, как после первого.
* * *
– Ни за что на свете, что бы ни случилось. Повтори.
– Чтобы не случилось, – буркнул Коротков, не отрываясь от чьей-то служебной записки, накаляканной от руки немыслимо корявым почерком.
– Юра, не причинность, а отрицание, полное и абсолютное отрицание. Ну Юр, – взмолилась Настя Каменская. – Да оставь ты эту бумажку дурацкую, я с тобой серьезно разговариваю.
Он устало снял очки для чтения и поднял на Настю воспаленные от бессонницы глаза. Ей стало неловко. Человек работает как каторжный, а она, вместо того чтобы помогать, в отпуск собралась.
– Юрочка, я знаю, что ты двое суток не был дома, ты ужасно устал, тебе не до меня. Но, пожалуйста, удели мне две минуты, только две маленькие минуточки, я больше не прошу.
– Прости, мать, – голос его от усталости стал совсем хриплым, – я, кажется, что-то важное пропустил и не врублюсь никак. Давай все сначала, только покороче, ладно? У меня дел три кучи, ничего не успеваю.
Настя вздохнула и терпеливо начала все сначала:
– Я прошу тебя дать мне честное пионерское сыщицкое слово под салютом всех вождей, что ты не станешь выдергивать меня из отпуска ни за что на свете, что бы ни случилось. Поклянись, и я от тебя отстану.
– Из отпуска? – Коротков посмотрел на нее с тупым недоумением. – Из какого отпуска?
– Из очередного. Длительностью сорок пять суток. И еще месяц учебного, на который я имею право как адъюнкт-заочник. Итого два с половиной месяца. Афоня рапорт подписал неделю назад, а ты этот рапорт, между прочим, визировал.
Юра помолчал, вероятно, переваривая услышанное, потом бросил взгляд на настольный ежедневник и с облегчением рассмеялся:
– Сегодня первое апреля! Ну слава богу, а то я уж испугался… Круто ты меня развела, просто как лоха вокзального! Но шуточки у тебя, подруга, не для слабонервных начальников. Это хорошо еще, что я крепкий, другой бы на моем месте тебя убил сразу, не глядя на календарь, а потом уж разбирался бы, кто там чего в связи с первым апреля нашутил. Спасибо, отвлекла и развеселила, хоть что-то радостное в этой мутной жизни… Все, подруга, вали отсюда, я с бумажками этими совсем зашился.
Он снова нацепил очки и схватился за начертанные чьей-то торопливой рукой каракули.
Настя опять вздохнула. Все оказалось даже хуже, чем она предполагала. Начальник отдела Афанасьев ушел в отпуск с понедельника, сегодня уже четверг, и Коротков, оставшийся «на хозяйстве», успел в полной мере вкусить прелести начальственной жизни, когда телефон разрывается и постоянно кто-то чего-то требует, и настаивает, и вопрошает грозно, и гневается, и бранится, используя весь богатый русскоязычный лексикон, как литературный, так и ненормативный. Тяжело Юрке, трудно, а она, предательница, в такую минуту бросает его. Он действительно визировал ее рапорт, но за всей этой оперативно-служебной сумятицей успел основательно забыть.
– Юрочка, солнце мое, послушай меня, пожалуйста. Я не разыгрываю тебя. Вот мой рапорт, на нем твоя виза и Афонина, а вот отметка секретариата, что за мной не числится ничего секретного, а вот бумажка из поликлиники о том, что я прошла диспансеризацию. А вот это – карточка-заместитель, я даже оружие уже сдала. Я действительно ухожу в отпуск. С понедельника.
Она помолчала, с тоской глядя на изменившееся Юркино лицо и чувствуя себя последней дрянью, и зачем-то добавила:
– С пятого апреля.
Как будто в понедельник могло быть не пятое, а какое-то другое число.
Коротков молчал, глядя не на нее, а куда-то мимо, в стену за Настиной спиной.
– Юр, я все понимаю… Я знаю, в какой клинч ты попал, но я не могу всю жизнь думать о ком угодно, только не о себе. Это все-таки моя жизнь, и если я сама о ней не позабочусь, о ней не позаботится никто. Мне нужны эти два с половиной месяца, чтобы заниматься диссертацией. Мне надо утвердить тему, а для этого требуется собрать чертову кучу бумаг, обсудить сначала на кафедре, потом на ученом совете. Надо написать рабочую программу и разработать весь инструментарий, и его тоже утрясти с научным руководителем и обсудить на кафедре. Мне надо начать собирать материал. Понимаешь? Мне в июне исполнится сорок четыре года, у меня совсем мало времени, и я должна сделать все, чтобы в сорок пять меня не выперли на пенсию погаными тряпками. Если нашему государству и нашему родному министерству наплевать на то, как будет жить человек, который больше двадцати лет ловил преступников ценой собственного разрушенного здоровья, то мне на этого человека не наплевать, я его люблю и должна о нем позаботиться. Юр, ты меня слышишь?
Он медленно кивнул, не отрывая глаз от чего-то очень интересного.
Настя обернулась, чтобы посмотреть, что же это такое, но не увидела ничего, кроме казенной стены, казенного шкафа и казенной поцарапанной двери.
– Ты меня осуждаешь? – виновато спросила она.
Коротков помотал головой, что должно было означать отрицание.
– Презираешь, да?
– Аська, прекрати. Ты права. Тебе надо подумать о себе, а не обо мне. Просто я не представляю, как я справлюсь без тебя. Слушай, а нельзя как-нибудь отодвинуть это дело, а? Ну хоть подожди, пока Афоня из отпуска выйдет, мне тогда гораздо легче будет.
– Не могу, Юрочка, честное слово. В учебных заведениях июль и август – мертвый сезон, ученый совет не собирается, заседания кафедры проводятся крайне редко, а то и вовсе не проводятся. Бумажки собирать и подписывать – дохлый номер, то один чиновник в отпуске, то другой. Если я ухожу с пятого апреля, то у меня есть шанс успеть все, что я запланировала, а если я буду ждать Афоню, который появится только в середине мая, то я совершенно точно ничего не успею.
– Афоня не будет отгуливать весь отпуск целиком, наверняка вернется через пару недель.
– Не надейся, солнце мое, он не вернется. Он не понимает, что с нашим министерством будет через месяц, и на всякий случай использует отпуск целиком, а то вдруг потом не удастся. Новый министр – темная лошадка, никто не знает, чего от него можно ожидать.
– А мне показалось, он нервничает и хочет держать руку на пульсе, – заметил Юра.
– Вот тут ты прав, он хочет быть в курсе, только работать при этом он не хочет. Наш Афоня далеко не уедет, даже, наверное, пределы Москвы не покинет, будет сидеть на телефоне и держать нос по ветру, может быть, и сюда пожалует, в кабинете запрется и будет решать свои личные проблемы. Только из отпуска он не отзовется и работать не будет, на это не рассчитывай. Тебя может спасти только убийство председателя Госдумы, вот тогда Афоню точно выдернут на службу. Но и тебе небо с овчинку покажется.
– Типун тебе на язык, – перепугался Коротков. – Ты что такое говоришь-то? Накаркаешь еще. Ладно, я уж сам как-нибудь… Но я все равно буду тебе звонить. И приезжать к тебе буду.
– Не будешь.
– Буду. Никуда ты от меня не денешься.
– Я тебя не пущу. Дверь не открою.
– Напугала… Чистяков откроет.
– Он не откроет, я его предупрежу. И к телефону подходить не буду. И мобильник выключу.
– Слушай, не вредничай, а? Ты о своей жизни заботишься – вот и заботься, а я о своей тоже, может, хочу позаботиться. И если мне нужен будет твой совет, твои мозги или хотя бы просто твои уши, я их все равно получу, хочешь ты этого или нет. Усвоила?
– Усвоила, – покорно ответила Настя. – А глаза не будут нужны? Или другие части тела?
– Не дерзи начальнику, мала еще. Иди поцелуй дядю в щечку и шлепай отсюда, не мешай старшим по званию работать.
Настя подошла к нему, поцеловала в макушку, в самую серединку, где светилась проплешина. От Короткова пахло немытыми волосами, усталостью и безысходностью.
– А ты все-таки не дал мне слово.
– Какое еще слово?
– Честное. Что не будешь дергать меня и грузить работой ни за что на свете, что бы ни случилось.
Он снова снял очки и принялся внимательно их рассматривать.
– Ирка собирается на Пасху на Крестный ход идти, – задумчиво произнес он. – Хочет, чтобы я с ней пошел. В Елоховский собор. Сходить, что ли?
– Ты же некрещеный. И неверующий.
– Вот я и думаю… Раз я некрещеный, то в храм мне входить нельзя, так что на службу я в любом случае не пойду, а если снаружи постоять, то, наверное, можно. Или как? Не знаешь, какие там правила?
Настя сначала втянулась в дискуссию, но почти сразу поняла, что Юркин маневр удался вполне. Не даст он ей никакого честного слова и даже не собирается это обсуждать.
* * *
Лиля Стасова давно избавилась от лишнего веса, обременявшего ее детские годы бесконечными обидами на одноклассников, оттачивавших на ее толстенькой фигурке свое неуклюжее остроумие. Она, конечно, была девушкой крупной, но уж никак не толстой, однако жить продолжала еще по тем, детским, правилам, согласно которым она, Лиля, является эталоном непривлекательности и заинтересовать мало-мальски симпатичного мальчика ни при каких условиях не сможет. И это при том, что у нее было очаровательное лицо, милые ямочки на щеках, появляющиеся, когда она улыбалась, хорошие зубы и густые темно-русые вьющиеся волосы, каскадом спадающие на красивые округлые плечи. Лилина мама, во времена сияющей молодости слывшая одной из самых сексапильных дам в мире кино, обладательница миндалевидных зеленых глаз, невероятных ног и столь же невероятной груди, почитала себя единственным эталоном красоты и искренне считала уродством все, что этому эталону не соответствовало. А поскольку маленькая круглоглазая толстушка Лиля ему уж точно не соответствовала, то девочке с детства было внушено, что она некрасивая, но зато умненькая и очень способная.
С этим самоощущением Лиля и дожила почти до восемнадцати лет, свято уверовав в собственную непривлекательность и утешаясь выдающимися успехами сначала в школе, а теперь в институте, где исправно занималась, намереваясь получить профессию юриста, специализирующегося в области договорного права. Владислав Николаевич Стасов, Лилин отец, и его вторая жена Татьяна при каждом удобном случае пытались объяснить девушке, что она не просто симпатичная, а очень даже хорошенькая, аппетитненькая и привлекательная, но все было без толку.
– Вы просто меня утешаете, – очень серьезно отвечала Лиля. – Не надо меня обманывать, я вовсе не страдаю от своей некрасивости, у меня нет никаких комплексов. Когда я закончу учебу и получу диплом, то через пару лет буду столько зарабатывать, что мужики в очередь выстроятся, чтобы на мне жениться. Каждому свое.
Стасов и Татьяна приходили в ужас от таких пассажей, им совсем не хотелось, чтобы девочка ощущала свою ценность исключительно в качестве денежного мешочка, но пущенные в детстве ростки развились в такую корневую систему, что удалить сорняки из девичьего сознания одним легким движением руки никак не удавалось. Мерзкое растение надо было методично травить разными кислотами, но это могло бы быть возможным только при длительном ежедневном общении. А жила Лиля с матерью, к отцу и Татьяне наведывалась нечасто, хотя и регулярно звонила, так что организовать систематическое воздействие на ее искривленное сознание никак не получалось.
В пятницу, после третьей лекционной пары, Лиля до закрытия просидела в библиотеке института, старательно конспектируя монографию, указанную в методичке к семинарскому занятию по теории права. В диспозициях и санкциях она разобралась довольно быстро, на гипотезах же застряла надолго, потому что никак не могла взять в толк, зачем это понятие нужно, если в законодательных актах оно не облекается в словесную форму. Монография была старой, написанной еще в тысяча девятьсот шестьдесят каком-то там году, но профессор, читающий лекции по теории, настаивал на том, чтобы студенты непременно с ней ознакомились, дабы понять движение теоретической мысли и развитие науки за последние полвека.
Преодолев раздел о структуре норм, Лиля закрыла тетрадь, сдала книгу, сунула в сумку читательский билет и вышла из института с твердым намерением немедленно где-нибудь поесть. Страх перед возвращением ненавистных килограммов диктовал ей свои условия жизни, одним из которых было ничего не есть после восьми. А уже десять минут девятого. Пока она доедет до дома, будет девять, поэтому проблему легкого ужина следовало решать немедленно.
Мест для решения указанной проблемы в окрестностях института было несколько, и после недолгих размышлений девушка остановила свой выбор на дешевенькой кафешке, где все, что подавалось, было жутко невкусным, но зато малокалорийным. Взяв у стойки нечто омерзительного цвета и сомнительного запаха, именуемое в меню «икрой из баклажанов», она уселась за свободный столик и достала учебник по истории политических учений, чтобы не сосредоточиваться целиком на не вызывающем доверия блюде. Все-таки чтение очень помогает в таких случаях: если книга интересная, то можно даже самую гадкую гадость в себя впихнуть и не поморщиться. Однако же в этот раз киники и эпикурейцы помогли мало, тошнотворно-тухлый вкус «икры из баклажанов», который повар попытался забить изрядным количеством чеснока, пробивался и сквозь приправы, и сквозь политические воззрения древних греков.
Лиля с отвращением отодвинула тарелку на край стола и снова подошла к стойке в надежде выискать в меню что-нибудь столь же безобидное по части калорий, но не такое противное. У стены, составив вместе три стола, гужевалась компания молодых людей, они пили пиво, с аппетитом ели сосиски с картошкой и громко и грубо хохотали. Счастливые, с легкой завистью подумала Лиля, они могут есть по вечерам сосиски с картошкой. А она даже днем не может себе этого позволить. Или сосиски, или картошка, но и то редко и по чуть-чуть, почему-то именно мясо с картошкой прилипают к талии и бедрам мгновенно и накрепко, никакими разгрузками потом не отдерешь.
Кроме безжалостно отвергнутой икры, в меню оказался салат «Весенний». Лиля по собственному опыту знала, что, кроме кляклой мягкой капусты и двух мелко порезанных листиков петрушки, в нем не будет ничего, но все же это лучше, чем тухло-кисло-чесночное месиво подозрительного цвета. Кафешка вообще-то была рассчитана не на тех, кто хочет утолить голод, а на тех, кому надо что-то проглотить «под пивко» или «под водочку», отсюда и ассортимент блюд, и их качество, и контингент посетителей. Лиля была здесь не в первый раз, но ее вполне устраивало отсутствие уюта, чистоты и деликатесов. Чем невкуснее еда, тем меньше съешь, и соблазнов никаких, а сидеть здесь долго она не собиралась. Да и дешево, опять же экономия выходит.
Водрузив новое блюдо на стол и раскрыв книгу, она погрузилась в тонкости учения киников и даже не сразу поняла смысл слов, прозвучавших прямо у нее над ухом:
– У вас красивые волосы.
Лиля недовольно подняла голову и посмотрела на источник звуков.
Источник был ничего себе, высокий, только очень худой, даже щеки впавшие. И бледный. Голодный, что ли? Сейчас будет намекать на материальное вспомоществование.
– Простите, не расслышала, – вежливо сказала она.
– Я сказал, что у вас очень красивые волосы.
– Спасибо, – холодно ответила девушка, снова утыкаясь в учебник.
– Вы даже не удивились. Наверное, вам это часто говорят? – не отставал голодающий.
– Часто, – соврала Лиля, не отрываясь от киников.
Она была вежливой и хорошо воспитанной девушкой, поэтому не могла сразу послать приставалу по всем известному адресу. Но при этом комплекс собственной некрасивости вкупе с постоянными наставлениями отца, подполковника милиции в отставке, и его жены, работающей следователем, делали ее практически неуязвимой для любого вида обмана. Лиля Стасова была не только умна, но и патологически недоверчива.
– А вам когда-нибудь говорили, что такие красивые девушки должны не только получать образование, но и развлекаться, отдыхать, наслаждаться жизнью?
– Говорили.
– И как вы к этому относитесь? Вы согласны с таким утверждением?
Лиля прожевала очередную порцию мягкой безвкусной капусты, проглотила и кивнула.
– Согласна. Учиться нужно. Отдыхать тоже нужно.
– Тогда позвольте вам предложить отдохнуть вместе. Я знаю здесь неподалеку классное местечко, закрытый клуб, туда пускают только своих, поэтому нежелательного контингента там нет и быть не может. Получите удовольствие, гарантирую.
Приставала с видом голодающего уже не стоял у нее за спиной, а сидел за ее столиком и пытался поймать взгляд девушки. Все ясно, его не обманул тот факт, что Лиля перекусывает в дешевой забегаловке, он успел оценить и куртку «Шакок», и серьги с маленькими бриллиантиками, и мобильник, висящий на шнуре. Некрасивая дочка богатеньких родителей, такой скажи пару-тройку комплиментов – и можно брать ее голыми руками, тащить в дорогой клуб и разводить на бабки. Оттянуться по полной, выпить, нажраться от пуза, даже, может, травки прикупить удастся за ее счет, а потом – арриведерчи, любимая, увидимся как-нибудь.
– Спасибо за приглашение, – Лиля по-прежнему была эталоном вежливости, – но я не могу его принять.
– Почему?
Этот вопрос она обожала. Отвечать на него ее научила тетя Настя Каменская, давно еще, когда Лиля заканчивала девятый класс. Срабатывало безотказно.
– А если бы я согласилась, вы бы спросили, почему я согласилась?
Голодающий опешил. Он не понял смысла вопроса и, судя по лицу, мысленно повторял его, пока не сообразил, о чем речь. Этого времени Лиле хватило, чтобы убрать учебник в сумку и встать из-за стола. Бледнолицый приставала тоже поднялся и загородил ей дорогу.
– Согласилась – и согласилась, чего тут спрашивать. Так идем, да?
От нее не укрылось, что голос его стал резче и грубее. Значит, не просто голодный, а еще и наркоман, которому срочно нужны деньги на дозу. Он уже определил некрасивую девушку в категорию легкой добычи и мгновенно озверел, почуяв, что дело срывается. Типичное поведение.
Отец сколько раз это объяснял, и тетя Таня, и тетя Настя.
С озверевшим человеком нельзя пытаться справиться силой, этому Лилю тоже учил отец. Его надо попробовать обмануть.
– А это далеко? – спросила Лиля.
– Да здесь рядом, я же сказал.
– Ладно, – она улыбнулась. – Пошли, посмотрим, что за классное местечко. Только мне парад нужно навести. Подождешь? Я быстро.
– Наводи, конечно, – лицо приставалы неуловимо изменилось. Какая-то его часть вроде бы расслабилась, уловив, что Лиля первой перешла на «ты», но другая часть странно напряглась. – А я посмотрю. Люблю смотреть, как девочки красятся.
– Ну уж нет, – Лиля постаралась рассмеяться, хотя ей было вовсе не до смеха. – Макияж – дело тонкое, интимное. Я хочу быть красивой для тебя, но тебе совсем не обязательно знать, какими хитростями это достигается. Ты кофейку попей пока, а я в туалет пойду.
Он попытался схватить ее за руку, но Лиля ловко увернулась и быстро прошла в дальний конец зала, где находился туалет. Туалетная комната была далеко не стерильным и не самым ароматным местом на свете, но в данный момент это девушку не смущало. Заперев дверь, она быстро набрала на мобильнике номер такси.
– Девушка, добрый день, мне срочно нужна машина… – Она назвала адрес кафе и район, куда нужно будет ехать. – У вас есть свободные машины в этом районе? Хорошо, я подожду.
Диспетчер связалась с кем-то и уже через полминуты сообщила Лиле номер машины, которая, к счастью, находится всего в двух кварталах и через пару минут подъедет.
– И еще, девушка… – Лиля перевела дыхание. – Свяжитесь, пожалуйста, с водителем и предупредите его, что я еду одна. Одна, понимаете? И никакие мужчины, которые тоже могут попытаться сесть в машину, со мной не едут.
– Мы на разборки не выезжаем, – торопливо и зло отозвалась диспетчер, – сами со своими мужиками разбирайтесь. Я отменяю вызов.