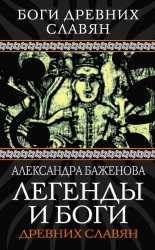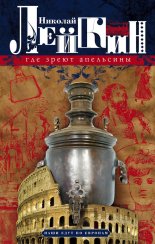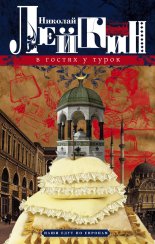Красное колесо. Узел 1. Август Четырнадцатого. Книга 2 Солженицын Александр

– О яко да Господь Бог наш учинит душу его в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу по-мо-лим-ся!
Отчасти уже сбывалась молитва: для тела уже вот и было учинено такое светлое, покойное место.
Все на восток, только и видели в спины друг друга – и невидим был лишь последний, самый задний, не подпевший ни разу, с кривоватой улыбкой сожаления, но всё же голову обнаживший Ленартович. Зато перед всеми стояла, в поясных поклонах нагибалась и распрямлялась гибкая сильная спина Благодарёва, лишь потому не широкая, что ещё длинная. И привольны, отсердечны были крестные взмахи его сильной длинной руки, готовой и к работе, и к ночному бою за жизнь:
– Милости Божия! Царства Небесного! и оставления грехов испросивши тому и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу пре-да-дим!
И – выше солнца, выше неба, прямо к престолу Всевышнего четырнадцать грудей мужских напевом проверенным, голосом слитным, восслали уже не просьбу свою, но жертву, но отречение:
– Те-бе-е, Гос-по-ди-и-и!..
51
Потеряв командование, перепутавшись родами войск и частями, – в глубине леса русские двигались ещё спокойно. Но всякий выход на просвет, на большую поляну, на перелесье, к деревне – был встречаем стрельбой.
На рассвете 17-го августа голова безпорядочной колонны вчерашнего 13-го корпуса была встречена на опушке, за пятьсот шагов до деревни Кальтенборн, орудийным и пулемётным огнём. Утверждённого сводного командования не было, но оказался в авангарде полковник Первушин, и с доброхотными случайными помощниками от разных частей развернул на выходе из лесу – две дотянутых трёхдюймовых пушки. Они открыли огонь – а сам Первушин впечатляюще пошёл со сводною ротой и развёрнутым знаменем Невского полка в атаку на деревню. И немцы бежали, оставив два орудия.
Однако вся завоёванная кальтенборнская поляна была – верста на версту, и снова предстояло углубляться в лес. А через две версты – опять выходить на просвет, к деревне, опять под обстрел. Михаил Григорьевич Первушин, со службой и годами нисколько не утративший солдатского естества, стал душой и следующего прорыва. Он так всегда был слитен с солдатами, что не мог вести их на невозможное, а если уж вёл – не могли за ним не идти. В первушинском авангарде была перемесь невцев, нарвцев, копорцев, звенигородцев.
На той следующей поляне вновь расставили свои немногие снаряженные пулемёты и открыли внезапный беглый огонь – и так же бросились в атаку. Опять Первушин бежал впереди и получил штыковую рану. Неожиданный прорыв русских и тут оказался так крепок, что немецкий заслон кинулся в бегство.
В этом ратном труде, как выражались наши предки, у первушинского авангарда прошёл весь день. Дорога на выход ещё была длинна, и длинны лесные вёрсты; немецкие заслоны один за другим, завалы, колючая проволока; пулемёты по просекам и пушки на проходах поджидали свои столпленные нестройные жертвы. Едва высовывались русские на прогляд, на прострел – немцы окатывали их всеми видами огня. С каждой удачей становилось русским всё трудней и трудней: меньше телесных сил, больше голод и жажда (колодцы завалены), меньше снарядов и патронов, больше раненых, сильней заслоны, а надежда вся – только на штыковую атаку.
Было уже за полдень далеко. Многолюдная с утра, колонна обтаивала. Безумеющие люди теряли разум действий и надежду.
Перед последним рывком полковник Первушин, уже раненный дважды, и всё штыком, – кровь у него на лице, на шее, на кителе, и фуражка пробита – приказал знаменщику снимать с древка полковое георгиевское знамя и закопать его – вот тут. (Указал ещё не повреждённой рукой.)
А сам сидел на пне, склоня голову.
52
Сам генерал Клюев не был ни в голове корпуса, где Первушин, ни в арьергарде, где Софийский полк отбивался в стошаговом лесном бою, – он держался середины колонны, и путал, и метался, мотал её, от каждого заслона отворачивая. Кольцо окружения казалось ему неразрываемым, и некому было собрать полкорпуса на прорыв.
Остатки нашей артиллерии действовали сами собой: меняли позиции, стреляли прямой наводкой, где видели противника, при бегстве оттягивали орудия или покидали их. А тут ещё широкая болотистая речная полоса со многими канавами перегораживала русским путь там, где расступался грюнфлисский лес, и в этой болотистой низине тонула артиллерия, тонули обозы. И хотя по прямой уже видно было шоссе, и дойти до него было три версты, – уклонялись части опять на восток в сторону недостижимого Вилленберга, искали переход по сухому. Поток отступающих таял, каждый час исчезали куда-то не сотни, но тысячи. Безпорядочная толпа вокруг Клюева выкатилась на поляну близ Саддека, попала под перекрестный шрапнельный огонь, шарахнулась назад в лесок.
И тут – исполнилась чаша терпения единокомандующего окружёнными центральными корпусами. Во избежание напрасного кровопролития велел генерал Клюев поднять белые флаги – при двадцати батареях, протащенных, прокруженных черезо всю Пруссию! – и против восьми батарей противника. С рассыпанными десятками тысяч по лесам – против шести батальонов в этом месте.
Золотые слова: «во избежание кровопролития». Каждый человеческий поступок всегда можно огородить золотым объяснением. «Во избежание кровопролития» – благородно, гуманно, что на это возразишь? Разве то, что надо быть предусмотрительным и во избежание кровопролития не становиться генералом.
Но – не оказалось белых флагов! Ведь их не возят по штату вместе с полковыми знамёнами.
Это было на поляне, близ выхода из лесу.
Экран= Всё, что колёсное есть – обозное, артиллерийское, санитарное, забило поляну без рядов, без направления.
На двуколках, фургонах – раненые,
сёстры и врачи.
Что попало на телегах – оружие, амуниция, вещи, может и захваченные у немцев…
Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется…
Верховые казаки стеснёнными группами…
Разрозненная артиллерия…
= Обречённая военная толпа.
= А вот и генеральская группа, верхами.
И казачья конвойная сотня при ней.
= Генерал Клюев. Напряженье держаться с внешней важностью. Смотреть с важностью, бровями двигать (а иначе ведь и слушаться перестанут):
– Вахмистр! снимите нательную рубаху. Взденьте на пику! Выезжайте медленно к противнику.
= Вахмистр – как приказано. Пику передал соседу, снимает рубаху верхнюю, снимает рубаху нательную…
= и вот уж одет, а рубаха – белым флагом на пике. Ехать?
Но что-то гул.
= Это – казаки между собой гудят.
= Вахмистр смотрит на них, замер.
И Клюев на них оборачивается.
Тише гул.
Клюев машет,
и вахмистр с белым флагом отъезжает.
Громче гул.
= От другой казачьей группы, подальше:
– А мы – сдюжаем!
– Казаки не сдаются!!! где это видано?
Да не Артюха ли Серьга, плут забиячный, кругловатый, фуражка кой-как, из-за чужой спины кричит дерзко, разносисто:
– Вилять – не велят!
= Клюев – черезсильным окриком (а уверенности – никакой):
– Кто там командует?
= И выезжает вперёд с капитанским беззвёздным погоном изгибистый, стройный, вьющийся в седле офицер. Лицо литое, черноглазый, – никакого почтения! – ах, сидит! ах, избочился, пальцы на сабельной рукояти:
– Сорокового Донского е-са-ул Ведерников!
Посмотрел на генерала – добавлять ли?
И ничего не добавил.
Новый гул, новые восклицания.
= Клюев оглядывается, оглядывается…
на пехоту, на столпленье людское.
Кто как, кто слаб, кому хоть и сдаться,
а этот солдат кричит, за затылок взявшись, фуражка сбилась, где вся дисциплина? Где форма? —
– Чего это? в плен? а мы – не изъявляем!
Поддерживающий гул
соседних с ним солдат.
И их подполковник идёт, прорезая толпу, обходя телеги,
к верховому генералу,
оборот:
= сюда, к нему, снизу вверх, как покуситель на царя, вот выхватит пистолет и застрелит. Руку вздёрнул —
нет, честь отдаёт:
– Подполковник Сухачевский, Алексопольского полка! Вы приняли командование и 15-м корпусом тоже! Вы обязаны выводить нас… генерал!
Снизу вверх – простреливающе, с презрением.
= Уже и – не превосходительство… И нет твёрдости возражать. Клюева мутит. Глаза закрыл, открыл —
стоит Сухачевский, не уходит.
Да разве генерал не понимает! Да разве ему самому легко? Но – во избежание кровопролития?..
Ну, да он ни на чём не настаивает. Со слабостью:
– Пожалуйста… кто хочет – пусть спасается. Как умеет.
Вынул платок, лоб отереть. А отерши, смотрит:
= платок! он – белый! он – большой, генеральский платок!
= И, взяв его за уголок, подальше от неприятностей с этими подчинёнными, перед собой спасительно помахивая,
шагом конным поехал к опушке, сдаваться,
вослед вахмистру с рубахой.
= И – весь штаб за ним, кавалькадой.
И – потянулись, кому скорей бы конец…
скорей бы конец…
скорей бы…
= А близ лазаретного скопленья
врач с лошади командует:
– Внимание! Командир корпуса объявил о сдаче. Все, кто рядом с моим лазаретом, – бросай оружие! Бросай!
= Недоуменный маленький солдатик, винтовку няньча:
– И куды ж её бросать?
– Под деревья кидай, вон туда!
А из фургона, из-под болока, выбирается в одном белье раненый, перебинтованный:
– Да ни в жисть! Дай винтовочку, землячок!
Забирает у недоуменного. И —
зашагал в одном белье, с винтовкой.
= А другие сносят, бросают…
бросают…
под крайние деревья, наземь.
= Лица солдатские…
и раненых…
Но – голос боевой, звончатый:
– Эй, казаки!
= Это – есаул Ведерников, выворачивая коня к своим:
– Нам тут не место!
= Ну, и донцы его стоют! Нет, не сдадутся!
Гул одобрительный, воинственный.
И Артюха Серьга зубы скалит. Что-то в нём симпатичное, когда мы теперь его увидим?
= И командует Ведерников:
– Все – на коней!.. справа по три… малым намётом… марш!
Махнул – и поехал. И за ним
на ходу – по три, по три, по три разбираясь, поехали казаки.
= И подполковник Сухачевский, он низенький, ему через головы не так сподручно:
– Алексо-опольцы!.. Сдаёмся? Или выходим?
= Кричат алексопольцы:
– Выхо-одим! Выхо-одим!
Может и не все кричат, а сильно отдаёт.
Сухачевский:
– Никого не неволю. А кто идёт —
выставил руку:
– …становись по четыре!
Пробиваются солдаты, разбираются по четыре.
Кто бы и остался, кто на ногах еле —
да ведь со товарищами!
= Ещё к нему валят:
– А кременчужцам можно, вашескродие?
Грозно-счастлив Сухачевский:
– Давай, ребята! Давай, кременчужцы!
Генерал Клюев сдал в плен до 30 тысяч человек, большинство не раненых, хотя много нестроевых.
Подполковник Сухачевский вывел две с половиной тысячи.
Отряд есаула Ведерникова вышел в конном бою, захватив два немецких орудия.
53
Генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Кутузове и сам в 60 лет при седине, полноте, малоподвижности чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зрячими глазами. Как Кутузов, он был и осмотрителен, и осторожен, и хитёр. И, как толстовский Кутузов, он понимал, что никогда не надо производить никаких собственных решительных, резких распоряжений; что из сражения, начатого против его воли, ничего не выйдет, кроме путаницы; что военное дело всё равно идёт независимо, так, как должно идти, не совпадая с тем, что придумывают люди; что есть неизбежный ход событий и лучший полководец тот, кто отрекается от участия в этих событиях. И вся долгая военная служба убедила генерала в правильности этих толстовских воззрений, хуже нет выскакивать с собственными решениями, такие люди всегда ж и страдают.
Третьи сутки корпус благополучно отстаивался в тихом пустом углу у самой русской границы. У командира корпуса, отделясь от штаба, был маленький деревенский домик, успокаивающий своей теснотой. Лишь иногда смутно слышался дальний слитный артиллерийский гулок, и можно было надеяться, что все важные события в Пруссии пройдут без корпуса Благовещенского.
А отдыхающий корпус не знал, что всё его благоденствие создаётся умелыми, ловкими донесениями корпусного командира. Упустил и Лев Толстой, что при отказе от распоряжений тем пуще должен уметь военачальник писать правильные донесения; что без таких продуманных решительных донесений, умеющих показать тихое стоянье как напряжённый бой, нельзя спасти потрёпанные войска; что без таких донесений полководцу нельзя, как толстовскому же Кутузову, направлять свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их.
Так и в донесении за 16 августа благообразно представил Благовещенский, как дивизия Рихтера, наконец пополненная своим задержанным полком, выдвигается назавтра для овладения городом Ортельсбургом (за два дня до того покинутым в панике и никому), где находятся крупные силы противника не меньше дивизии (две роты и два эскадрона), а дивизия Комарова держится слева на уступе (важное, модное выражение русской стратегии, без которого несолидно выглядит военный документ). Также и все передвижения кавалерийской дивизии Толпыги очень украсили это донесение, и вполне мог рассчитывать Благовещенский без волнений пережить ещё и 17 августа.
Утром 17-го по всем правилам оперативного искусства разворачивалась против полупустого Ортеьсбурга ни одного боя ещё не перенесшая дивизия Рихтера и уже подступалась для атаки, открыла артподготовку и обязательно город бы этот взяла, – как вдруг в 11 часов грянуло с пятичасовым опозданием утреннее распоряжение штаба фронта: корпусу Благовещенского идти выручать погибающие корпуса, для чего не к Ортельсбургу двигаться, почти на север, а к Вилленбергу, почти на запад. «Главнокомандующий требует энергичного выполнения поставленной задачи и скорейшего открытия связи с генералом Самсоновым».
Вот этого Благовещенский и опасался! Край смерча прихватывал их при конце – но и при конце не поздно погибнуть.
Однако сама оперативная задача допускала свободу истолкования. По расположению сходно было, как если бы войска подходили к Москве от Рязани, а им велено идти на Калугу. И ничего не придумать стройней и удобней, как снова отойти к Рязани, а потом идти на Калугу. И победоносной рихтеровской дивизии, уже входившей в Ортельсбург, дал Благовещенский распоряжение покинуть взятый город и не идти налево на Вилленберг, но отступить направо назад 15 вёрст, а затем уже, с разгону, идти на Вилленберг.
Но ещё прежде этих манёвров Благовещенский послал энергичное донесение в штаб фронта:
«Для отыскания генерала Самсонова послан разъезд в Найденбург, для связи с 23-м корпусом послан разъезд в Хоржеле. Сведений пока нет. Веду бой у Ортельсбурга, рассчитываю отойти на линию… со штабом в… – (тут и штабу ведь придётся отойти), – чтобы действовать в направлении на Вилленберг».
Естественно было использовать для наступления и конную дивизию Толпыги – хотя бы двинуть её туда, откуда она поутру самовольно вернулась. Но генерал Толпыго в таком же умелом пространном рапорте обстоятельно объяснил, что его уставшая дивизия только что расседлала коней и не может двигаться на повторение трудной задачи. Благовещенский отдал вторичный письменный приказ, Толпыго вторично письменно отказался. Только на третий раз и уже с угрозами приказ был принят, и стали седлать.
Теперь, когда вся сложная часть манёвра была обезпечена, пристойно было кого-нибудь послать и прямо на Вилленберг. Для этого хорошо подходил сводный отряд под командованием Нечволодова. С той самой порочной манерой вылезать, которую осуждал Благовещенский, Нечволодов вчера, во время мирной днёвки, уже добивался такого рейда, но указано было ему ждать распоряжений. Таких-то людей в своём подчинении Благовещенский больше всего не терпел, старался наказывать их, утяжелять им службу. А Нечволодов был сверх того ещё и писатель, уж вовсе лез не в своё дело судить за пределами службы. Так наилучше подходил он для опасного авангарда.
После полудня 17 августа он был отпущен с Ладожским полком и двумя батареями. Приказано было ему поспешить, а главные силы дивизии тронутся позже.
54
Не быстрота была первым свойством генерала Нечволодова, но твёрдость. А замечал он в жизни не раз, что с твёрдостью бываем мы у цели не позже, чем при быстроте да шаткой, переклончивой на несколько дорог.
Цель же его была – не отдельная, не своя собственная. К пятидесяти годам холост, одного усыновлённого сына без натуги выводя в жизнь, он имел и досуг, и личную свободу служить цели внешней, надличной, – и никакая собственность, недвижимость не мешала ему. Такая цель у него была, от детского порыва в военную гимназию, от первой юнкерской присяги в год низкого убийства царя-освободителя, – служить русскому трону и России. И за сорок лет эта цель в его глазах не ослабла, не раздвоилась, не пошатнулась, только изменился ритм, в котором он ей служил. По молодости он спешил двумя руками сворачивать горы в одиночку, обгонял проторенный общий порядок офицерского учения, а едва кончив академию, предлагал реформу генерального штаба и военного министерства. Но тогда ж и на том его необыкновенные служебные успехи были пресечены. Впервые тогда он столкнулся с единым к себе недоброжелательством старших офицеров, генералов и гвардии. Ото всех от них Нечволодов ожидал естественных жертв для укрепления русской армии и, стало быть, – русской монархии. Но оказалось, что даже средь них слова о монархии принято звучно произносить, а быть ей истинно преданным – неприлично. Чем выше, тем сплошней они оказались не патриотическим пламенем охвачены, а жаром корысти, и служили царю не как Помазаннику, а потому, что он раздавал. И прежде чем Нечволодов это понял, уже поняли его: как человека, чуждого их среде, опасного тем именно, что не ищет себе пользы, и потому его действия могут быть разрушительны для сослуживцев. С тех пор включён был Нечволодов в проползание старшинств, замедленное неблагоприятными аттестациями, и в исполнение приказов без своевольных поправок. И не мог он служить трону быстротою, а только твёрдостью и при случае храбростью.
В поиске, куда же приложить избывающий внутренний напор, Нечволодов и занялся своим безудачным курсом русской истории для простого народа. Русскую историю он ощущал не иным от службы чем-то, но – общей традицией, в которой только и могла иметь смысл его сегодняшняя офицерская служба. Для себя искал он – оживить и освежиться в других временах, когда иначе относились русские к своим монархам, для читателей – обратить их в то прежнее состояние и так ещё охватней и прочней добиться своей неизменной цели. Но хотя история сия была высочайше замечена и рекомендована для военных и народных библиотек – повсеместного заглотного чтения своей книги и перемены в умах автор не замечал. Монархическая преданность Нечволодова, своей чрезвычайностью напугавшая генералов, теперь попала под издёвки людей образованного круга, принявших, что русская история может вызывать только смех и отвращение, да и есть ли она вообще, была ли? И уж как вовсе дикое встретили убеждение Нечволодова, что монархия есть не путы, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а удерживает её от бездны. Из-за преданности династии он и безсилен был спорить со своими критиками: что бы в стране ни делалось, он, никогда не смея осудить ни Государя, ни его близких, только смел защищать их и объяснять, почему хорошо то, что общество находило дурным.
И через молчанье и через терпенье он снова мог остаться лишь на твёрдости. Да вот иметь пристрастие к своему Ладожскому полку за то, что тот был опорою трона при московском бунте 1905 года. Хотя сам Нечволодов никогда в Ладожском не служил и весь состав полка с тех пор переменился, но нескольких старослужащих он знал и отличал.
Молчать и терпеть оставалось Нечволодову и последние два тихих дня 6-го корпуса. Стойкостью своих арьергардных боёв он никого не заразил, и сейчас оставалось страдать от бездействия, когда в 25 верстах тёк главнейший бой и, по всему, тёк нехорошо. Генерал-майор выезжал на коне версты за две-три на холм, слушал гул и безцельно смотрел в бинокль.
А после потери двух суток велели Нечволодову поспешить. Но уж тут как раз он не спешил, а просто тронулись, все распоряжения были вторые сутки готовы. Упущенное в штабах не нагонять теперь было солдатским шагом, да сколько ещё главные силы протащатся! Только всю свою конницу – корнета Жуковского с полувзводом, он отправил вперёд.
Два дня, пока его не пускали, Нечволодов был болен, вял, тускл. Но едва получив приказ выступать – выздоравливал по минутам. Он улыбнулся своим ладожцам – во всём корпусе одним, кто допущен воевать, ободрительное крикнул батарейцам, что идём своих выручать.
От сознания «идём своих выручать» один полк обратился в два, а две батареи – в четыре. Только снарядов не прибавилось. Зато сбавились все раскисляи сверху, освободились руки, чистела голова.
Опять на своём рослом жеребце со спущенными стременами долговязый молчаливый Нечволодов ехал впереди сборного отряда, теперь авангарда, – и на конский корпус позади него и сбоку ехал круглолицый, на галушках выращенный и как медный чайник наблещенный, радостный адъютант Рошко.
Ближе к Вилленбергу вступила их дорога в кондовый сосновый бор. Прочищенные восьмисаженные сосны с лоснёными медными стволами чуть веяли вершинами по небу погожему, ещё летнему. В лесу вечерело прежде времени.
На втором десятке вёрст всё слышней становилась ружейная и пулемётная стрельба, орудийная редко. Что могло это быть? Это прорывались наши и били по ним. Вилленберг был очевидной крайней, угловой, точкой окружения – и сразу же за ним могли быть, должны быть наши. Жеребец под Нечволодовым давал ходу, слишком быструю для пехоты.
Лес укрывал движение нечволодовского отряда почти до самого Вилленберга. Да немцев и не было, они так уверены были, так распустились, что не выставили никого навстречу. При конце леса Нечволодов распорядился отряду свернуть и садиться, а сам выехал между последними деревьями. Тут стояли коноводы разведки, корнет с разведчиками ушли за реку. От Вилленберга сюда, ослепляя, жёлто затопляя, светило закатное солнце. Всё же можно было развидеть перед собой луговую низинку к небольшой реке и по ней одну только возвышенную дорогу – прямо, открыто на мост! – целый мост! – своё-то, немецкое, добро жалко взрывать. И – никакой заставы по эту сторону моста! – или уж совсем нас за дураков почитают? Напротив, по ту сторону моста, в первых редких домах города уже засели и стреляли корнет с разведчиками. Скорей послал к ним туда Нечволодов через мост команду с двумя пулемётами.
Дальше там – дома гуще, железнодорожная станция и сразу город. Обходить город справа нельзя: болотистый луг. Обходить город слева нельзя: обрезает другая речка, впадающая. Но через час весь полк, не опасаясь обстрела, может открыто, в походной колонне, переходить мост, а там разворачиваться для атаки города.
Обеим батареям велел Нечволодов занять позиции на лесном краю, справа и слева от дороги.
На ближней окраине Вилленберга стреляли. По ту сторону города тоже стреляли. Нет, шатко немцам в этом городке. И они хуже, чем в клещах: вот рассыпали свою облаву лицом на запад, не подозревая, что загонщики идут с востока.
От радости ожидаемой, ухватываемой, короткой, простой победы заколотилось сердце в груди генерала и зажёгся его тёмный спокойный лик. Он вызвал командиров батальонов и батарей, рассудили, как пройдут мост и кто что делае т после прохода.
А тут с донесеньем от корнета Жуковского – пеший драгун, бегом. Сообщал корнет, что сюда, на эту окраину города к нему прорвались: двое своих отбившихся из 6-го драгунского, четверо солдат из Полтавского пехотного да один казак из конвоя Командующего армией. Уверяет конвоец, что генерал Самсонов убит в перестрелке.
О Самсонове не домысливая до конца, это могло быть и слухом, выхватил Нечволодов главное: уже идут одиночные солдаты сквозь Вилленберг, как через решето! Руку протянуть – только и осталось! Тот самый миг пришёл – ударить тараном в дырявую бочку! И – скорей, ибо всё там перемешалось и гибнет, если с дальнего фланга армии был Полтавский полк – и сюда выбились его солдаты.
Послал по ротам объявить, что наши – уже пробиваются, уже здесь, вот они! Сел писать донесенье в штаб дивизии, что начинает бой за город, требует помощи от начальника главной колонны, ещё снарядов скорей и хотя бы батарею.
Солнце зашло – а темноты дожидаться долго. Видно было, как два дома горят, где бьётся корнет. Первому батальону – за мной, на мост! Второму батальону – через интервал.
Первый дружно прошёл, не обстрелянный, но был замечен, и по второму стала бить батарейка из рощицы за левой рекой. Наша ответила туда. Ввязалась немецкая другая. Тем временем портно пробежал второй батальон.
Серело. Ярче виделись пожары в городе.
Нечволодов достиг корнета Жуковского, сам видел и полтавцев и конвойного казака брехливо-нечистого вида. Разворачивал первый батальон против станции, откуда немцы стреляли упорней, и ждал остальных ладожцев. Третий и четвёртый батальоны должны были в темноте пройти легче.
Сгущалось в ночь. Артиллерия приумолкала. Багровато посвечивали пожары. Другого освещения в городе не было, редкие слабые огоньки, электричество нарушено. Слева ещё держался серпик луны, с ним и с пожарами лишь столько света было как раз, чтоб не заплутаться при атаке, видеть соседей. Но не столько, чтоб издали хорошо видели их. Всё складывалось счастливо. Через час батальоны займут позиции, изготовятся – и, в пояс пригнувшись, первые два без выстрела пойдут на город, третий в обход на лесопилку, четвёртый в резерве. Пока же, сам пригибаясь на ходу до волка, Нечволодов с Рошко и ещё несколькими офицерами исхаживал налево до реки и направо отлого приподнятый сухой, твёрдый выпас. Показывал, где вести батальоны.
По ту сторону города не переставали стрелять, хоть и реже. Три-четыре версты отделяло наших от своих, но тут ощущение – мы, вместе, там – порознь, закружены, погибли, и наших в мире нет.
Вот уже и свободно, в свой превосходный рост, расхаживал Нечволодов в багроватой ночи и распоряжался длинными руками.
Он был уверен в успехе. Для ночного нападения на город у него хватало сил, а там подойдёт главная колонна, и утром кольцо будет разорвано. Этот разрыв подержать день – в окружении разнесётся, и все навалят сюда.
Тревожная радость предчувственно распирала Нечволодова, он не помнил в себе такой радости за недели этой войны, за годы мира.
Оставалось пятнадцать минут до назначенной атаки.
Он вернулся к дороге.
Его как раз искали – ординарец из штаба дивизии. Всё тот же продолговатый безотказный фонарик достав из кармана шинели, Нечволодов осветил бумагу, прикрываясь от города телеграфным столбом.
«Начальнику авангарда генерал-майору Нечволодову.
Ввиду отсутствия значительных сил противника главная колонна отозвана. Боя под Вилленбергом не начинайте, поддержки не дадим, тем более, что ожидается отход всего корпуса на русскую территорию. Ждите следующего распоряжения.
Полковник Сербинович».
Рошко вскрикнул: его генерал замычал, как между рёбер проколотый, шатнулся к столбу и перебирал зубами по отсушенному телеграфному занозистому дереву.
55
На гряде, где хоронили полковника Кабанова, едва не изменились планы: со стороны замирённого Найденбурга послышалась стрельба, и ясно можно было понять, что это бьют извне, что это русская артиллерия бьёт по Найденбургу, а немцам отвечать нечем. И уже готов был Воротынцев поворачивать туда – однако стихла стрельба, осталась вялая ружейная.
Но и при готовом плане весь день потом всякие четверть часа требовали и требовали от Воротынцева и слуха, и глаза, взгляда на карту, на местность, на своих солдат, на ноги их, требовали решений и команд. В этой череде военных мыслей не могло, кажется, остаться промежутка никаким другим.
А – было в голове как бы два коридора рядом, через стекло: друг друга видели, звуками не мешали. По одному коридору без задержки проскакивали деловые мысли, как выбиться им, четырнадцати и раненому одному; по другому проплывали сами собой, без подгона, ничем не торопимые, независимые, и даже друг с другом не связанные: вообще о прошлом; о недожитом; о прожитом не так. Первые торопились вырвать к жизни. Вторые озирались на случай умереть.
Опять об эстляндцах. Они не покидали, требовали своего. (Это – первые сутки, а потом не острей ли ещё потянет?..) Такое недавнее, а такое уже неисправимое: кто в плену – так те уж в плену, кто выберется – те сами по себе выберутся, а кто лёг – тот уже лёг. Вспоминать – не помочь. Да ни в чём не обманул их Воротынцев. А именно с этим упрёком они тянулись по второму немому коридору – от правофлангового чёрного дядьки с перекошенной щекой. Ни в чём не обманул! – но отступят ли когда упрёки? Ни в чём он их не обанул – он всё открыл им честно, и двадцать часов они держали нужный, важный участок, и это бы всей армии могло помочь, если бы правильно делали другие. Но другие – порушили.
И значит, он – обманул.
Как же верно быть? Не тянуться, не изощряться, не выбиваться из сил? – тогда вообще не служить. Не жить. А что найдёшь и состроишь – обязательно тебе развалят, раздавят каким-то верховым незрячим переступом.
Когда всё разрушается – как же верно: действовать? не действовать?
Второй коридор нисколько первому не мешал, ничего не отнимал, там был свой простор. И для воспоминаний. И для жалости.
Щемливо жалко было Алину, представить её вдовой, – как будет она убиваться, метаться, места не находить, горлышком тонким надрываться от слёз. Ещё сколько ей, может быть, лет понадобится, чтоб очнуться к жизни!
Вспоминал, как в Петербурге умела на его заваленном столе вытереть каждую пылинку, не сдвинув ни одного карандаша. Как, любя в гости и на люди ходить, могла отказаться, никуда не проситься – чтоб ему этих тягот с ней не делить. А – что она видела в жизни с ним?
Впрочем, всё и проплывало и было действительно лишь на случай, если умрёшь. А я…
– …Я-то ничем не рискую, мне обезпечено остаться в живых, – усмехнулся Воротынцев Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.
– Да? Почему? – серьёзно верил и радовался веснушчатый мальчик.
– А мне в Маньчжурии старый китаец гадал.
– И что же? – впитывал Ярослав, влюблённо глядя на полковника.
– Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл – не убьют. А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного – разве не счастливое предсказание?
– Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году?
– Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пятом.
Они лежали в частом молодом зеленохохлом соснячке, в каком зайцы любят зимой играть на солнце, – Воротынцев выбрал его за то, что здесь в пяти шагах можно пройти и не заметить лежачих. Всего полтора километра оставалось до шоссе, уже доносился характерный шум автомобилей и мотоциклетов, то справа налево, то слева направо. Будь у немцев силы, они выслали бы сюда патрули для прочёса. Таких сил, очевидно, не было, до темноты можно было лежать спокойно, но и вперёд прежде времени двигаться нельзя: лесной мысок неширокий только и был перед ними, в этом мыске могли накопляться и другие русские группы, да и немцы могли прийти туда раньше из соседней деревни Модлькен. С трёх сторон Воротынцев выдвинул лежать по два солдата, остальные были в середине. Они пришли сюда в жаркий послеполуденный час, здесь застоялся накалённый воздух, палило, отнимало силы, высушивало до жажды, а фляжки не у всех.
– Ничего, – утешал Воротынцев своих, – жара да при свете – не самое плохое. Вот под Ляо-яном, например, – да когда же? завтра, 18 августа, – вот такой же жаркий день, а к вечеру, нам отступать, – ко всей канонаде японской и нашей ещё добавился такой ветер с пылью, такое чёрное небо, такая гроза, небо в тысячу осколков, тропический дождь, а японцы всё бьют; где гром, где пушки, не различишь.
Душно было тут лежать, но и отбираться назад никак уже не хотелось, нелегко было дойти сюда, переходили и открытую полосу железной дороги, которую немцы вполне могли простреливать с дрезин, – да не хватало их сил, что-то творилось весь день под Найденбургом, вспыхивала и вспыхивала стрельба, хотя и не приближаясь. Верный день был вырываться сегодня, завтра будет поздно.
Прожигала Воротынцева катастрофа армии. О судьбе боя под Найденбургом, о 1-м корпусе, кто там идёт, где там Крымов, волновался он больше, чем о выходе своего отряда. Но, все часы перед собой раскрытую карту держа, заставлял себя смотреть не на весь простор, а запоминать засветло каждую извилину ближнего лесного окрайка: где бы в темноте ни оказаться – представлять себе все расстояния, а обязательно что-нибудь упустишь или уверенности не хватит, и тогда рассматривай под шинелью со спичками.