Алтайская баллада (сборник) Зазубрин Владимир
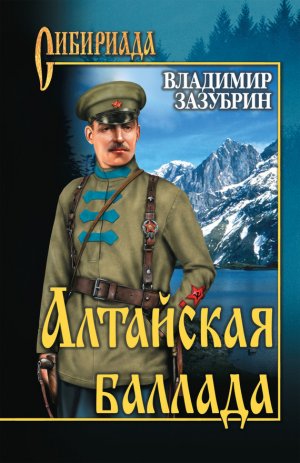
Взводный закрыл обеими руками глаза. Безуглый хрустнул курком. Взводный шагнул в каменные зубы. Отряд спустился по его следам.
На дне отряд в первый раз за весь переход разложил костры. Четырех лошадей закололи на шашлык. Мясо их было красно, как огонь. Бойцы вооружились шомполами. Обгорелое мясо жгло пальцы. Бойцы бросали его в снег, припадали к нему жадными губами. Жир и кровь чавкали в их глотках. Желудки сладостно растягивались. Хмель сытости качал головы. Бойцы с хохотом валились у огней. Сон, как смерть, раскладывал их на снегу.
На последнюю вершину въехали на лошадях. Громадные тени всадников легли на редеющие тучи. Кобанду было хорошо видно. Ее избы казались не более ульев. Над ними дымками снарядных разрывов клубились мелкие белые облака. В деревне горели какие-то постройки. Можно было подумать, что Кобанду обстреляла и подожгла неприятельская артиллерия. Бандиты беспечно пили самогон. Они не видели, что высоко над ними тучи несли тени их врагов.
Отряд спустился к поскотине Кобанды. Шальная весенняя метель путала гривы лошадей, трепала полы шинелей. Всадники подняли воротники, плотнее надвинули шлемы. Лошади пошли крупной рысью. У ворот в лицо отряду засвистел снег, смешанный с пулями. Застава отстреливалась и убегала. Всадники скакали за ней, топтали раненых и убитых.
Огородов выскочил на крыльцо. Пуля свалила его у порога. Он успел только увидеть белый клинок шашки в руке Обухова. Обухов отрубил ему голову.
На выстрелы вошел в деревню отряд Федора. Пленных заперли в кержацкой молельне. Красноармейцы столпились около головы Огородова, ногами гоняли ее, как мяч. Их растолкал маленький Помольцев. Он поднял голову, присолил, завернул в рваные портянки, спрятал ее в свои сумины. Красноармейцы гоготали, как гуси. Помольцев поплевал на руки, обтер их о штаны.
– Наши так не поверят, им пошшупать надо. По всему райвону буду звонить.
Он поставил ногу в стремя. Огненный клинушек его бороды мелькнул над черной гривой коня.
Федора нашли вечером. Иван опустился около брата на колени, взял его за руку. Рука не гнулась и была холодна…
Иван встал на ноги. Мраморная могильная плита была холодна, как рука мертвого брата. Ему показалось, что брат лежит не в земле, а рядом, как тогда в ущелье. Он вспомнил длинное, изломанное тело Федора, его лицо – чужое, синее, в кровоподтеках, но с таким знакомым мягким русым пушком на верхней губе. Иван провел рукой по лицу, точно хотел убедиться, что сам он еще жив. Братья походили друг на друга, как близнецы, хотя Иван был старше, более круглолиц, шире в плечах и на голову выше Федора.
Иван понимал, что считать Федора живым нелепо, и вместе с тем думал прийти на пароход, разыскать брата, сесть с ним рядом и сказать ему:
– Федя, я сейчас был на твоей могиле.
* * *
Солнце обильно полило полноводную Обь жиром. В густой воде медленно плыли тяжелые плоты. Пароход причалил к последней пристани. Баржи, берег, склады в Бийске были завалены хлебом так же, как и в Барнауле.
Безуглый нанял в городе лошадей. На переправе через Бию он неожиданно встретился с Петром Парамоновым. В гражданскую войну они служили в одном полку. Парамонов заставил Безуглого заехать к нему на текстильную фабрику. Безуглый пробыл у него остаток дня и ночь. Лег он перед рассветом. В комнате, как в каюте, дрожал пол, дребезжали стекла. На сотни сажен кругом земля колебалась, как вода у бортов парохода.
Днем Безуглый обошел все фабричные корпуса. Красные вымпелы над станками ударников шелестели, как боевые знамена в походе. Безуглый думал о боях в селе. Армии собственников отступали. Отряды победителей закладывали свои опорные крепости – фабрики зерна, масла, мяса.
Безуглый не мог уснуть. В город всю ночь двигались обозы с хлебом. Он слышал ржанье лошадей, тяжелый скрип телег, голоса возниц и удары бичей. Он чувствовал близость полей войны.
Утро зазвенело бубенцами. Ямщик кнутовищем постучал в окно. Безуглый свалил на пол стул с одеждой, уронил дневник. Из тетради выпал синий конверт, склеенный тестом. Безуглый поднял письмо и перечитал его в двадцатый раз. Он сам расставил в нем знаки препинания.
«Дорогой товарищ Иван Федорович, посланные ваши деньги – пятьдесят рублей – и письмо с запросами получила и двадцать копеек отдала кольцевику за доставку. Паров припасла на полдесятины, пахать у нас некому, мужик в доме один, и тому только седьмой годик минул. Приезжайте скорея потому, как признаем вас за мужа и за отца и кланяемся, и еще кланяется сын ваш Никита. Известные вам Карманка Телезеков и Кадытка, амнистированные бандиты, живут в нашем селе Белые Ключи, рядом с коммунистом Помольцевым. Карманка служит по пушнине и в охоткапирации. Андрон Морев замазал медом глаза всему сельсовету и живет с песнями. Брат ихний Сюта попал на зуб уполномоченному Обухову и через то сидит в домзаке по сто седьмой статье за хлебные излишки. В ячейке у нас больше молодняк, а баб только мы с учительницей. Еще в ячейку у нас заступил боевой товарищ амурских лесов, партизан и первый тигрятник Петр Рукобилов, назначенный объещиком. В сельсовете в придсидателях ходит Левонтий Желаев. Работник он тихой и начальник не страшный. Мужики поят ево медовухой, и он делает, што им нада, и укрывает объекты. Черного зверя у нас сила, а ружьев добрых ни у кого нету. Летошний год сколько пасек позорил, в совхозном маральнике задавили маралуху и одного рогача, сколь коней у крестьян испредрали. Охотники дожидают вашу винтовку. Мы, сельактив, просим вас протереть кое-кому глаза и повытряхать некоторых елементов, не питательных для советской власти. Больше писать нечего, как ждем вас лично.
Писала ваша жена, активистка Анна Бурнашева».
Безуглый бросил письмо на подушку и босой, в одном белье, заплясал около кровати.
– Едем! Едем! Едем!
В дверях смеялся хозяин. Гость подбежал к нему, закружился с ним по комнате. Хозяин вырвался, тяжело сел на стул. Его круглое, бритое лицо покраснело. Широкая лысина покрылась мелкими капельками пота. Он был толст. Гость, прыгая на одной ноге, стал надевать штаны. На голове у него закачался длинный русый вихор.
За чаем Парамонов спрятался в газету, спросил:
– Ну а как ты относишься к соленым огурцам?
Безуглый трубой раскрыл рот, загремел:
– Хо! Хо! Хо!
Парамонов выкрикнул, давясь смехом:
– Жрешь?
– Жру.
Товарищи копытили каблуками пол, ржали.
В полку часто смеялись над непомерной любовью Безуглого к соленым огурцам. Он в каждой деревне тотчас после боя, входя в избу, начинал разговор с неизменного вопроса:
– А соленых огурчиков вы нам не дадите, хозяюшка?
Парамонов поставил на стол тарелку с огурцами. Безуглый схватил любимый свой овощ прямо руками и сочно захрумкал.
За городом Безуглый оглянулся назад. Город лежал кочковатый и серый, как весеннее ледяное поле. Над ним содрогались и скрежетали высокие ледоколы – фабрика и завод. Безуглый даже сказал вслух:
– Мы строим ледоколы.
Ямщик через плечо одним глазом посмотрел на пассажира.
– Закурить у вас не будет, гражданин?
Безуглый не курил. Ямщик вздохнул, вынул кисет, стал крутить собачью ножку. Лошади рвали у него из рук вожжи, гремели бубенцами.
Снег с полей сошел недавно. Поля, сырые и темные, в бурых полосах прошлогодних нив, напоминали шкуру линяющего зверя. Около Катуни остановились, напоили лошадей. На другом берегу стояли обозы с хлебом. Крестьяне с руганью и криком заводили на паром тяжелые телеги. Река набухала толстой голубой жилой.
Безуглый открывал глаза при проезде через деревни – будил лай собак, и на деревянных мостах громко стучали копыта лошадей. Весь день он ехал в полусне.
Вечером ямщик распряг лошадей около поскотины большого села. Безуглый спал. Ямщик разложил костер, повесил над огнем закопченный чайник.
* * *
В тайге было темно и сыро. Рядом с дорогой в буреломе трещал медведь. Лошади лезли из оглобель, храпели. Над дугой летали серые круглоголовые птицы.
Безуглый зябко повел плечами, положил к себе на колени винтовку.
Деревья отошли от дороги. Под ноги лошадям белесым пятном подвалилась небольшая поляна. На дорогу упал теплый клуб дыма. Залаяли собаки. С дальнего края поляны встал темный конус юрты. Над дымовым отверстием метелью рассыпались искры.
Безуглый вошел в юрту. Полуголые алтайцы сидели около пылающего очага. В круглом чугунном котле кипел чай. Старуха в рыжих овчинных штанах возилась с берестяной зыбкой, молодая женщина курила трубку, кормила грудью ребенка. У стен стояли кожаные мешки с кислым молоком, кучей валялись шубы. Над головами сушилась шкура небольшого зверя.
Старуха взяла у женщины ребенка, положила его в зыбку, зажгла пучок сухого вереска.
- Тридцатиголовая огонь-мать,
- сорокаголовая девица-мать,
- варящая все сырое,
- оттаивающая все мерзлое, спустись,
- окружи и будь отцом,
- спустись, покрой и будь матерью.
Безуглый слушал заклинания старухи, смотрел на мускулистые тела, на широкоскулые лица, медно-красные от огня, и вдруг увидел, что он сидит в кругу своих далеких предков, что столетия стремительно протекли назад.
- Да посеешь ты
- и станешь беззубым стариком…
- Чтобы расти тебе со следующим братом
- на сотни лет.
- Да ездить тебе на скакуне.
Безуглый поднял голову. Сквозь дым на черном небе были видны крупные золотые звезды. Он подумал, что тысячу лет назад небо было так же черно и звездно и так же сидели вокруг огня полуголые люди.
- Передние полы у тебя пусть ребенок топчет.
- Задние полы пусть скот топчет.
- Пусть детей у тебя будет столько,
- сколько у тальника почек.
Старуха отдала ребенка матери, села к огню, набила большую трубку. Вошел ямщик, заговорил с хозяином по-алтайски. Хозяин во время разговора несколько раз показывал на Безуглого пальцем. Ямщик сказал Безуглому:
– Сын у него на курсах в Ленинграде.
Хозяин на четвереньках полез в дальний угол. Он вытащил из сундука номер «Ленинградской правды» и показал на третьей странице портрет своего сына-студента. Газета была так истрепана, истерта и засалена, что Безуглый с трудом разобрал только подпись под фотографией – Езуй Тантыбаров. Алтаец стукнул себя кулаком по груди.
– Наша сын карточка. Наша сын Ленинград.
* * *
За самоваром сидела толстая краснощекая теща ямщика. Безуглый пил последний стакан и смотрел в окно. На дворе ямщик бегал около ходка с помазком и колесной мазью. К воротам подошла высокая широкоплечая женщина в черной кожаной куртке и красном платочке. Ее сухое скуластое лицо показалось Безуглому знакомым. Хозяйка торопливо вытерла чайным полотенцем потный нос, уставилась на приезжего.
– Секретариата, партейна она у нас, батюшка.
Женщина вошла в комнату. Безуглый вспомнил, что видел ее в двадцать первом году.
– Товарищ Сухорослова?
Он протянул руку. Муж Сухорословой был в отряде Федора и погиб с ним под Кобандой.
У Безуглого застыл недопитый стакан. Ямщик несколько раз входил в комнату, топтался в дверях, кашлял. Безуглый забыл о запряженных лошадях. Он слушал.
– Мужиков в нашем аймаке головой не было, всех поприбили – кого белые, кого наши, остались одни старики да ребятишки. Объявилось у нас безмужичье, а нам, бабам, такая планида пришла, что некоторые сами на себя руки подымали. Ночью тебе всяк хозяин. Лишь бы кто с гор спустился. Кто в борозду попал, тот и запахал, и засеял. А днем поминай как звали. Меня два раза насильничать принимались – не далась.
Сухорослова поправила платок на голове. Брови у нее сдвинулись.
– Поставили мне на квартиру агента, по продовольствию ездил. Ночью завожу я квашню, постоялец в горнице лежит, и забегает в избу секретарша из сельсовета. Лядащий такой был мужичонка, но на баб лютой, шибко жеребцевал по селу, и говорит он агенту:
– Вы пошто без бабы спите? Я уж от третьей иду.
– А по то, говорю ему, что бабу спросить надо, хотит она спать со всякими или нет. – Он ощерился на меня нехорошо так и опять за свое.
– Спрашивать вас еще. Солдатка – имущество бесхозное, а власть у нас, знаешь, какая, значит, каждый трудящийся тебе хозяин.
– А я, говорю, разве не тружусь?
Изматерился он и ушел. Агент-то и распалился с его слов глупых и полез ко мне. Всю юбку испредрал. Насилу мешалкой отбилась, по переносью угодила ладно – да к соседке. Так дома и не ночевала. Вся квашня у меня на пол вылезла.
Сухорослова достала коробку с папиросами, закурила. Хозяйка зевнула, перекрестила рот.
– Война утишилась, насильство уничтожили, начался обман. Заезжали к нам в неурожайный год из степи за хлебом, ну и понаглядели, что нет у нас мужиков. Поехали мужики из степи в камень, в горы то есть, жениться. Женится мужик, как полагается, в церкви, поживет полгода, нагрузит несколько возов хлеба, запряжет самых первых коней и назад к старой бабе. Многих так у нас женщин пообидели.
Она выбросила в окно окурок, помолчала.
– Рассказывать о себе особенно нечего. Сходилась я с одним тут, забрюхатела. Он бить стал. От побоев я скинула, а мужика прогнала. Живу одна, пустая.
Сухорослова быстро вытащила из кармана куртки носовой платок, зажала его в руке.
– В селе у нас теперь партия, комсомол, пионеры…
Хозяйка остановилась с самоваром посреди комнаты.
– Все, батюшка, есть: и ячейка, и комсомольцы, и барабанщики, всякого сраму много.
Безуглый рукой придавил на губах улыбку. Ямщик вышел из-за тещи, уставился в пол.
– Гражданин…
Сухорослова встала, Безуглый надел фуражку.
* * *
На кремнистой дороге подковы искрились и звенели. Лошади тянули с натугой. Подъемы и спуски стали круче. Безуглый шел пешком. Иногда он садился на большой камень или пенек. Ходок надолго исчезал в глубоких ущельях. Безуглый ждал, пока его догонит ямщик, и снова уходил вперед.
В теплых долинах начинался посев. Безуглый увидел внизу черные борозды пашен. Навстречу громыхали телеги с плугами. Бородатые, тяжелые мужики в войлочных шляпах и толстые, ширококостные бабы в пестрых сарафанах ехали верхом, часто по двое на одной лошади. Земляная работа темной водой стояла у них в глазах. Алтайцы в засаленных халатах, с трубками в зубах тряслись неторопливо, беспечной трухней на низкорослых своих кониках. Алтайки блестели бусами, улыбками, бренчали уздечками и стременами. Безуглый весело снимал перед ними фуражку.
Он остановился, посмотрел кругом. Синие горы с снежными вершинами расселись по всему горизонту толстыми алтайскими баями в белых бараньих островерхих шапках. Он раскинул руки, набрал полную грудь воздуха и закричал:
– Гоп-гоп-гоп-гооп!
Благостный голубой Алтай раскрывал перед ним свои широкие, твердые ладони.
Небольшой холм около дороги шуршал серым быльем прошлогоднего бурьяна. Безуглый узнал братскую могилу красноармейцев своего отряда. В двадцать первом году он стоял здесь с непокрытой головой и звал бойцов отомстить за убитых. На ближнем перевале стрекотали пулеметы, и высоко над долиной свистели свинцовые птички.
Безуглый неожиданно услышал знакомую трескотню перестрелки. Он поднял голову. Губы у него растянула радостная улыбка. В долину в пыли и дыме сползала черная колонна тракторов.
Ямщик догнал Безуглого с оседланными лошадьми. Колесная дорога кончилась.
* * *
Лошадь беспокойно перебирала ногами, пятилась назад, сворачивала в сторону. Безуглый одной рукой тянул повод, другой держал бинокль. Перед глазами качались дома с высокими крышами, с резными раскрашенными наличниками и воротами. Улицы сходились и расходились косыми углами. Люди двигались скачками. Безуглый слез с коня, отдал повод ямщику. Бинокль дрожал по-прежнему. Безуглый махнул рукой, сунул его в футляр.
В село приехали по-темному. Безуглый без труда нашел дом Анны, быстро взбежал на крыльцо, широко распахнул дверь. Анна цедила молоко. Безуглый увидел, что она покраснела и брови у нее дрогнули, как в первую их встречу на пасеке. Анна перелила кринку. Белые теплые струйки брызнули на стол, на пол, на босые ноги хозяйки и на пыльные сапоги Безуглого. Женщина отдернула подойник и опрокинула глиняную пузатую посудину. Оба бросились ее ловить, больно стукнулись лбами. Кринка кувыркнулась мимо четырех растопыренных рук, рассыпалась на мелкие черепки. Молоко обелило весь пол. У Безуглого и у Анны перед глазами летали огненные мухи, окна и печь лезли на потолок. Он вообразил, что Анна падает. Он схватил ее за плечи. Они оба дрожали от смеха и никак не могли поцеловаться. Безуглый натыкался губами на ее нос и подбородок.
За ужином Безуглый смотрел на Анну и не узнавал. Он помнил ее или, вернее, выдумывал совсем другой. Ему представлялось, что нос у нее был прямее, тоньше, глаза темнее и больше. Губы только остались прежними – яркие, полные. Анна широко раскрывала рот. Ложку тщательно облизывала. Кожа на руках у нее была в мелких темных трещинах.
Анна знала Безуглого бородатым, в зеленой военной форме. Теперь он сидел перед ней бритый, в белой чесучовой рубашке. Может быть, поэтому оба они не находили нужных слов.
Анна убрала со стола.
– Постель вам, Иван Федорович, постлана в горнице.
Анна прятала глаза. Безуглый смотрел на нее не отрываясь.
Она побледнела, стремительно подошла к нему, взяла за голову. Ее руки сплелись у него на шее.
– Беленький ты мой!
Безуглый почувствовал, что под ним зыбко качнулись половицы. Лампа огненной дугой метнулась от стола к двери и потухла. Ветер захлопал окнами. Лунные зайчики заиграли на стеклах.
Над селом качался золотой ковш Большой Медведицы, расплескивая по небу искристое молоко. Молоко стыло длинными белыми дорогами.
В минуты тишины Безуглый слышал, как шумит у Анны кровь и колотится сердце. Сын сопел на полатях. За печкой шелестели тараканы. На стене тикали ходики. Ветерок шевелил в переднем углу бумажные цветы и дешевые портреты вождей.
Безуглый лежал на полу и смотрел через окно на небо. Голова у него была легкая, пустая, в ушах звенело. Он убеждал себя, что, наверное, звонят в кержацком скиту на Девичьем Плесе или кто-нибудь перекладывает в горах серебряные камни, или, может быть, золотой ковш задевает за звезды.
* * *
Безуглого разбудил стук в окно и окрик исполнителя.
– Антоновна, на сборню!
Он медленно вспомнил, что Анну по отчеству зовут Антоновной.
С крыльца прозвенел детский голос:
– Матери нету. Отес дома.
– Отес?..
Безуглый не расслышал всех слов удивленного исполнителя. Ребенок говорил громко, очень серьезно, даже с долей важности.
– Отес у меня – птиса большая…
Безуглый кое-как оделся и вышел. Исполнитель кричал под окном у соседей. На крыльце сидел белоголовый мальчик, большим ножом резал палку. Несколько мгновений Безуглый молчал. Он увидел себя семилетним ребенком.
– Здравствуй, птиса маленькая.
Безуглый взял ребенка на руки, поцеловал. Мальчик не улыбнулся.
– Меня Никитой кличут.
Отец, смеясь, поставил сына на землю. Сын вытер рукавом губы и снова принялся за палочку.
– Видишь, бичик лажу.
Никита готовился к бороньбе. Мать еще зимой сказала ему, что весной он будет бороноволоком.
Безуглый вернулся в дом и вышел оттуда с букварем и коробкой конфет в руках. Никита уронил нож и палочку. Цепкой белкой он вскарабкался на крышу, вложил два пальца в рот. Безуглый услышал резкий свист и радостные крики сына:
– Семша, Митьша, Петьша, отес конфетки привес, картинки…
Никита поскользнулся, уцепился свободной рукой за трубу и закричал во все горло:
– Многа-а-а!
Безуглого окликнул Помольцев:
– Здорово, командир!
Он подошел к крыльцу, усмехаясь, дергая огненный кустик своей бороденки.
Безуглый отвел глаза в сторону. Щеки у него побелели. Гневная дрожь тронула ноздри и губы.
– Я иду и думаю, с чего бы это у Антоновны изба колышется.
Помольцев не договорил. Он увидел лицо Безуглого. Они сели рядом. Помольцев переменил разговор.
– Слухом пользовался, что на работу к нам и что, пока в отпуску, хотишь на зверя сходить.
Охотники долго говорили о медведях. По селу второй раз побежал исполнитель. Теперь он не подходил к окнам, а кричал с середины улицы:
– Гражданы, на собранию!
На собрании к Безуглову подсел пасечник Андрона Морева старик-бобыль Лопатин.
– Рядом с Антоновной живу, худо не могу сказать. Старый мужик сколь разов лез к ей, в потребность хотел входить. Не допустила. У меня, говорит, новый есть, коммунист бесподдельный.
Буро-зеленые волосы старика топорщились, как заплесневевшее сено на ветру. Веки у него были вывернутые, красные, как надбровные дуги у тетерева, глаза слезились. Он тер их толстыми, корявыми пальцами.
– Доброй бабой, Федорыч, дорожиться надо. Баба – второй бог: захочет – веку прибавит, захочет – убавит.
Помольцев подтвердил:
– Женщина правильная. По первости мы, правда, смеялись над ей. Шибко она круто бралась за грамоту. С книжкой ела и спала. Однако ныне голой рукой ее не достанешь.
Безуглый взглянул на Анну. Она сидела недалеко, почти спиной к нему. Он увидел ее белую кофточку, красный платок и темный загар щеки. Безуглый вспомнил Сухорослову. Анне не хватало только ее кожаной куртки.
Анна прошла свой путь вверх без него. Ее жизнь вставала перед ним сухой схемой – батрачка, роман с красным командиром, вступление в партию. Красный платочек, или Анна-делегатка. Он давно читал о ней в женотдельских журналах. Она же – странное дело – его жена и мать Никиты.
Сзади подкрался Андрон, схватил Безуглого за руки. Борода его выцветшим лисьим хвостом завертелась на плече коммуниста.
– Иван Федорыч, дружок!
Андрон поднял Безуглого на ноги, крутил его перед собранием, громко кричал:
– Дружок! Радость ты наша небесная!
Спереди набежал Фис Канатич Чащегоров. Он наступал на Безуглого своим тугим брюхом, жирной блинообразной безволосой рожей, ловил его за пальцы.
– Да, слава тебе, Всевышнему! Жив, здоров, приехал, судья ты наш справедливый!
Безуглому руки Чащегорова показались быстрыми холодными змеями. Он молчал, темнел и вырывался.
* * *
Секретарь сельсовета Гаврила Подопригора, тучный рыжий человек в черной рубахе без пояса, постучал карандашом по столу, попросил выбрать председателя собрания. Несколько десятков людей в один голос назвали Безуглого. Крестьяне его помнили по двадцать первому году. Его отряд был самым дисциплинированным в то время.
Собрание обсуждало предложение райисполкома об увеличении посевной площади. Первым говорил председатель сельсовета Леонтий Леонтьевич Желаев. Его настоящую фамилию в селе забыли. Он после царской военной службы при встречах со знакомыми пучил глаза и орал: «Здравия желаю!». Он с тех пор и стал Желаемым. Безуглову не понравилось его лицо, серое, рябое, с красным носом и бесцветной щетиной на верхней губе. Говорил он, высоко задирая голову. На шее у него голубиным яйцом перекатывался кадык. Жилистая рука теребила низкий ворот холщовой рубахи.
– Свободы мы действительно такой добились, чтобы никого не бояться, на налог не обижены, но хлебозаготовки для крестьянина есть метла. Власть у нас пишется крестьянская и рабочая, но почему же тогда добытчики одне крестьяне? В городу работают восемь часов, а мы от темна до темна. Достижения высших органов мы признаем, но против прежнего много не видим. Опеть же дароговизня. Отчего не надбавить площадь. Крестьянину вовсе руки, ноги отшиби, он на брюхе пашню выползат.
Собрание пестрым зверем, многоголовым, многобородым, зашевелилось, зафыркало. Безуглый перевернул несколько страниц в своем дневнике, записал:
«Поставить на первом собрании ячейки вопрос о перевыборе сельсовета».
Желаев покосился на карандаш Безуглого.
– Обществом принимать твердые задания мы опасаимся. Кажный за себя думает, а о другом как скажешь. Мы – не земнамеры. Пашня нонче не шибко манит, таиться нечего, но ввиду поступившей просьбы райисполкома, я думаю, кажный посеет по силе возможности, потому мы для власти завсегда с полным жаланием.
Из дальних рядов кто-то крикнул:
– Сколь сила возьмет!
Собрание молча подняло свои головы на старика Бидарева. Он стал к столу на место Желаева. Большая борода у него белой пеной свисала на грудь. Намасленная голова отливала на солнце серебром. На нем был длиннополый узкорукавный черный кафтан. Бидарев обеими руками опирался на высокий посох. Безуглый посмотрел на розового, синеглазого старика и подумал, что его портрет сошел бы за икону.
– Сеял я, граждане, никогда не ленился и опять посею. Пятьдесят годов писал я вельможам и простым людям, всех звал пахать и ни одной черты ни от кого не получал в ответ, ровно в мертвые руки подавал, в глухие уши говорил. Двадцать пять годов страдал я при царе в ссылке за то, что нашел правду, открыл средствие всем избавиться от нищеты и стать счастливыми. Не любил царь правды.
Старик стукнул посохом.
– Средствие мое не тяжелое, а легонькое, не завитое, а простое и для всякого человека доступное. В короткое время избавились бы люди от нужды и от постыдного убожества и зажили бы на свете фертом, припеваючи. Доискался я, граждане, что хлебопашество сделает всех людей равными и пресечет крылья роскоши и вожделениям. Когда каждый сядет на землю, и у каждого родится свой хлеб, и никто не станет продавать его и покупать, тогда не надо будет прибегать к ласкательству лукавому и к насилию.
Старик повернулся к Безуглому.
– Старой власти не страшился, в глаза говорил и попу, и становому, что белыми руками царь ест не заработанное им, значит, ворованное.
Он поднял руку.
– Вам говорю прямо, учение ваше о разделении труда суть измышление диавольского ума. От него и неравенство, и зависть, и обман. Истинно сказано: «В поте лица твоего снеси хлеб свой». Сейте, граждане, сами, все сейте, тогда царство божие будет на земле.
Бидарев закрыл глаза. Голова его, как отрубленная, повисла на конце толстого посоха.
«Семен Калистратович Бидарев. Маломощное середняцкое хозяйство. Ореол мученика за правду. Философ-самоучка. Переписка с Л. Толстым. Будет с ним канитель…»
Безуглый почувствовал, что все смотрят на него. Он положил карандаш, встал.
Собрание шло около сельсовета. Люди устроились на бревнах, заготовленных для нового здания школы. Бородатые старожилы-кержаки в домотканых белых вышитых рубахах и в кошемных[4] шляпах пирогами сидели широко, по-хозяйски. Новоселы кучкой жались в стороне. Над их картузами колыхались сизые табачные тучи. Вокруг всей площади около ворот цвели праздничные бабьи сарафаны. На собрании их было мало. Парни и девки с гармошками и балалайками ходили из одного конца села в другой, пели. Несколько девок, одетых по-городскому, в кофтах и коротких юбках, прошли мимо сельсовета. Головы в картузах и шляпах повернулись в их сторону. Девки выкрикивали нараспев:
- Кержаки, вы, стары черти,
- Нераскурливый народ,
- Православны помирают,
- Кержаков черт не берет.
Картузы затряслись, загоготали. Шляпы опустились на носы. Андрон огрызнулся:
– Дуры христовы, кержаков сменяли на лешаков.
Долина, в которой стояло село, была похожа на глубокую яйцевидную чашу. Безуглый смотрел со дна, заваленного разноцветными кучами домов. Выше лежал черный крупитчатый жир пашен. За ним – светлая зелень пастбищ и темные полосы пихтачей. Зубчатые края чаши были вытесаны из глыб мерзлого молока.
Безуглый минуту стоял молча. Он искал нужные слова. Безуглый знал, что жизнь первых человеческих скоплений зарождалась здесь, в яйцевидных чашах-долинах. Отсюда людские множества начинали свое победное наступление. Человеческое море растекалось по поверхности земли, заливало все впадины, поднималось к вершинам. На дне долин оседали пестрые полосы поселений. Море росло непрерывно. На боках чаши это было видно, как на водомерной шкале. Черный пашенный пояс ширился, зеленый лесной суживался. Человеческие дома отвердевали панцирями моллюсков. Их многочисленные колонии пожирали все, что росло на горах, и все, что было в недрах. Горы пережили рождение и гибель тьмы живых существ, и теперь мягкотелые моллюски-люди точили их самих. Один вид моллюсков теснил другой. Звероловы и скотоводы с круглыми, мягкими панцирями юрт откочевывали выше. Землевладельцы с твердыми, четырехугольными панцирями домов прочно присасывались к земле. Медведей, маралов и козлов вытесняли алтайцы, алтайцев – русские, русских старожилов – новоселы. Тридцать лет назад около Белых Ключей в двадцати долинах жили звери, в одной – люди. Теперь: в двадцати – люди, в одной – звери.
Безуглый нашел нужное слово. Он сказал, что теснота заставит людей объединиться. Он говорил о новом человеческом обществе, о плане великих работ в стране.
Вдруг он увидел, что его почти не слушают. Собрание замахивалось на него черными камнями зевков. Оно пока прятало их в широкие ладони. Оно скучливо скребло затылки, чтобы скрыть ножевой блеск глаз. Над собранием пучками соломы горели рыжие бороды рослых родственников Андрона.
Андрон западал за спины, шептал:
– Я советской властью много доволен. Она меня человеком сделала. Бывало, сеял я сто десятин, пасеку имел триста ульев, маралов, коней, скотины сколь держал. Лонись[5] пасеку нарушил, конишек лишних размотал, скотинишку поприрезал, пашню сократил.
Андрон дурашливо вздыхал.
– Жизня теперь у меня стала, покойник родитель сказал бы, не дай бог как хороша.
Андрон заводил глаза под лоб.
– Бывало, я ночи не спал, поисть, рожу водой ополоснуть время не было. Шибко я убивался над хозяйством. Нонче я сплю, сколь душа просит. Ем, что мне желательно. Ране дурак был, все на базар вез. В избу читательную стал ходить, три газеты выписываю, руки с мылом мою, гражданы.
Кержаки заминали в бородах огоньки улыбок.
Безуглый перед собранием посмотрел в сельсовете налоговые списки. Он знал село в двадцать первом году. Некоторые середняки стали кулаками, несколько бедняков перелезли в середняки. Места богатеев, убитых и бежавших с белыми в Китай, были заняты новыми людьми, которые ничем не отличались от прежних.
Бурьян братских могил заскрипел под ногами. Федя и тысячи без имен – напрасные жертвы? Деревня вырастила для себя нестрашных председателей Желаевых?
Собрание колыхалось, как безветренное озеро. Головы листьями лежали на воде. Безуглый вглядывался, словно искал брод. Берег трибуны казался ему слишком удаленным. Он в своих высоких сапогах вошел в первые ряды. Над безликой гладью поднялись плечи, глаза своих – Помольцева, Рукобилова, Игонина, Анны. Вылезли морды врагов – Моревых, Мамонтовых, Чащегоровых. Он говорил, топал ногой. Берег, на котором он стоял, опускался. Вода пошла на него, зашумела. Дальние ряды пересели ближе. Передние уплотнились. Многие встали, обступили докладчика. Горы сдвинулись к самому селу. Ущелья оскалили каменные зубы. Над собранием завыл снег, смешанный с пулями. Все было только вчера. Кровь убитых пачкала ноги живым. Свои теребили поясные ремни, точно на них еще висели подсумки с патронами. Разве деревня была когда-нибудь единой? Теперь он всех хорошо видел. Враги раками отползали назад, уходили с собрания.
Ничего нового он им не сказал. Они сами читали все это в газетах, слышали в избе-читальне из глотки громкоговорителя. Тогда они не кричали и не плескали ладонями. Теперь Безуглый замолчал, оглушенный. Помольцев был громче всех:
– Правильно, командир!
Безуглый настаивал, чтобы собрание приняло твердый план посева. Большинство было на его стороне. Он отошел, сел.
К столу вышел кривоногий Кадытка. Он ранил и взял в плен Федю.
– Наша слова мошна?
Безуглый вздрогнул.
– Мы советский власть на тесять лет отна курочка тавал. Газета нас писал – харошай чаловек педняк.
Кадытка показал на Андрона.
– Прат Сютка тватсать тестин сеял, пятьсот пут хлеп тавал. Газета писал – хутой человек, тюрьма ево сатил. Отнако не сеем – тюрьма не ситим. Зачем сеем?
Кадытка развел руками, воткнул в рот трубку. Кержаки закрывали шляпами хихикающие рожи. Цигарки дымились из-под картузов, как белые клыки. Безуглый поставил вопрос на голосование. Некоторые не голосовали ни за, ни против и не поднимали рук, когда он спрашивал, кто воздержался. Собрание выбрало комиссию, которой поручило сделать подворный учет семян и тягловой силы.
С собрания Безуглый шел, не замечая дороги. Помольцев взял его за локоть. Он не сразу понял, о чем тот говорит.
– Федорыч, покудова комиссия по дворам ходит, слетаем на белки. Снег одеялом плывет. Прозеленки большие стают. Зверю самый разгул.
Безуглый долго молчал, потом торопливо ответил, точно проснулся:
– Завтра едем.
Помольцев отошел. Безуглый догнал Анну.
2
Анна гладила Безуглого по голове, говорила:
– Поедешь мимо пасеки, вспомнишь… Я каждый раз, как бываю, все вспоминаю.
Она прижалась к нему.
– Бывало, рассказываешь ты мне, ровно ведешь меня на высокую, высокую гору, и вся земля с нее – вот она на ладонке подана.
Безуглый поцеловал Анну, ласково отстранил. Он снял со стены винтовку, подошел с ней к окну, вынул затвор. Стальные спирали нарезов заблестели на солнце. Безуглый не нашел ни одного пятнышка ржавчины. Он почувствовал упругий прилив крови в руках, когда представил себе, как его пуля свистнет над безмолвием каменных россыпей и повалит тяжелого зверя.
К окну верхом подъехал Мартемьян. В поводу он вел оседланную лошадь. Безуглый подтянул ремни у сапог, надел патронташ. Анна вынесла большую корзину шанег и калачей, сунула в сумины мешок с сухарями. Никита подал отцу плеть.






