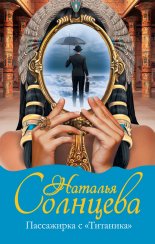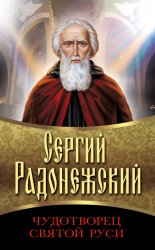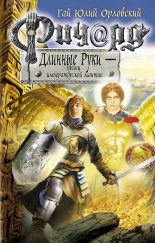Сочинения Алейхем Шолом

Он покраснел, точно больной, до раны которого нечаянно коснулась чья-нибудь рука. Мадемуазель де Туш была поражена выражением его лица и постаралась утешить его ласковым взглядом. Клод Виньон подметил этот взгляд. С этой минуты писатель стал необыкновенно весел и не скупился на сарказмы: он уверял Беатрису, что любовь есть минутная прихоть, что большинство женщин ошибаются в своем чувстве, что иногда они любят кого-нибудь вследствие неведомой ни другим, ни им самим причины, что они нарочно обманывают сами себя, что самые достойные из них бывают самыми отчаянными притворщицами.
– Довольствуйтесь книгами, не критикуйте наших чувств, – с повелительным взглядом сказала ему Камиль.
Обедающие вдруг утратили веселое настроение. Насмешки Клода Виньона заставили обеих женщин задуматься. Калист испытывал ужасное терзание, хотя лицезрение Беатрисы в то же время наполняло его душу счастьем. Конти старался прочесть в глазах маркизы ее мысли. Когда обед кончился, мадемуазель де Туш взяла под руку Калиста; двое других мужчин пошли впереди с Беатрисой. Она пропустила их нарочно вперед и сказала молодому человеку:
– Дорогое дитя мое, если маркиза полюбит вас, то она выбросит Конти за окно; но в данную минуту вы ведете себя так, что только теснее сближаете их. Даже если бы она была в восторге от вашего поклонения ей, разве она может обратить на него внимание? Сдержите свои чувства.
– Она была очень жестока со мной, она никогда не полюбит меня, – сказал Калист; – а если она меня не полюбит, то я умру.
– Умереть! Вам, дорогой Калист? – сказала Камиль, – Вы совершенное дитя. А из-за меня вы не умерли бы?
– Вы сами захотели быть только моим другом, – отвечал он.
После легкой беседы за кофеем, Виньон попросил Конти спеть что-нибудь. Мадемуазель де Туш села за рояль; они спели вместе: «Наконец, моя дорогая, ты будешь моей», последний дуэт из «Ромео и Джульетты», Цингарелли, чудный патетический образец новейшей музыки. То место, где они поют: «Такой сердечный трепет», представляет настоящий апофеоз любви. Калист, сидя в том кресле, с которого Фелиситэ ему рассказывала историю маркизы, с благоговением слушал. Беатриса и Виньон стояли по обеим сторонам рояля. Чудный голос Конти умело сливался с голосом Фелиситэ. Оба часто пели раньше эту вещь и хорошо изучили ее, так что в их исполнении еще ярче выступала красота музыки. Они именно исполнили ее так, как хотел композитор: это была музыкальная поэма, полная неземной грусти, это была лебединая песнь двух влюбленных, прощавшихся с жизнью. Когда дуэт окончился, никто не хлопал, так сильно было впечатление, охватившее всех слушателей.
– Ах, музыка выше всех других искусств! – сказала маркиза.
– А Камиль выше всего ценит молодость и красоту, которая составляет в ее глазах высшую поэзию, – сказал Клод Виньон.
Мадемуазель де Туш с плохо скрываемой тревогой взглянула на Клода. Беатриса, не видя Калиста, повернула голову, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела на него музыка, не столько интересуясь этим ради него самого, сколько ради Конти; она увидела в амбразуре окна его бледное лицо, по которому текли крупные слезы. Она тотчас же отвернула голову, точно вдруг ее что-нибудь кольнуло, и посмотрела на Женнаро. Калист не только проникся музыкой, которая коснулась его своим магическим жезлом и открыла ему глаза на окружающий его мир, он, кроме того, был подавлен талантом Конти. Несмотря на то, что ему рассказывала Камиль Мопен об его характере, он готов был думать, что у него чудная душа и что сердце его полно любви. Как ему соперничать с таким артистом? Как женщине не испытывать к нему вечного чувства преклонения? Бедное дитя было одинаково потрясено и поэзией и отчаянием: он сознавал себя таким ничтожным! Это наивное сознание своего ничтожества было ясно написано у него на лице, вместе с вожделением. Он не заметил жеста Беатрисы, которая, вновь обернувшись в Калисту, движимая симпатией к его искреннему чувству, знаком указала на него мадемуазель де Туш.
– Ах, какое золотое сердце! – сказала Фелиситэ. – Конти, все аплодисменты, которые когда-либо еще выпадут на вашу долю, не сравнятся с поклонением, которое чувствует к вам этот ребенок. Споем трио. Беатриса, милая, идите сюда!
Когда маркиза, Камиль и Конти подошли к роялю, Калист встал незаметно для них, бросился на софу в ее спальне, дверь которой была отворена, и остался там наедине с охватившим его чувством безграничного отчаяния.
Часть вторая
Драма
– Что с вами, дитя мое? – спросил его Клод, который молча подошел к нему и сел рядом, взяв его за руку. – Вы любите и считаете себя отвергнутым? Но этого вовсе нет. Через несколько дней вам будет предоставлено поле сражения, вы будете один царить здесь, вас полюбят, и не одна женщина; вообще, если сумеете повести себя, как следует, то заживете здесь, как султан.
– Что вы мне говорите? – воскликнул Калист, вскакивая с места и жестом увлекая за собой Клода в библиотеку. – Кто меня здесь любит?
– Камиль, – отвечал Клод.
– Камиль любит меня! – вскричал Калист. – А вы-то?
– Я, – возразил Клод, – я…
Он не кончил, сел и в глубокой меланхолии положил голову на подушку.
– Мне надоела жизнь и вместе с тем не хватает мужества покончить с ней, – сказал он после минутного молчания. – Я очень бы хотел ошибиться относительно того, что я только что сказал вам; но вот уже несколько дней, как это стало для меня почти несомненным. Не ради собственного удовольствия я прогуливался среди скал Круазига, клянусь своей душой! Горькая ирония слов, сказанных мною, когда я, вернувшись, застал вас в беседе с Камиль, была вызвана оскорбленным самолюбием. Я вскоре переговорю с Камиль. Два таких проницательных человека, как она и я, не могут обманывать друг друга. Между двумя профессиональными дуэлистами поединок будет короткий. Поэтому я могу заранее сообщить вам, что уезжаю. Да, я оставлю Туш, даже завтра, может быть, вместе с Конти. Конечно, без нас здесь произойдут странные, даже страшные, события, и мне жаль, что не буду присутствовать при борьбе страстей, столь драматичной и столь редкой во Франции. Вы слишком молоды для такой опасной борьбы: вы внушаете мне симпатию. Если бы я не чувствовал такого глубокого отвращения к женщинам, я остался бы, чтобы помочь вам выиграть игру: она очень трудна, вы можете проиграть ее, вам придется иметь дело не с заурядными женщинами, а вы уже слишком влюбились в одну, чтобы уметь воспользоваться другой. У Беатрисы, по-видимому, много упрямства в характере, у Камиль есть благородство. Может быть, как хрупкое и деликатное существо, вы будете раздавлены двумя скалами, вас увлечет могучая волна страсти. Берегитесь!
Калист был так ошеломлен этими словами, что Клод Виньон успел сказать их и оставить молодого бретонца, а тот все стоял неподвижно, точно турист в Альпах, которому гид дал бы понятие о глубине пропасти, бросив в нее камень. Узнать из уст самого Клода, что его, Калиста, любит Камиль и это в ту минуту, когда он почувствовал себя влюбленным в Беатрису на всю жизнь! Это стечение обстоятельств было слишком тяжело для наивной молодой души. Его терзало сожаление за прошлое, убивало затруднительное положение настоящей минуты между Беатрисой, которую он любит, и Камиль, которую он больше не любил, но которая, по уверениям Клода, любила его. Бедный ребенок был в отчаянии, в нерешимости и весь предался своим мыслям. Напрасно искал он причину, которой руководствовалась Фелиситэ, когда отвергла его любовь и помчалась в Париж за Клодом Виньоном. Временами до его ушей долетал чистый, свежий голос Беатрисы и его охватывало сильное волнение, от которого он убежал из маленькой гостиной. Не раз уже он чувствовал, что не может совладать с бешеным желанием схватить ее и унести. Что с ним теперь будет? Вернется ли он в Туш? Зная, что Камиль любит его, как может он преклоняться здесь перед Беатрисой? Из этого затруднения, казалось ему, нет выхода. Мало-помалу, в доме наступила тишина. Он, не отдавая себе отчета, слышал, как запирались двери. Вдруг он расслышал, что часы в соседней комнате пробили полночь; голоса Камиль и Клод вывели его из полубессознательного состояния, в которое он погрузился, думая о своем будущем, где среди мрака мерцал огонек. Раньше, чем он успел выйти к ним, ему пришлось выслушать ужасные слова, произнесенные Виньоном.
– Вы приехали в Париж, безумно влюбленная в Калиста, – говорил он Фелиситэ, – но вас ужасали последствия такой страсти в ваши годы, она вела вас к пропасти, к аду, может быть, к самоубийству! Любовь может существовать только, когда мнит себя вечной, а вы в нескольких шагах от себя уже видели ужасную разлуку: отвращение и старость скоро должны были положить конец чудной поэме. Вы вспомнили об Адольфе, ужасном конце любви г-жи де Сталь и Бенжамена Констана, которые, тем не менее, ближе подходили друг к другу по годам, чем вы с Калистом. Тогда вы взяли меня, как берут на войне фашины, чтобы сделать окоп между собой и неприятелем. Но если вам так хотелось, чтобы я полюбил Туш, то не с той ли целью, чтобы вы могли проводить здесь свои дни, тайно поклоняясь своему кумиру? Чтобы привести в исполнение этот план, и постыдный и высокий, вам надо было поискать человека заурядного или человека, настолько погруженного в выспренние мечтания, что его легко было бы обмануть. Вы сочли меня простаком, которого легко обмануть, как всякого гениального человека. Но, по-видимому, я только умный человек: я понял вас. Когда вчера я прославлял женщин вашего возраста, объясняя вам, почему вас любить Калист, неужели вы думали, что я приму на свой счет ваши восхищенные, блестящие, довольные взгляды? Разве я не читал уже тогда в вашей душе? Глаза ваши были обращены на меня, но сердце билось для Калиста. Вас никогда не любили, моя бедная Мопен, и никогда никто не полюбит более, если вы откажетесь от чудного плода, который судьба посылает вам у врат женского чистилища, двери которого готовы закрыться, под напором цифры 50!
– Почему же любовь бежала меня? – спросила она изменившимся голосом. – Скажите мне, вы ведь все знаете!..
– Но вас трудно любить, – возразил он, – вы не сгибаете головы перед любовью, а она должна применяться к вам. Вы, может быть, еще способны на проказы и на мальчишеское веселье, но ваше сердце утратило свою юность, ваш ум слишком глубок, вы никогда не были наивны и не можете стать наивной теперь. Ваша прелесть в вашей таинственности, она имеет в себе что-то отвлеченное, не существующее в действительности. Наконец, ваша сила отдаляет от вас сильных людей, которые предвидят стычку. Ваше могущество может нравиться молодым существам, которые, как Калист, любят, чтобы им покровительствовали; но с течением времени оно утомляет. Вы велики и недосягаемы: несите же неудобства этих двух достоинств, – они надоедают.
– Какой приговор! – воскликнула Камиль. – Разве я не могу быть женщиной? Разве я чудовище?
– Может быть.
– Мы увидим это! – воскликнула женщина, задетая за живое.
– Прощайте, дорогая, завтра я уезжаю. Я не сержусь на вас, Камиль, и считаю вас величайшей из женщин; но, если бы я стал служить для вас ширмой или экраном, – продолжал Клод, умело придав своему голосу две совершенно разных интонации, – то вы бы стали презирать меня. Мы расстанемся без сожалений и без упреков: нам нечего сожалеть ни о потерянном счастье, ни об обманутых надеждах. Для вас, как для нескольких, очень редких, гениальных людей, любовь не есть то, чем ее сделала природа: могучая потребность, в удовлетворении которой есть жгучее, но скоро преходящее удовольствие, и не имеет вечности; вы смотрите на любовь с точки зрения христианской религии: это идеальное царство, полное благородных чувств, больших мелочей, поэзии, умственных наслаждений, самоотвержения, цветов нравственности, очаровательных гармоний и лежащее выше земной грубости; к нему поднимаются два существа, руководимые ангелом, и возносятся на крыльях блаженства. Вот на что и я надеялся, я мечтал завладеть ключом, который открыл бы нам двери, запертые для многих людей, двери, через которые можно проникнуть в вечность. Вы уже опередили меня! Вы обманули меня. Я возвращаюсь к своей нищете, к своей огромной парижской тюрьме. Этого обмана, случись он в начале моего пути, было бы достаточно, чтобы заставить меня избегать женщин; а теперь он только внушил мне такое разочарование, что я навсегда осужден на ужасное одиночество, и я даже лишен той веры, которая помогала св. отцам населять свое одиночество священными образами. Вот, дорогая Камиль, к чему нас приводит превосходство ума, мы можем вдвоем пропеть тот ужасный гимн, который поэт вложил в уста Моисея, беседующего с Богом: «Господь, Ты сделал себя могучим и одиноким!».
В эту минуту показался Калист.
– Я не хочу оставлять вас в неведении, что я здесь, – сказал он.
Мадемуазель де Туш сильно испугалась и краска огненным заревом залила ее спокойное лицо. В продолжение всей этой сцены она была так хороша, как никогда.
– Мы думали, что вы ушли, Калист, – сказал Клод, – но эта невольная обоюдная нескромность не может иметь вредных последствий; может быть, вы даже лучше будете себя чувствовать в Туше, узнав вполне хорошо Фелиситэ. ее молчание доказывает, что я не ошибся насчет той роли, которую она мне назначила. Она любить вас, как я уже говорил вам, но любит в вашем лице вас самих, а не себя, мало женщин могут понять и испытать это чувство: немногие из них понимают сладость мучений, которые дает нам страсть, это высокое чувство обыкновенно предоставляется мужчинам; но ведь она немного мужчина, – насмешливо добавил он, – Ваше увлечение Беатрисой заставит ее страдать и сделает ее в то же время счастливой.
Слезы показались на глазах мадемуазель де Туш, которая не смела посмотреть ни на жестокого Клода Виньона, ни на невинного Калиста. Она ужасалась того, что ее поняли; она не верила, чтобы человек, хотя бы и стоящий выше других по развитию, мог отгадать такую жестокую деликатность, такое возвышенное геройство, как у нее. Видя, что она подавлена тем, что ее величие развенчано, Калист сам проникся волнением этой женщины, которую он вознес так высоко и которую он теперь видел низверженной. Калист с неудержимым порывом бросился к ногам Камиль и стал целовать ее руки, пряча свое лицо, омоченное слезами.
– Клод, – сказала она, – не покидайте меня, что будет со мной?
– Чего вам бояться? – отвечал критик. – Калист уже влюблен в маркизу, как безумный. Вам, без всякого сомнения, никогда бы не найти более верной преграды между вами и им, как эта любовь, вызванная вами самой. Эта страсть может вам заменить меня. Вчера еще была опасность для вас и для него, а сегодня вы можете наслаждаться материнским счастьем, – сказал он с насмешливым взглядом, – Вы будете гордиться его успехами.
Мадемуазель де Туш взглянула на Калиста, который при этих словах быстрым движением поднял голову. Клод Виньон мстил за себя и наслаждался смущением Фелиситэ и Калиста.
– Вы сами его толкнули к г-же де Рошефильд, – продолжал Клод Виньон, – он теперь находится под ее обаянием. Вы сами вырыли себе могилу. Если бы вы доверились мне, то избегли бы всех ожидающих вас несчастий.
– Несчастий! – воскликнула Камиль Мопен; взяв Калиста за голову, она осыпала его волосы поцелуями и смачивала их слезами. – Нет, Калист, забудьте все, что вы только что слышали, не придавайте этому никакого значения!
Она встала, выпрямилась во весь рост перед двумя мужчинами; оба они были поражены, таким опием заблистали ее глаза, в которых сказалась вся ее душа.
– Пока Клод говорил, – продолжала она, – я поняла всю красоту, все величие безнадежной любви; это единственное чувство, которое может приблизить нас к Богу! Не люби меня, Калист; а я, я буду любить тебя так, как никакая другая женщина никогда не будет любить.
Этот яростный крик вырвался у нее, как у раненого орла. Клод склонил колено, взял руку Фелиситэ и поцеловал.
– Оставьте нас, друг мой, – сказала мадемуазель де Туш молодому человеку, – ваша мать, пожалуй, будет беспокоиться.
Калист вернулся в Геранду медленным шагом, обертываясь назад, чтобы еще раз увидать огонь в окнах Беатрисы. Он сам удивлялся, как мало сочувствия было у него в душе к Камиль, он был почти сердит на нее за то, что она лишила его пятнадцатимесячного счастья. Потом вдруг он снова ощущал в себе волнение, которое только что возбудила в нем Камиль. Он чувствовал на своих волосах пролитые ею слезы, он страдал ее страданиями, ему казалось, что он слышит стоны, которые испускает эта великая женщина, еще несколько дней назад бывшая для него такой желанной. Отворяя дверь родительского дома, где царило глубокое молчание, он увидал в окне, при свете лампы такого наивного устройства, свою мать, работавшую в ожидании его. При виде ее слезы показались в глазах Калиста.
– Что случилось с тобой? – спросила Фанни, лицо которой выражало ужасное беспокойство.
Вместо ответа Калист заключил ее в свои объятия и стал осыпать поцелуями ее щеки, лоб, волосы со страстным порывом, который так любят матери и который точно зажигает в них пламя той жизни, которую они дали.
– Тебя одну я люблю, – сказал Калист своей матери, которая вся покраснела и казалась немного смущенной, – тебя, которая только и живет мной, тебя, которую мне хотелось бы видеть счастливой.
– Но ты не совсем в своей тарелке, дитя мое, – сказала баронесса, посмотрев на сына. – Что с тобой случилось?
– Камиль любит меня, а я ее больше не люблю, – сказал он.
Баронесса, притянув к себе Калиста, поцеловала его в лоб и Калист, среди полной тишины этой темной залы, услыхал быстрое биение материнского сердца. Ирландка ревновала его к Камиль и предчувствовала истину. Дожидаясь сына каждую ночь, она угадала страстное чувство этой женщины, благодаря постоянным размышлениям, она проникла в сердце Камиль и, не давая себе отчета почему, ей представилось, что у этой особы явится фантазия разыграть роль его матери. Рассказ Калиста привел в ужас его простую, наивную мать.
– Ну, что же, – сказала она после некоторой паузы, – люби г-жу де Рошефильд, она не причинит мне огорчений.
Беатриса не была свободна, она не расстраивала планов, касавшихся счастья Калиста, так, по крайней мере, думала Фанни; ей казалось, что Беатрису она может полюбить, как будто та была ее невесткой и что ей не придется отстаивать свои материнские права перед другой матерью.
– Но Беатриса не любит меня! – воскликнул Калист.
– А может быть, – заметила баронесса хитрым тоном. – Ты ведь, кажется, сказал мне, что она завтра будет одна?
– Да.
– Ну, дитя мое! – прибавила мать, краснее. – Ревность таится в глубине каждого сердца; я никогда не предполагала, что для нее найдется место и в моем сердце, так как не ожидала, что кто-нибудь будет оспаривать у меня любовь моего Калиста! (Она вздохнула.) Я думала, – продолжала она, – что брак будет для тебя тем же, чем был для меня. Но какой свет пролил ты в мою душу за эти два месяца! Какими яркими красками играет твоя, столь естественная любовь, бедный ангел мой! Притворись, что все еще любишь твою мадемуазель де Туш, маркиза станет ревновать и будет твоей.
– О! Добрая матушка, Камиль не сказала бы мне этого! – воскликнул Калист, взяв мать за талию и целуя ее в шею.
– Ты совсем портишь меня, негодный ребенок, – сказала она, счастливая тем, что лицо сына просияло надеждой; он весело взбежал на лестницу башенки.
На другое утро Калист приказал Гасселену сторожить дорогу из Геранды в С.-Назер, ждать, пока не проедет карета мадемуазель де Туш и сосчитать, сколько лиц будет в ней сидеть.
Гасселен вернулся в ту минуту, когда вся семья была в сборе и завтракала.
– Что случилось? – спросила мадемуазель дю Геник, – Гасселен бежит, как будто Геранда горит.
– Он, наверное, поймал полевую мышь, – сказала Мариотта, принесшая кофе, молоко и поджаренный хлеб.
– Он идет из города, а не из сада, – отвечала мадемуазель дю Геник.
– Но ведь у мыши есть норка за стеной, со стороны площади, – сказала Мариотта.
– Господин шевалье, их было пятеро, четверо внутри и кучер.
– В глубине сидели две дамы? – спросил Калист.
– А два господина впереди, – отвечал Гасселен.
– Оседлай лошадь моего отца, поезжай за ними, постарайся поспеть в С.-Назер, когда судно будет отплывать в Пембеф, и если оба мужчины уедут, то мигом скачи ко мне с этим известием.
Гасселен вышел.
– Племянничек, у вас сегодня точно огонь в жилах! – сказала старая Зефирина.
– Пускай себе тешится, сестра, – воскликнул барон, – он был мрачен, как сова, а теперь весел, как зяблик.
– Вы, может быть, сообщили ему, что приезжает наша милая Шарлотта? – спросила старая девица, оборачиваясь в сторону невестки.
– Нет, не говорила, – отвечала баронесса.
– Я думала, что он собирается ехать к ней на встречу, – лукаво заметила мадемуазель дю Геник.
– Если Шарлотта останется у тетки три месяца, то у него будет еще время увидать ее, – возразила баронесса.
– О, сестра! Что же случилось с вчерашнего дня? – спросила старая девица. – Вы были так счастливы, когда узнали, что мадемуазель де Пен-Холь едет сегодня утром за своей племянницей!
– Жакелина хочет меня женить на Шарлотте, чтобы спасти меня от погибели, тетушка, – сказал со смехом Калист, бросая многозначительный взгляд на мать. – Я был на городской прогулке, когда мадемуазель де Пен-Холь говорила об этом с г-ном дю Хальга; а она не подумала о том, что для меня будет еще более ужасной погибелью жениться в моем возрасте.
– Верно, написано на небе, – воскликнула старая девица, прерывая Калиста, – что я так и умру, не видав ни покоя, ни счастья. Я хотела бы, чтобы наш род продолжился, хотела бы видеть некоторые земли выкупленными, ничего этого не будет. Можешь ли ты, мой прекрасный племянник, что-нибудь противопоставить таким обязательствам?
– Но, – сказал барон, – разве мадемуазель де Туш помешает Калисту жениться, когда будет нужно? Я должен повидаться с ней.
– Я могу уверить вас, отец, что Фелиситэ никогда не будет помехой моему браку.
– Я ничего тут не понимаю, – сказала старая слепая, ничего не знавшая о внезапной страсти своего племянника к маркизе де Рошефильд.
Мат сохранила тайну сына; в таких случаях всякая женщина умеет инстинктивно молчать. Старая барышня впала в глубокую задумчивость, стараясь в то же время слушать из всех сил, вслушиваясь в разговор и ловя всякий шум, чтобы разгадать тайну, которую скрывали от нее. Гасселен вернулся вскоре и доложил своему молодому господину, что ему не зачем было ехать в С.-Назер, чтобы узнать, вдвоем ли вернутся назад мадемуазель де Туш с приятельницей: ему это сообщил в городе Бернус, который вез вещи обоих мужчин.
– Они будут одни на возвратном пути! – воскликнул Калист. – Седлай мне лошадь.
По тону молодого хозяина Гасселен подумал, что дело идет о чем-нибудь важном; он отправился седлать обеих лошадей, зарядил пистолеты, ничего не сказав никому, и оделся, чтобы сопровождать Калиста. Калист был так доволен, узнав, что Клод и Женнаро уехали, что не думал о встрече, которая ему предстояла в С.-Назере, он только и думал о счастье сопровождать маркизу; он взял руки старика отца и нежно жал их, целовал мать, обнимал за талию старую тетку.
– Все-таки он мне больше нравится таким, чем грустным, – сказала старая Зефирина.
– Куда ты, шевалье? – спросил его отец.
– В С.-Назер.
– Черт возьми! А когда же свадьба? – спросил барон, думавший, что сын торопится увидать Шарлотту де Кергаруэт. – Мне давно хочется быть дедушкой, давно пора.
Когда Гасселен показался с явным намерением сопровождать Калиста, молодой человек подумал, что он может вернуться в экипаже Камиль с Беатрисой и оставить лошадь Гасселену; он хлопнул его по плечу, со словами:
– Молодец, что сообразил.
– Я полагаю, – отвечал Гасселен.
– Сынок, – сказал отец, выходя с Фанни на крыльцо, – побереги лошадей, ведь им придется сделать двенадцать лье.
Калист уехал, обменявшись глубоким, значительным взглядом с матерью.
– Дорогое сокровище, – сказала она, когда он выезжал из арки ворот, нагнув голову.
– Да сохранит его Бог! – отвечал барон, – нам такого уже не сделать больше.
Баронессу передернуло от этих слов, вполне соответствовавших гривуазному тону провинциальных дворян.
– Племянник мой вовсе не настолько любит Шарлотту, чтобы ехать к ней навстречу, – сказала старая барышня Мариотте, убиравшей со стола.
– В Туш приехала знатная дама, маркиза, вот он и бегает за ней. Что же! Это ему по годам, – сказала Мариотта.
– Они нам его убьют, – сказала мадемуазель дю Геник.
– Это не убьет его, барышня; напротив, – возразила Мариотта, по-видимому, счастливая счастьем Калиста.
Калист скакал так, точно собирался зарезать лошадь; Гасселен очень кстати спросил у него, собирается ли он приехать до отхода судна, но это вовсе не входило в его расчеты, ему не хотелось ни видеть Клода и Конти, ни чтобы они увидали его. Тогда молодой человек замедлил шаг лошади и с нежностью устремил взгляд на следы от колес кареты, оставшиеся на песчаной дороге: Его охватывала безумная радость при одной мысли: «Она проезжала здесь, она опять будет здесь возвращаться, ее взор останавливался на этих лесах, на этих деревьях!»
– Прекрасная дорога, – сказал он Гасселену.
– Ах, сударь, Бретань самая красивая страна в мире, – отвечал слуга. – Разве есть еще где-нибудь такие цветы на изгородях, такие извилистые свежие тропинки?
– Ни в какой другой стране, Гасселен.
– Вот экипаж Бернуса, – сказал Гасселен.
– Мадемуазель де Пен-Холь и ее племянница, наверное, едут, спрячемся, – сказал Калист.
– Здесь, сударь? В уме ли вы? Ведь мы окружены песками.
Экипаж, поднимавшийся на песчаный холм, лежавший выше С.-Назера, предстал глазам Калиста во всей Наивной простоте своего бретонского устройства.
– Мы оставили в большом беспокойстве мадемуазель де Пен-Холь, ее сестру и племянницу; все места были заказаны таможней, – сказал Гасселену кондуктор.
– Я погиб! – воскликнул Калист.
Действительно, весь экипаж был наполнен служащими, которые, без сомнения, должны были сменить своих товарищей у соляных болот. Когда Калист приехал на небольшую площадь, которая идет кругом церкви С.-Назера и с которой открывается вид на Пембеф и на величественное устье Луары, выдерживающей натиск моря, он нашел здесь Камиль и маркизу; они махали платками в знак последнего «прости» двум отъезжавшим на пароходе. Беатриса была очаровательна в этой позе: на лицо ее падала слабая тень от соломенной шляпы с раковинами и лентой пунцового цвета; на ней было муслиновое платье с цветами, выставленная вперед узенькая ножка была обута в зеленые ботинки; она опиралась на тонкий зонтик и показывала свою изящную ручку в прекрасной перчатке. Женщина на скале – точно статуя на пьедестале – представляет необыкновенно грандиозную картину. Конти мог видеть, как Калист подошел к Камиль.
– Я подумал, – сказал молодой человек мадемуазель де Туш, – что вам придется возвращаться одним.
– Вы хорошо сделали, Калист, – отвечала она, пожимая ему руку.
Беатриса обернулась, посмотрела на своего юного влюбленного и метнула на него один из самых повелительных взглядов своего репертуара. Улыбка, подмеченная маркизой на красноречивых губах Камиль, Заставила ее понять всю вульгарность этого приема, достойного мещанки. Тогда г-жа де Рошефильд, улыбаясь, сказала Калисту:
– Разве это не дерзость, думать, что я дорогой могу надоесть Камиль?
– Милая моя, один мужчина для двух вдов не лишний, – сказала мадемуазель де Туш, беря под руку Калиста и предоставляя Беатрисе смотреть в след пароходу.
В эту минуту Калист услыхал по наклонной улице, ведшей к так называемой С.-Назерской пристани, голоса мадемуазель де Пен-Холь, Шарлотты и Гасселена, болтавших точно сороки. Старая девица расспрашивала Гасселена, зачем он со своим господином очутились в С.-Назере; экипаж мадемуазель де Туш наделал много шума. Молодой человек не успел отойти, его заметила Шарлотта.
– Вот Калист! – воскликнула маленькая бретонка.
– Предложите им место в моем экипаже, их горничная может сесть рядом с кучером, – сказала Камиль, знавшая, что г-жа де Кергаруэт, ее дочь и мадемуазель де Пен-Холь остались без мест.
Калист, который не мог не повиноваться Камиль, отправился исполнить ее поручение. Узнав, что ей предстоит ехать с маркизой де Рошефильд и со знаменитой Камиль Мопен, г-жа де Кергаруэт не захотела обращать внимания на отнекивания своей старшей сестры, которая ни за что не хотела пользоваться экипажем диавола. В Нанте они были под большей широтой цивилизации, чем в Геранде: тан восхищались Камиль, она была в их глазах музой Бретани, гордостью страны, и возбуждала одновременно общее любопытство и зависть. Отпущение, данное ей в Париже великосветским обществом и модой, было еще более освящено огромным состоянием мадемуазель де Туш и, может быть, ее прежними успехами в Нанте, гордившемся, что он был колыбелью Камиль Мопен. Поэтому старая виконтесса, сходя с ума от любопытства, потащила свою старую сестру, не обращая внимания на ее иеремиады.
– Здравствуй, Калист! – сказала молодая бретонка.
– Здравствуй, Шарлотта! – ответил Калист, не предлагая ей руки.
Оба, немного оторопевшие, – она от такой холодности, он от своей жестокости, поднялись по прорытому оврагу, который носил название улицы в С.-Назере и молча пошли за двумя сестрами. В одну минуту рухнули все воздушные замки, воздвигнутые романическими надеждами молодой девушки. Она с Калистом так часто играла в детстве, она так всегда была близка с ним, что думала, что будущая судьба ее упрочена. Она прилетела сюда, полная легкомысленного счастья, как птичка на ржаное поле: ее остановили на лету, когда она не предвидела никакого препятствия.
– Что с тобой, Калист? – спросила она, взяв его за руку.
– Ничего, – отвечал молодой человек и быстро отдернул руку, вспомнив о планах тетки и мадемуазель де Пен-Холь.
На глазах Шарлотты показались слезы. Она без всякой злобы взглянула на красавца Калиста; но ей вскоре пришлось впервые познакомиться с ревностью и почувствовать ужасную ярость, увидав соперниц в лице этих двух красивых парижанок и заподозрив причину холодности Калиста.
Среднего роста, Шарлотта де Кергаруэт отличалась заурядной свежестью; у нее было маленькое, круглое лицо, оживленное двумя умными черными глазами, хорошие каштановые волосы, кругленькая фигурка, плоская спина, худые руки. Манера разговаривать у нее была резкая и отрывистая, как у всех провинциалок, которые не хотят прослыть дурочками. Она была любимицей в семье, благодаря предпочтению, оказываемому ей теткой. На ней было надето манто из шотландского мериноса с большими клетками, подбитое зеленым шелком, в котором она была и на пароходе, и дорожное платье из довольно простой английской материи, с корсажем, скромно украшенным нагрудником и воротником, сложенным в маленькие складки. Все это ей должно было показаться жалким при виде свежих туалетов Беатрисы и Камиль. Ей приходилось страдать за свои белые чулки, загрязнившиеся среди скал и в лодках, куда она прыгала, за грубые козловые ботинки, которые были надеты нарочно затем, чтобы не портить в дороге хорошей обуви, согласно обычаям и нравам провинции. Что касается виконтессы де Кергаруэт, она представляла собой типичную провинциалку. Большого роста, сухая, увядшая, полная скрытых претензий, которые проявлялись на свет только, когда кто-нибудь задевал их, болтливая, схватывающая среди болтовни кое-какие мысли, как на биллиарде карамболем, и благодаря этому получившая репутацию умной женщины, старавшаяся унизить парижанок притворным добродушием своей провинциальной рассудительности и вечно выставляемым на вид несуществующим счастьем; унижавшая себя, чтобы ее возвышали, и злившаяся, если ее оставляли на земле; ловившая, по английскому выражению, на свою удочку комплименты, которые не всегда попадались; одетая и преувеличенно-изысканно и вместе неряшливо; принимавшая недостаток любезности за дерзость и воображавшая, что, не обращая никакого внимания на кого-нибудь, она этим ужасно поразит его; вечно отказывается от того, чего ей хотелось, для того, чтобы ей предложили это еще раз и чтобы казалось, что ее настойчиво упрашивают согласиться; очень занятая тем, о чем уже давно все перестали говорить и поэтому к своему крайнему удивлению узнающая, что она отстала от моды; наконец, не бывшая в состоянии прожить и часа без того, чтобы не заговорить о Нанте, о тиграх Нанта, о делах высшего Нантского света, жалуясь на Нант, критикуя Нант, принимая на свой счет фразы, вырывавшиеся из любезности у слушателей, которые по рассеянности готовы были многое сказать в том же духе. Ее манеры, разговор и воззрения более или менее передались и ее четырем дочерям. Познакомиться с Камиль Мопен и с г-жей де Рошефильд – да ведь это в будущем тема для бесчисленных разговоров!.. Поэтому она шла к церкви с таким видом, точно собиралась брать ее приступом и махала платком, нарочно развернув его, чтобы видны были углы с домашней вышивкой, обшитые стареньким кружевом. Походка ее была довольно развязна, что, впрочем, было безразлично ввиду ее сорока семи лет.
– Г-н шевалье, – сказала она Камиль и Беатрисе, указывая на Калиста, плачевно выступавшего рядом с Шарлоттой, – передал нам ваше любезное предложение; но мы, моя сестра, дочь и я, боимся стеснить вас.
– Я-то, во всяком случае, не стесню этих дам, сестра, – кислым тоном возразила старая девица, – потому что могу найти в С.-Назере для себя лошадь.
Камиль и Беатриса обменялись украдкой взглядом, который Калист перехватил; этого взгляда было достаточно, чтобы изгладить все воспоминания детства, всю его веру в Кергаруэт-Пен-Холь и навсегда разрушить планы, воздвигнутые обеими семьями.
– Мы прекрасно можем поместиться впятером в экипаже, – отвечала мадемуазель де Туш, в которой Жакелина обернулась спиной. – Даже если бы мы были ужасно стеснены, что совершенно невозможно, в виду тонкости вашего сложения, я все-таки была бы вознаграждена удовольствием оказать услугу друзьям Калиста. Ваша горничная, сударыня, найдет себе место, а ваш багаж, если он имеется, можно прикрепить за коляской – я не привезла с собой лакеев.
Виконтесса рассыпалась в любезностях и стала бранить свою сестру Жакелину, что та так скоро захотела видеть у себя племянницу, что не позволила ей ехать на лошадях; правда, что почтовая дорога не только очень длинна, но и дорога; ей скоро придется возвращаться в Нант, где она оставила еще трех кошечек, ожидающих ее с нетерпением, – сказала она, ласково гладя шею дочери. Шарлотта, подняв глаза на мать, имела в эту минуту немножко вид жертвы, можно было заподозрить, что виконтесса ужасно надоела своим четырем дочерям и так же часто заводила о них речь, как капрал Трим о своем колпаке в «Тристраме Шенди».
– Вы счастливая мать и вы должны… – начала Камиль и тотчас остановилась, вспомнив, что маркиза должна была разлучиться с сыном, чтобы последовать за Конти.
– О! – продолжала виконтесса, – если я имею несчастье жить всю мою жизнь в деревне и в Нанте, зато мое утешение в том, что меня боготворят мои дети. У вас есть дети? – спросила она у Камиль.
– Моя фамилия мадемуазель де Туш, – отвечала Камиль. – Эта дама – маркиза де Рошефильд.
– Так надо вас пожалеть, что вы не знаете величайшего счастья, которое есть у нас, простых женщин, не правда ли, сударыня? – сказала виконтесса маркизе, желая исправить свой промах. – Но для вас есть столько утешений!
Она увидала слезу на глазах Беатрисы, которая, быстро повернувшись, отошла к грубо сделанным перилам у скалы. Калист последовал за ней.
– Сударыня, – сказала Камиль на ухо виконтессе, – разве вы не знаете, что маркиза разошлась с мужем, что она уже два года не видела своего сына и не знает, когда увидит его?
– А! – сказала г-жа де Кергаруэт, – бедная дама! Судебным порядком?
– Нет, по собственному желанию, – сказала Камиль.
– Ну, я понимаю это, – храбро заметила виконтесса.
Старая Пен-Холь, в отчаянии, что попала в неприятельский лагерь, отстала шага на четыре со своей милой Шарлоттой. Калист, осмотревшись, не видит ли их кто, схватил руку маркизы и поцеловал ее, оставив на ней слезу. Беатриса обернулась: гнев осушил ее глаза, она собиралась сказать что-нибудь очень резкое и ничего не могла вымолвить, увидав ответ на свои слезы в слезах этого красивого ангельского лица, он, казалось, был взволнован не менее ее.
– Бог мой, Калист, – сказала ему на ухо Камиль, когда он вернулся с г-жей де Рошефильд, – вот эта будет вашей тещей, а эта маленькая дурочка – вашей женой!
– Потому что ее тетка богата, – иронически отвечал Калист.
Все общество направилось к постоялому двору; виконтесса сочла своей обязанностью сделать Камиль несколько сатирических замечаний относительно дикарей С.-Назера.
– Я люблю Бретань, сударыня, – серьезно отвечала Фелиситэ, – я родилась в Геранде.
Калист невольно восхищался мадемуазель де Туш, которая звуком своего голоса, спокойствием во взгляде и в манерах точно хотела успокоить его после ужасных признаний ночной сцены. Она, тем не менее, казалась немного утомленной: черты лица, точно отяжелевшие, говорили о бессонной ночи, но бесстрастное, безжалостно спокойное чело не давало внутренней буре прорваться наружу.
– Настоящие королевы! – сказал он Шарлотте, указывая на маркизу и Камиль и предлагая ей руку, к большому удовольствию мадемуазель де Пен-Холь.
– Что за фантазия у твоей матери, – сказала старая девица, также ведя свою племянницу под руку, – заводить знакомство с этой отчаянной?
– О! Тетя, эта женщина – слава Бретани.
– Стыд, дитя мое. Уж и ты не собираешься ли ласкаться к ней?
– Мадемуазель Шарлотта права, вы несправедливы, – сказал Калист.
– Ну, вы, – возразила мадемуазель де Пен-Холь, – вы очарованы ею.
– Я чувствую к ней, – сказал Калист, – такую же дружбу, как и к вам.
– С каких это пор дю Геники начали лгать? – спросила старая девица.
– С тех пор как Пен-Холь оглохли, – отвечал Калист.
– Ты не влюблен в нее? – в восторге воскликнула старая девица.
– Был, а теперь не влюблен больше, – отвечал он.
– Злое дитя! Зачем же ты нам причинил столько забот? Я знала, что любовь глупость; только брак прочен, – сказала она, глядя на Шарлотту.
Шарлотта, немного ободрившись, снова стала надеяться вернуть все свои права, опираясь на воспоминания детства, она прижала к себе руку Калиста, который мысленно решил окончательно объясниться с маленькой наследницей.
– Ах! Какую славную мушку мы устроим, Калист, – сказала она; – как мы будем смеяться.
Лошади были готовы; Камиль посадила на заднюю скамейку виконтессу и Шарлотту, так как Жакелина исчезла; а сама с маркизой села на переднюю. Калист, принужденный отказаться от обещанного себе удовольствия, сопровождал экипаж верхом; утомленные лошади ехали довольно медленно, так что он мог смотреть на Беатрису. История не сохранила странных разговоров четырех личностей, соединенных игрой странного случая в одном экипаже: невозможно представить себе все те сотни версий, которые ходят по Нанту о рассказах, ответах и словах, которые виконтесса слышала от самой знаменитой Камиль Мопен. Она, конечно, тщательно оставила для себя, даже не поняв хорошенько, ответы мадемуазель де Туш на те нелепые вопросы, которые так часто приходится слышать авторам и которые заставляют их жестоко искупать редкие счастливые минуты.
– Как вы написали ваши книги? – спрашивала виконтесса.
– Так же, как вы делаете ваши женские работы, ваше филе или вышиванье, – отвечала Камиль.
– А где вы взяли эти глубокие замечания, эти чудные картины?
– Там, где вы берете те умные вещи, которые вы говорите, сударыня. Нет ничего легче, как писать, и если бы вы только захотели…
– А! Все дело в желании? Я никак не думала. А какое самое любимое ваше произведение?
– Трудно оказать предпочтение одному из этих пустячков перед другими.
– Вы так избалованы комплиментами, что трудно вам сказать что-нибудь новое.
– Поверьте, сударыня, что я очень ценю вашу манеру говорить их.
Виконтесса; чтобы не казалось, что она пренебрегает маркизой, сказала ей, хитро взглянув на нее:
– Я никогда не забуду этого путешествия между умом и красотой.
– Вы льстите мне, сударыня, – смеясь, отвечала маркиза; – это не в порядке вещей замечать ум подле гения, а я еще ничего почти не сказала.
Шарлотта, чувствовавшая, что мать ее смешна, посмотрела на нее, чтобы остановить ее, но виконтесса продолжала храбро состязаться с насмешливыми парижанками. Молодой человек, медленным шагом ехавший около коляски, мог видеть только двух женщин, сидящих впереди, и взгляд его, полный грустных мыслей, скользил от одной к другой. Беатриса, которая не могла скрыться от его взоров, все время избегала смотреть на него; с уловкой, особенно невыносимой для влюбленных, она закуталась в шаль, скрестила под ней руки и, по-видимому, погрузилась в глубокую задумчивость. В одном местечке, где дорога была тениста, свежа и зелена, точно очаровательная лесная тропинка, где едва слышен был стук коляски и листья касались шляп, Камиль обратила общее внимание на этот уголок, дышавший гармонией и, положив руку на колено Беатрисы, сказала ей, указывая на Калиста:
– Как он хорошо ездит верхом!
– Калист! – воскликнула виконтесса. – Это очаровательный кавалер.
– О! Калист очень мил, – сказала Шарлотта.
– Столько англичан, похожих на него!.. – отвечала небрежно маркиза, не докончив фразы.
– Его мать ирландка, рожденная О’Бриен, – возразила Шарлотта, точно ее лично задели.
Камиль и маркиза въехали в Геранду вместе с виконтессой де Кергаруэт и ее дочерью к великому удивлению озадаченного города; они оставили своих дорожных спутниц у входа в переулок дю Геник, где чуть не собралась толпа. Калист пришпорил лошадь, чтобы предупредить тетку и мать о прибытии гостей, которых ожидали к обеду. По условию обед отсрочили до четырех часов. Шевалье вернулся предложить руку двум дамам; затем он поцеловал руку Камиль, надеясь, что и маркиза даст ему свою, но она упорно сидела, скрестив руки; он бросил на нее влажный взгляд, полный самой горячей мольбы.
– Глупый, – сказала ему Камиль, скользнув по его уху скромным дружеским поцелуем.
– Правда, – мысленно сказал себе Калист, пока коляска поворачивала назад, – я все забываю советы моей матери и, верно, вечно буду их забывать.
Мадемуазель де Пен-Холь, храбро приехавшая в наемном экипаже, виконтесса де Кергаруэт и Шарлотта нашли стол уже накрытым и были приняты дю Гениками очень радушно, если не роскошно. Старая Зефирина указала, какие тонкие вина надо взять в погребе, а Мариотта превзошла себя в своих бретонских кушаньях. Виконтесса, в восторге от того, что совершила путешествие со знаменитой Камиль Мопен, попробовала объяснить им современную литературу и положение, занимаемое в ней Камиль; но с литературой случилось то же, что и с вистом: ни дю Геники, ни подошедшие священник и шевалье дю Хальга ничего в ней не поняли. Аббат Гримон и старый моряк попробовали за десертом ликеры. Как только Мариотта, с помощью Гасселена и горничной виконтессы, убрала со стола, раздалось восторженное требование мушки. Радость царила во всем доме. Все считали Калиста свободным и уже видели его женатым вскоре на маленькой Шарлотте. Калист был молчалив. В первый раз в жизни он сравнивал Кергаруэтов с теми двумя элегантными, умными, обладавшими таким вкусом, дамами, смеявшимися теперь, по всему вероятию, если судить по первому взгляду, которым они обменялись, над обеими провинциалками. Фанни, знавшая тайну Калиста, видела грусть сына, на которого мало действовали кокетничанья Шарлотты и нападки виконтессы. Видно было, что ее дорогой ребенок скучал; тело его было здесь в зале, где прежде и он принял бы участие в шуточках за мушкой, но душа его была в Туше. Как бы его послать к Камиль? спрашивала себя мать, которая, сочувствуя сыну всем сердцем, любила и скучала вместе с ним. Ее нежность придала ей ума. – Ты сгораешь от желания пойти в Туш увидать ее? – спросила Фанни Калиста на ухо.
Он отвечал улыбкой, с краской на лице, и очаровательная мать затрепетала всеми фибрами сердца.
– Сударыня, – сказала она виконтессе, – вам завтра будет очень неудобно в почтовой тележке, особенно же потому, что придется выехать рано утром; не лучше ли вам взять экипаж мадемуазель де Туш? Поди, Калист, – сказала она, посмотрев на сына, – устрой это, но возвращайся к нам поскорее.
– Мне потребуется на это не более десяти минут, – воскликнул Калист, с бешеным порывом целуя мать на крыльце, куда она вышла с ним.
Калист побежал с быстротой оленя и очутился в вестибюле Туша, когда Камиль и Беатриса выходили после обеда из большой залы. Он догадался предложить руку Фелиситэ.
– Вы для нас покинули виконтессу и ее дочку, – сказала она, пожимая его руку, – мы можем оценить принесенную вами жертву.
– Эти Кергаруэты не родственники ли Портендуэрам и старому адмиралу Кергаруэту, вдова которого вышла замуж за Шарля ля де Ванденес? – спросила Камиль маркиза де Рошефильд.
– Мадемуазель Шарлотта внучка адмирала, – отвечала Камиль.
– Она очень милая особа, – сказала Беатриса, усаживаясь в готическое кресло, – она совсем подходит г-ну дю Геник.
– Этого брака никогда не будет, – быстро промолвила Камиль. Ошеломленный холодным и спокойным тоном маркизы, указавшей на маленькую бретонку, как будто она была единственное существо ему под пару, Калист стоял без слов и без мысли.
– А почему, Камиль? – спросила маркиза.
– Милая моя, – продолжала Камиль, видя отчаяние Калиста, – я не советовала Конти жениться и считаю, что была права; вы не великодушны.
Беатриса взглянула на приятельницу с изумлением, смешанным со смутным подозрением. Калист понял самоотвержение Камиль, видя, что на ее лице выступила слабая краска, верный признак сильнейшего внутреннего волнения; он довольно неловко подошел к ней, взял ее руку и поцеловал. Камиль с небрежным видом села за рояль, как женщина, вполне уверенная в своей приятельнице и в поклоннике, которого она приписывала себе, повернувшись к ним спиной и оставив их почти наедине. Она принялась импровизировать вариации на темы, бессознательно приходившие ей на ум, потому что все они были очень меланхоличны. Маркиза делала вид, что слушает, но сама наблюдала за Калистом, который, будучи слишком юн и наивен для роли, предоставленной ему Камиль, в экстазе любовался своим настоящим кумиром. По прошествии часа, в течение которого мадемуазель де Туш испытывала мучение вполне естественной ревности, Беатриса удалилась к себе. Камиль тотчас увела Калиста в свою комнату, так как все женщины обладают инстинктом недоверия.
– Дитя мое, – сказала она ему, – притворяйтесь, что любите меня, или ваше дело проиграно. Вы настоящий ребенок, вы совсем не знаете женщин, а умеете только любить. Любить и заставить полюбить себя – это две совершенно разные вещи. Вам предстоят ужасные терзания, а я хочу вас видеть счастливым. Если вы неосторожно заденете Беатрису, не только гордость, даже упрямство Беатрисы, то она способна умчаться в окрестности Парижа, к Конти. Что будет с вами тогда?
– Я буду любить ее, – отвечал Калист.
– Вы не увидите ее более.
– Увижу, – отвечал он.