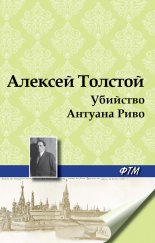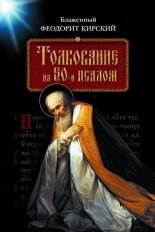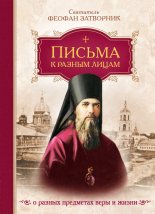Звездный билет (сборник) Аксенов Василий
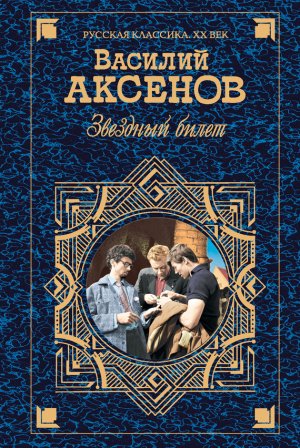
Читать бесплатно другие книги:
«Антуан Риво повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя, пролез к окну и хлопнул ладон...
По замыслу автора повесть «Хлеб» является связующим звеном между романами «Восемнадцатый год» и «Хму...
Небольшое произведение «Толкование на 50-й псалом» блаженного Феодорита, епископа Кирского (373–466)...
Святитель Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров; 1815–1894) – богослов, публицист-проп...
Известное произведение нравственно-аскетического характера преподобного Максима Исповедника (580–662...