Оренбургский платок Санжаровский Анатолий
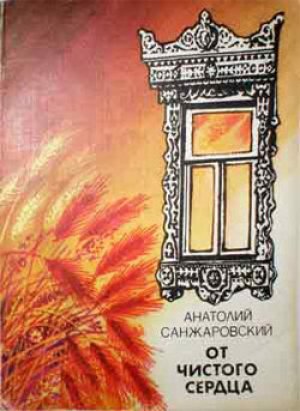
Читать бесплатно другие книги:
«…– Ты что, герой, что ли? – спросил Гриньку белобрысый, когда за профоргом закрылась дверь.Гринька ...
«…Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.– Дорогой сынок Паша, если уж...
«…Студент склонился над бумагой, задумался.Некоторое время профессор наблюдал за ним. Перед его глаз...
Галина Щербакова написала историю тех, кто страстно, как свойственно только русским, рвался в Москву...
Галина Щербакова написала историю тех, кто страстно, как свойственно только русским, рвался в Москву...






