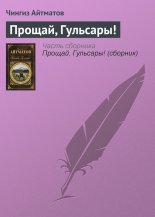Россия, кровью умытая Веселый Артём
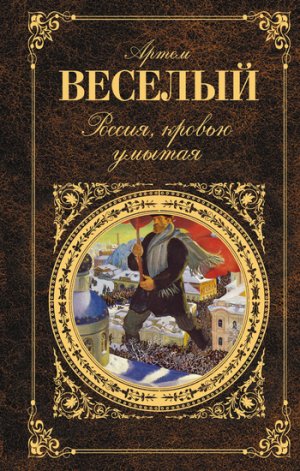
Смертию смерть поправ
В России революция — дрогнула мати
сыра земля, замутился белый свет…
Сотрясаемый ураганом войны, шатался мир, от крови пьян.
По морям-океанам мыкались крейсера и дредноуты, изрыгая гром и огонь. За кораблями крались подводные лодки и минные заградители, густо засеивая водные пустыни зернами смерти.
Аэропланы и цеппелины летели на запад и восток, летели на юг и север. С заоблачных высот рука летчика метала горячие головни в ульи людских скопищ, в костры городов.
По пескам Сирии и Месопотамии, по изрытым траншеями полям Шампани и Вогез ползли танки, сокрушая на своем пути все живое.
От Балтики до Черного моря и от Трапезунда до Багдада не умолкая бухали молоты войны.
Воды Рейна и Марны, Дуная и Немана были мутны от крови воюющих народов.
Бельгия, Сербия и Румыния, Галиция, Буковина и турецкая Армения были объяты пламенем горящих деревень и городов. Дороги… По размокшим от крови и слез дорогам шли и ехали войска, артиллерия, обозы, лазареты, беженцы.
Грозен — в багровых бликах — закатывался тысяча девятьсот шестнадцатый год.
Серп войны пожинал жизни колосья.
Церкви и мечети, кирки и костелы были переполнены плачущими, скорбящими, стенающими, распростертыми ниц.
Катили эшелоны с хлебом, мясом, тухлыми консервами, гнилыми сапогами, пушками, снарядами… И все это фронт пожирал, изнашивал, рвал, расстреливал.
В клещах голода и холода корчились города, к самому небу неслись стоны деревень, но неумолкаючи грохотали военные барабаны и гневно рыкали орудия, заглушая писк гибнущих детей, вопли жен и матерей.
Горе гостило, и беды свивали гнездо в аулах Чечни и под крышей украинской хаты, в казачьей станице и в хибарках рабочих слободок. Плакала крестьянка, шагая за плугом по пашне. Плакала горожанка, уронив голову на скорбный лист, на котором — против дорогого имени — горело страшное слово: «Убит». Рыдала фламандская рыбачка, с тоскою глядючи в море, поглотившее моряка. В таборе беженцев — под телегою — рыдала галичанка над остывающим трупом дитяти. Не утихаючи вихрились вопли у призывных пунктов, казарм и на вокзалах Тулона, Курска, Лейпцига, Будапешта, Неаполя.
Над всем миром развевались знамена горя и, как зарево огромного пожара, стоял стон, полыхали надсадные, рвущие душу крики отчаянья…
И лишь в дворцах раззолоченных — Москвы, Парижа и Вены — сверкала музыка, пламенело пьяное веселье и ликовал разврат.
— Война до победы!
Военная знать и денежные киты дружно сдвигали бокалы с кипящим вином.
— Война до победы!
А там — на полях — огненные метлы, точно мусор, сметали в братские могилы гамбургских грузчиков и шахтеров Донбасса, кочевников Аравии и садоводов с берегов Ганга, докеров из Ливерпуля и венгерских пастухов, пролетариев разных рас, племен и наречий и пахарей, добывающих в поте лица хлеб насущный на земле отцов и дедов своих.
Кресты и могилы, могилы и кресты.
Балканы, Курдистан, Карпатские долины, чрево земли польской, форты Вердена и холмы Мааса были туго набиты солдатским мясом.
В шахтах Рура и Криворожья, в рудниках Сибири и на химических заводах Германии — на самых каторжных работах — работали военнопленные. Военнопленные томились в лагерях за колючей проволокой, кончали расчеты с жизнью под кнутом шуцмана и капрала, мерли в бараках от тоски, голода, тифа.
Лазареты… Приюты скорби, убежища страданий… Искалеченные, обмороженные, контуженные, отравленные газом — с раздробленными костями и смердящими ранами — метались в бреду на лазаретных койках и операционных столах, где кровь была перемешана с гноем, рыданья с проклятиями, стоны с молитвами за сирот и отчаянье с разбитыми в дым надеждами!
Безногие, безрукие, безглазые, глухие и немые, обезумевшие и полумертвые обивали пороги казенных канцелярий и благотворительных учреждений или, выпрашивая милостыню, ползли, ковыляли, катились в колясках по улицам Берлина и Петрограда, Марселя и Константинополя.
Страна была пьяна горем.
Тень смерти кружила над голодными городами и нищими деревнями. У девок стыли нецелованные груди, мутен и неспокоен был бабий сон. Осипшие от плача дети засыпали у пустых материнских грудей.
Война пожирала людей, хлеб, скот.
В степях поредели табуны коней и отары овец.
Сорные травы затягивали оброшенные поля, бураны засыпали поваленные осенними ветрами неубранные хлеба.
По дорогам поползли и поехали, куда глаза глядят, первые беспризорники.
Отказывала промышленность — не хватало топлива, сырья, рабочих рук, — закрывались фабрики и заводы.
Отказывал транспорт — лабазы Сибири и Туркестана были засыпаны зерном, зерно горело, но его не на чем было вывозить; в калмыцких и казахстанских степях под открытым небом были навалены горы заготовленного на армию мяса, на мясо наклевывался червь, собаки устраивали в мясе гнезда и выводили щенят.
Письма с фронта…
«Бесценная моя супруженица!
Низко тебе кланяюсь и всем сродникам кланяюсь. Я пока, слава богу, жив-здрав. Василий Рязанцев убит под турецкой крепостью Бейбурт. Иван Прохорович тяжело ранен, разнесло всю челюсть, вряд ли живым останется. Шмарога убит. Илюшка Костычев убит, сходи на хутор, скажи его матери Феоне. Со свояком Григорием Савельичем вместе ходили в бой, вырвало ему из ляжки фунта два мяса, мы ему завидуем, направили его на леченье в глубокий тыл, а к севу, глядишь, и в станицу заявится.
Один Поликашка у нас пляшет, получил новый крест и нашивки фельдфебеля, говорит: „Еще сто лет воевать буду“. Ну, до первого боя, а то мы его, суку, укоротим.
Гляди, Марфинька, не вольничай там без меня, блюди честь мужнину и содержи себя в аккурате. Письмо твое я читаю каждый час и каждую минуту. Уберу лошадь, приду в землянку, лягу — читаю. Ночью растоскуется сердце, выну письмо из кармана — читаю.
Не слышно ли у вас на Кубани чего-нибудь о мире? Солдаты с горькой тоскою спрашивают друг друга: „За что мы теряем свою кровь, портим здоровье и складываем головы молодецкие в какой-то проклятой Туречине? Все это напрасно…“
К сему подписуюсь
Максим Кужель»
Слезы женщин размывали каракули присылаемых с фронта писем, и не одна трясущаяся рука ставила перед образом свечку, вымаливая спасение родным и гибнущим.
А там — на далеких полях — снегами да вьюгами крылась молодость!
В зной и стужу, по пояс в снегу и по горло в грязи солдаты наступали, солдаты отступали, жили солдаты в земляных логовах, мерзли в окопах под открытым небом. Осколок снаряда и пуля настигали фронтовика в бою, на отдыхе, во время сна, в отхожем месте. Где-то, в стенах штаба, рука генерала строчила: «Командиру Сумского стрелкового полка. Сего 5-го января в двенадцать часов пополуночи приказываю силами всего полка атаковать противника на вверенном вам участке. О результатах операции донести незамедлительно». И вот в глухую полночь по окопам и землянкам перелетывала передаваемая трепетным шепотом команда: «Приготовьсь к атаке». Люди разбирали винтовки, подтягивали отягченные патронташами пояса. Кто торопливо крестился, кто шептал молитву, кто сквозь сцепленные зубы лил яростную матерщину. По узким ходам сообщений полк подтягивался в первую линию окопов и по команде: «С богом, выходи!» — люди лезли на бруствер, ползли по изрытому воронками снежному полю. Встречный ливень свинца и вихрь рвущейся стали, подобно градовой туче, обрушивался на идущий в атаку полк. Под ногами гудела и стонала земля. В призрачном свете осыпающихся голубыми каскадами ракет, с искаженными ужасом лицами, ползли, бежали, падали, валились… Горячая пуля чмокнула в переносицу рыбака Остапа Калайду — и осиротела его белая хатка на берегу моря, под Таганрогом. Упал и захрипел, задергался сормовский слесарь Игнат Лысаченко — хлебнет лиха его жинка с троими малыми ребятами на руках. Юный доброволец Петя Какурин, подброшенный взрывом фугаса вместе с комьями мерзлой земли, упал в ров, как обгорелая спичка, — то-то будет радости старикам в далеком Барнауле, когда весточка о сыне долетит до них. Ткнулся головою в кочку, да так и остался лежать волжский богатырь Юхан — не махать ему больше топором и не распевать песен в лесу. Рядом с Юханом лег командир роты поручик Андриевский, — и он был кому-то дорог, и он в ласке материнской рос. Под ноги сибирского охотника Алексея Седых подкатилась шипящая граната, и весь сноп взрыва угодил ему в живот — взревел, опрокинулся навзничь Алексей Седых, раскинув бессильные руки, что когда-то раздирали медвежью пасть. Простроченные огнем пулемета, повисли в паутине колючей проволоки односельчане Карп Большой да Карп Меньшой — придет весна, синим куром задымится степь, но крепок будет сон пахарей в братской могиле… Спал штабной генерал и не слышал ни стука надломленных страхом сердец, ни стонов, оглашавших поле битвы.
Потоки огня и стали размывали материки армий.
Приказы о мобилизациях расклеивались по заборам; в деревнях — оглашались по церквам и на базарных площадях.
Шли люди тяжелого труда и мелкая чиновная братия, земские врачи и учителя народных школ; шли прапора ускоренных выпусков и недоучившиеся студенты, дети полей и городских окраин; шли ремесленники и мастера, приказчики модных магазинов и головорезы с большой дороги; шли бородачи — отцы семейств, шли юноши — прямо со школьных скамей; шли здоровые, сильные, горластые; калеки возвращались на фронт, жениха война вырывала из объятий невесты, брата разлучала с братом, у матери отнимала сына, у жены — мужа, у детей — отца и кормильца.
- Война, война…
- Под рев и визг гармоней
- кипели сердца
- кипели голоса:
- Береза ты, береза,
- Зеленые прутики,
- Пожалейте нас, девчонки,
- Нынче мы некрутики…
Шальные, растерзанные, орущие — ватагами — шлялись по улицам, ломали плетни и заборы, били стекла, плясали, плакали, горланили пропащие песни…
- Медна мера загремела
- Над моею головой,
- Моя милка заревела
- Пуще матери родной…
— Гуляй, ребята… Последние наши денечки… Гуляй, защитники царя, веры и отечества!
— Царя?.. Отечества?.. Ты мне больше этих слов не говори… Я там был, мед и брагу пил… Слова твои мне все равно, что собаке палка.
— Брательник, тяпнем горюшка?
— Тяпнем, брат.
- Посмотрели брат на брата,
- Покачали головой,
- Запропали, запропали
- Наши головы с тобой…
Петруха стряхнул висевшую на руке жену, разорвал гармонь надвое и, хлестнув половинкой об избяной угол, пустился в присядку.
— Всю Ерманию разроем!
— Уймись, — унимала его не видящая света жена. — Уймись, пузырек скипидарный.
Петруха из оглобель рвался.
— Ты меня не тревожь, я теперь человек казенный. Старуха — лицо подобно гнилому ядру ореха — простирала землистые руки.
— Гришенька, дай обнять в останный разочек.
— Не горюй, бабаня, и на воине не всех убивают.
— Сердцу тошно… Гришенька, внучек ты мой жаланный… Помолись на церковь-то, касатик.
— Сват, прощай!
— Час добрый.
— Война…
— Ох, не чаем и отмаяться.
— Не вино меня качает, меня горюшко берет.
— А ты, Гришутка, на службе пьяным-то не напивайся, начальников слушайся…
— Будя, будя, бабаня.
Последние объятья, последние поцелуи.
И далеко за околицей — в кругу немых полей — понемногу затихали дикие песни, крики, причитания.
И долго еще за деревней, упав на сугроб, вопила старая мать:
— Последнего… Последнего… Ух… Лучше бы я камень родила, он бы дома лежал. Ух, батюшки! Алешенька, цветочек ты мок виноградный! Али без тебя у царя и народу-то бы не хватило?
Ветер хлестал черным подолом юбки, развевал выбившиеся из-под платка седые космы.
— Последнего забрали… Да он и вырасти-то не успел… Последнего! Ух, ух… Сыночки вы мои, головушки победные…
Но не слышали матери родные сыны, и лишь из дальней яруги — на вой ее — воем отзывались волки.
По кубанским и донским шляхам, по большакам и проселкам рязанских и владимирских земель, по речушкам Карелии, по горным тропам Кавказа и Алтая, по глухим таежным дорогам Сибири — кругом, на тысячи верст, в жару и мороз, по грязи и в тучах пыли — шли, ехали, плыли, скакали, пробирались на линии железных дорог, в города, на призывные пункты.
В приемных — страсть и трепет, горы горя и разухабистая удаль да угарный мат.
Раздетых догола призывников о чем-то спрашивали гарнизонные писаря, наскоро щупали и слушали доктора
— Годен. Следующий.
Призывники тащили жеребья.
— Лоб!
И сверхсрочный кадровый унтер-офицер отхватывал призывнику со лба ножницами клок волос.
— Лоб!
На затоптанном полу валялись всех цветов волосы, которые еще вчера чья-то любящая рука гладила и причесывала.
Из приемной вылетали, будто из бани, — красные, распарившиеся, с криво нацепленными на шапки номерами жеребьев. Полными горстями хватали из-под ног и жрали грязный снег.
— Забрили… Тятяша, вынули из меня душу.
— Петрован, слышь, своего Леньку отхлопотал…
— У них, батя, карман толстый, они отхлопочут.
— Что ты будешь делать… На все воля божья… Послужи — не ты первый, не ты и последний.
— Васька, — лезет тетка через народ, — не видал ли моего Васеньку? Поглядеть на него…
— Пьянай, с ног долой… За трактиром в канаве валяется, ха-ха-ха, весь в нефти.
— Ох, горе мое… Сколько раз наказывала — не пей, Васенька… Нет, опять накушался.
— Прощай, Волга! Прощай, лес!
Казарма скорое обучение молебен вокзал.
…У облупленной стенки вокзала стоял потерявший в толпе мать пятилетний хлопец в ладном полушубчике и в отцовой, сползавшей на глаза шапке. Он плакал навзрыд, не переводя дыхания, плакал безутешным плачем и охрипшим, надоевшим голосом тянул:
— Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…
Рявкнул паровоз, и у всех разом оборвались сердца.
Толпа забурлила.
Перезвякнули буфера, и эшелон медленно двинулся.
С новой силой пыхнули бабьи визги.
Крики отчаяния слились в один сплошной вопль, от которого, казалось, земля готова была расколоться.
Хлопец в полушубчике плакал все горше и горше. Левой рукой он взбивал падавшую на глаза отцову шапку, а правую— с зажатым в кулаке, растаявшим сахарным пряником — протягивал к замелькавшим мимо вагонам и, как под ножом, все кричал да кричал:
— Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…
Колеса отстукивали версту за верстой, перегон за перегоном.
- На Ригу, Полоцк
- Киев и Тирасполь
- Тифлис, Эривань катили эшелоны.
Тоску по дому, по воле солдаты заливали одеколоном, политурой и лаком. Плясали на коротких остановках, снимались у привокзальных фотографов, в больших городах — на извозчиках — скакали в бардаки.
В Самаре и Калуге, Вологде и Смоленске, в казачьей станице и в убогой вятской деревеньке не умолкало сонное бормотание полупьяного дьячка:
— Помяни, господи, душу усопших рабов твоих, христолюбивых воинов — Ивана, Семена, Евстафия, Петра, Матвея, Николая, Максима, Евсея, Тараса, Андрея, Дениса, Тимофея, Ивана, Пантелея, Луку, Иосифа, Павла, Корнея, Григория, Алексея, Фому, Василия, Константина, Ермолая, Никиту, Михаила, Наума, Федора, Даниила, Савватея — помяни, господи, живот свой на поле брани положивших и венец мученический воcприявших… Прими, господи, убиенных в селение праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная… Вечная память!
С православным дьячком согласно перекликался лютеранский пастор и католический ксендз, тунгусский шаман и магометанский мулла.
Над миром стлалась погребальная песнь.
Но в напоенной кровью земле зрели зерна гнева и мести.
Глухо волновался Питер, и первые камни уже летели в окна полицейских участков…
Слово рядовому солдату Максиму Кужелю
В России революция,
вся Россия — митинг
Полк наш стоял на турецких фронтах, когда грянула революция и был свергнут царь Николай II.
Фронтовики диву дались.
Сперва было из старых солдат по-настоящему и не поверил никто, а разговор сквозь потянул бу-бу-бу, бу-бу-бу… Ждем-пождем, верно, приказ начальника дивизии — переворот, отречение императора от престола, тут тебе Дума, тут Временное правительство, катай, братцы, благодарственные молебны.
Рады стараться!
Горнист проиграл сбор, полк был выстроен треугольником.
— Право равняйсь!.. Смирно! Шапки до-лой!
Раскурил халдей кадило, рукавами тряхнул:
— Благословен бог наш…
Солдатский волос дыбом подымается, мороз дерет по коже… Стоим, не дышим: уж больно жалостно и вроде слезу у тебя высекает.
— Миром господу помолимся…
Обкидываем себя крестным знамением, валимся на колени, лбами в землю бьем… «Бог ты наш, бог солдатский, нечесаный, немытый… И куда ты, бог, твою непорочную, некачанную, неворочанную, куда ты подевался и бросил нас, как плохой пастух овец своих? Зачем ты спокинул нас на растерзанье злой судьбине, и зачем ты, вшивый солдатский бог, не жалеешь нашей горькой солдатской жизни?»
Потряхивал батюшка кадилом, только космы развевались по ветру…
Повеселевшие солдаты ярко так друг на друга поглядывали и груди выправляли.
Помолились, оправились, ждем, что будет.
Выезжает перед строем дивизионный генерал — борода седая, грудь в крестах и голос навыкате. Привстал он на стременах и телеграммой помахал.
— Братцы, его императорского величества государя императора Николая Александровича у нас больше нет…
Помахал генерал телеграммкой, заплакал.
А солдаты испугались и молчали.
Один фейерверкер Пимоненко не уробел и смело развернул заранее приготовленный красный флаг:
ДОЛОЙ ЦАРЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!
Дух занялся!
Музыка заиграла!
Кто характером послабее, действительно заплакал. Стоим, — не знай на флаг глядеть, не знай генерала слушать…
— Братцы, старый режим окончился… Восхваление чинов отменяется… Превосходительств теперь не будет, благородий не будет… Господин генерал, господин полковник и господин взводный… Дожили до свободы, все равны… Но что бы там ни было, присягу в голове держи… Помни, братцы, Расея наша мать, мы ее дети…
Прорвалось:
— Ура!
— Ура-а!
— Ура-а-а!
Музыка все наши крики задушила.
Платком вытер шею генерал, прокашлялся и ну до солдат.
— Помни устав, люби службу, не забывай веру, отечество… Вы есть серые орлы, честь и слава русского оружия… На ваше беззаветное геройство глядит весь мир…
Опять загремело и пошло перекатом по всему полку:
— Ура!
— Ура-а!
— Ура-ааа… Ааа… Ааааа…
— Пострадали.
— Полили крову…
— Триста лет.
— Хватит!
— Браво!
— Царя к шаху-монаху на постны щи!
Уважил нас старик словом ласковым. Сыстари веков с нижним чином толстой палкой разговаривали, а тут эка выворотил его превосходительство — хоть стой, хоть падай — все равны, слава, серые орлы… Разбередил он сердце, разволновал солдатскую кровь, принялись мы еще шибче «ура» кричать, а которые из молодых офицеров бережненько стащили генерала с коня и давай его качать.
Хватил полковой оркестр.
Отдышался старик, бороду разгладил и с молодцеватой выправкой, легко так, на носках, подошел к строю.
— Поцелуемся, братец!
И на глазах у всех дивизионный генерал расцеловал правофлангового первой роты, рядового нашего солдата Алексея Митрохина.
Полк ахнул.
Мы стояли, как каменные, и только тут поверили по-настоящему, что старый режим кончился и народилась молодая свобода в полной форме.
Шеренги дрогнули, перемешались все в одну кучу… Кто плачет, кто целуется. Казалось, все готовы идти заодно — и солдаты, и офицеры, и писаря, — лишь один сверхсрочный кадровый фельдфебель Фоменко слушал нас, слушал, пыхтел-пыхтел, но все-таки, негодяй, курносая собака, не подчинился, вытаращил глаза и давай орать во всю рожу:
— Неправда!.. Царь у нас есть и бог есть!.. Его императорское величество был и будет всегда, ныне и присно и во веки веков!.. С нами бог и крестная сила! — Он перекрестился, густо сплюнул и, размахивая руками вперед до пряжки и назад до отказу, учебным шагом пошел прочь, барабанная шкура.
Не до него нам было.
До самой ночи говорили ораторы, говорили начальники, говорили и солдаты, путаясь языком в зубах.
Все были как пьяные.
Принял полк присягу с росписью, целовал крест, дал революционную клятву Временному правительству.
Дело, помню, великим постом делалось.
Распустили мы над окопами красный флаг: войне — киты!
Живем месяц, живем другой, проводили святую неделю, троицын день, войны и не было, а доброго не виделось. Ровно медведи, валялись по землянкам, укатывали боками глиняные нары, положенные часы выстаивали на караулах, ходили в дозоры, на всякой расхожей работе хрип гнули и неуемной тоской заливались по дому своему. Как и при старом режиме, вошь точила шкуру, тоска хрулила кости, а рядовые ничего не знали и по-прежнему, помня полевой устав, терпели голод, холод и несли фронтовую службу.
Цейхгауз дивизионный по случаю революции растащили мы дочиста. Мне шпагату четыре мотка досталось, подсумки холщовые: нестоющее барахлишко, а домой, думаю, вернусь — пригодится. Двое полтавских из девятой роты полковой денежный ящик утащили; и как им, дьяволам, нечистая сила помогла, вовек не додуматься: весу тот ящик пудов десять, а то и все пятьдесят.
Комитеты кругом, в комитетах споры-разговоры…
В каждом полку комитет, в каждой роте комитет, в корпусе будто комитет был, да что там — каждый нижний чин, и тот сам себе комитет, только бы глотка гремела. У меня, не в похвальбу будь сказано, смекалка не на палке — фронт научил, и два георгия в грудь не задарма влеплены. Вторая рота в голос порешила:
— Будь ты, Максим Кужель, товарищ неизменный, будь нашим депутатом и мозолистыми руками поддерживай наш солдатский интерес.
То ли от страху, то ли от радости руки у меня дрожат — папироску сворачиваю, — однако виду не подаю и, закурив, отвечаю:
— Служил царю, послужу и псарю… Малоученый я, но не робею и за солдата душу отдам.
— Крой, Кужель.
— В обиду не дадим.
— Верой и правдой чтоб.
Закрутил я ус кренделем и в комитет.
На привольном воздухе комитет, в офицерской палатке. Бывало, до этой палатки четырех шагов не дойдешь — стоп! Вытянешься — того гляди шкура лопнет: «Гав, гав, гав, разрешите войти!» Теперь, шалишь, кому захотелось, и лезь в комитет, как в дом родной. Заходит серый и с офицером за ручку: «Как спать изволили?» — а то еще того чище: развалится серый, будто султан-паша, закурит табачок турецкий и под самый офицеров нос дым этак хладнокровно пускает, а он, его благородие, вроде и не чует.
И смешно и дивно…
Вернусь в роту, расскажу-размажу, гогочут ребята, ровно жеребцы стоялые, и вздыхают свободно.
Дальше — больше, о доме разговоры пошли.
— Скоро ли?
— Да как?
— Пора бы…
— Сиди тут, как проклятый.
— Покинуты, заброшены…
— Защитники, скотинка бессловесная.
Солдатская секция и в комитете нет-нет да и подсунет словцо:
— Как там?
— Ждите, братцы. Газеты пишут, скоро-де немцам алла верды, тогда замиренье выйдет, и мы, как всесветные герои, мирно разъедемся по домам родины своей.
— Три года, ваше благородие, газеты рай сулят, а толку черт ма.
— Помни долг службы.
— Больно долог долг-то, конца ему не видать.
— Много ждали, немного надо подождать.
Тут у нас разговор глубже зарывался.
— Не довольно ли, ваше благородие, буржуазов потешать? Наше горе им в смех да в радость.
— За богом молитва, за родиной служба не пропадет.