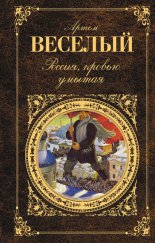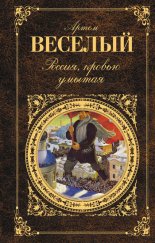На войне как на войне Курочкин Виктор

— Так и живу, Семен Кузьмич, — тихо отозвался Ухорин.
— Ужасно, — прошептал я.
— Да уж, хуже-то и нельзя, наверное.
Ухорин открыл дверцу печурки. Там стояла большая консервная банка. Вадим Артемьевич клещами ухватил ее за край, вытащил из печурки и поставил на пол.
— Разварилась картошка-то, — с сожалением сказал он и предложил: — Попробуйте, Семен Кузьмич. Больше угощать нечем. А картошка-то ничего, очень разваристая, один крахмал.
Хоть мне и не хотелось обижать доброго хозяина, но я все-таки отказался и поспешил проститься, ссылаясь на неотложные дела. Какое облегчение я почувствовал, когда выскочил на улицу. Наше низкое серое небо, деревенская улица с непролазной грязью, грустная осенняя природа показались мне во сто крат уютнее мрачной и затхлой конуры человека.
Философу свойственно разумно мыслить и неразумно поступать. Обывателю — наоборот. Ухорин по своему складу ума ближе к философам. Начнет говорить — не наслушаешься, а возьмется за дело — хоть руки отрубай. Все у него получается так, как у того кузнеца, который, за неимением зубов, раскалывает орехи кувалдой. Трудно определить, что — то ли дворянское происхождение, то ли воспитание, то ли повинен тут характер, но Вадим Артемьевич, кроме как к умным разговорам, больше ни к чему не приспособлен.
Вадиму Артемьевичу шестьдесят лет, а за плечами у него никакого ремесла. Пробовал пахать — бросил, пытался служить — не получилось. Уехал в город, поступил на завод, а через три года опять вернулся в деревню, оставив в городе и жену, и детей.
Вадим Артемьевич коммунист. В партию он вступил еще до революции. И вот коммунист с подпольным стажем стал в районе всеобщим посмешищем. К нему навеки приклеили кличку «лакированный комиссар». Иногда его еще величают «штампованным комиссаром».
Сразу же после революции, в период военного коммунизма, Ухорина поставили уездным комиссаром по продовольствию. Мне рассказывали, что тогда Вадим Артемьевич ходил в лакированных сапогах с кисточками, в хромовом пальто, которое все было перепоясано лакированными ремнями. С одного бока у него болталась шашка в лакированных ножнах, с другого лакированная кобура револьвера, козырек его фуражки тоже был лакированный, и разъезжал он в легкой коляске, покрытой лаком. Черные откормленные кони блестели, как отлакированные. Вадим Артемьевич комиссарил недолго. Злые языки болтают, что его вышибли из комиссаров за воровство и что у него осталось какое-то удостоверение, сплошь уставленное штампами и печатями, которое он сам себе состряпал. Я не верю, чтобы Ухорин проворовался. Он для таких дел не годится. Скорее всего, его подчиненные, пользуясь слабохарактерностью и безмерной доверчивостью Вадима Артемьевича, подвели своего начальника гнусным образом. Про удостоверение с печатями он мне сам рассказал, что это глупая и наглая шутка его секретаря. Зная свою рассеянность, он печать доверил своему секретарю, и тот распоряжался печатью, как кухарка толкушкой. Когда Ухорину понадобилось удостоверение личности, то секретарь его написал и для смеху все заляпал печатями.
Про Ухорина ходят самые нелепые были и небылицы. Вадим Артемьевич и не пытается их опровергать. С невозмутимым спокойствием философа он рассуждает: «О человеке можно ничего не знать, зато о нем можно все сказать».
Заседателем он стал, мне кажется, или по ошибке, а может быть, по злому умыслу. Кто-нибудь его фамилию ради потехи подсказал, а ее взяли и занесли в список кандидатов в заседатели, а потом на выборах, не глядя, проголосовали за всех скопом, в том числе и за Вадима Артемьевича.
Кому не известно, что одни и те же поступки совершаются по разным мотивам. Так, Авенира Агеевича Темкина избрали вершить правосудие потому, что уж очень он сам того хотел; бухгалтера конторы «Заготсырье» Ивана Михайловича Иришина — потому, что он человек честный, и еще инвалид. А инвалид самый удобный для этого дела человек, бегать ему там не надо: сиди да суди потихоньку. Лида Афонина попала в судьи по разнарядке. Пришел в райздрав приказ выдвинуть кандидатуру в заседатели. А кого выдвигать, как не Афонину? Девка она молодая, комсомолка и никакой общественной нагрузки не имеет. Заведующий отделом народного образования Валентин Сергеевич Пех стал заседателем по безысходности: больше выбирать было некого. Не пошлешь же в суд учителя, который весь день занят уроками, а ночь — тетрадками. Плотник Толстопятов Кирилл попал в заседатели потому, что у него абсолютно чистая биография, совершенно безграмотная колхозница Анисья Пузикова — как передовая доярка. А вот Вадим Артемьевич стал заседателем ради смеха. Впрочем, эта шутка оказала мне добрую услугу. Она дала мне превосходного заседателя. Жизненные наблюдения, незаурядный ум Ухорина, не имевшие до сего времени сбыта, как нельзя лучше пригодились для суда. В самых затруднительных казуистических делах он умел найти верный выход, а порой подсказывал поистине мудрое решение.
Два охотника никак не могли поделить волчью шкуру. Голодный волк, бродя вокруг деревушки Козий Рог, напоролся на капкан. Железные челюсти капкана схватили его за лапу. Но зверь был матерый и настолько сильный, что уволок капкан с собой. Хозяин капкана бродил по следу двое суток и, совершенно отчаявшись, бросил поиски. А через неделю узнал, что километров за пятнадцать от его деревни был убит волк с капканом на лапе. Он разыскал охотника, который убил волка, и потребовал свой капкан. Тот отдал ему без всяких возражений. Делу бы на этом и кончиться. Но хозяина капкана замучила зависть и обида. Государство за убитого волка выплачивало четыреста рублей премии и девяносто рублей за шкуру. Все это привело в конце концов к судебной тяжбе. Капканщик требовал признания за ним абсолютных прав на зверя, утверждая, что все равно волк с капканом далеко бы не ушел и в конце концов бы сдох. Его противник иска не признавал, доказывая, что если бы он не пристрелил волка, тот бы великолепно еще лет десять душил овец и резал коров, так как капкан уже едва держался на лапе зверя. Доводы с обеих сторон звучали убедительно, однако проверить их достоверность не представлялось возможным. Приходилось обоим верить на слово. Но кому из них верить? Что принять за истину и как решить это одновременно столь простое и сложное дело?
Я обратился к Вадиму Артемьевичу, он, улыбаясь, пожал плечами, как бы говоря: «Ну вот, нашел над чем задумываться!» — но ничего не сказал. Другой мой заседатель уверенно заявил, что в иске надо отказать, так как волк принадлежал тому, кто убил его из ружья. Я с ним согласился и быстро написал решение.
Вадим Артемьевич несколько раз внимательно перечитал его, старательно очистил перо, нехотя обмакнул его в чернила и, вздохнув, вывел жирную подпись.
— Что это вы так тяжело вздыхаете? — спросил я.
— Нелегко подписываться под несправедливостью, — ответил он.
Это меня удивило.
— Зачем же ты подписался, если сомневаешься?
Ухорин усмехнулся.
— Ведь ты же, Семен Кузьмич, тоже сомневаешься. И тоже подписался под ним, и не только подписался, но и сам сочинил это решение.
Меня взорвало.
— Что ты этим хочешь сказать? — резко спросил я.
— Сомневаешься — не торопись делать выводы, — спокойно ответил Вадим Артемьевич и, помолчав, добавил: — Мне кажется решение неверным. По-вашему выходит, что волка убить так же легко, как курицу. Да если бы у него на лапе не было капкана, разве бы его убили?! Волк — хитрый и осторожный зверь, недаром на него облавой ходят.
— Если бы волка не убили из ружья, он все равно бы ушел, отгрыз лапу и ушел, — веско заявил заседатель Ефимов.
— Конечно, ушел бы, — охотно согласился с ним Ухорин.
— Чего же ты хочешь, наконец? — спросил я.
Вадим Артемьевич сказал, что он ничего не хочет и ему совершенно наплевать на этого волка, но справедливость требует, чтобы шкуру и премию поделить между охотниками поровну.
Мы еще немного поспорили с ним, но уже для вида, из самолюбия. Неопровержимая логика Ухорина была очевидна.
Когда я заново переписал решение и огласил его в зале судебных заседаний, охотники дружно сказали: «Спасибо, гражданин судья». Другого решения они и не ожидали. В таких делах они разбираются лучше всех судей, вместе взятых.
В другом гражданском деле Ухорин помог мне не только избежать грубой юридической ошибки, но и раскрыть гнусное преступление.
В одном селе мальчуган, роясь в яме, нашел крохотное золотое колечко. Это колечко у него мгновенно отобрала старшая сестра. Односельчанка Букреева заявила, что это ее обручальное кольцо, и вырвала его у бедной девушки чуть ли не с пальцем. На этом она не успокоилась и подала в суд заявление с требованием взыскать с семьи этой девушки все вещи, которые якобы выкопал их дед во время войны из ямы. Иск был предъявлен на пять тысяч рублей, куда входили не только колечко, но и золотые серьги, костюм, два пальто, разное белье и даже швейная машина. В свидетели она пригласила свою соседку, которая видела, как дед разрывал ночью яму.
На суде было установлено, что действительно у Букреевой были похищены из ямы вещи, однако ни у кого из односельчан не падало подозрения на эту семью. Свидетельница Букреевой клялась всеми святыми, что она сама видела, как дед темной ночью разрывал яму, а когда попыталась его пристыдить, он ей пригрозил, что если она пикнет, то он сразу же ее укокошит. Допросить деда, выражаясь языком юристов, не представлялось возможным, так как он второй год отдыхал на кладбище. Сын старика-преступника клялся, что его отец не мог пойти на такое страшное дело, так как был слишком набожен. Свидетельница утверждала обратное и даже перечислила по пальцам все вещи, взятые из ямы. Нервозность, с которой она клялась и божилась, насторожила Вадима Артемьевича. Он посоветовал мне дело на время отложить и послать к свидетельнице милиционера с обыском, потому что, как он выразился, «эта баба слишком подозрительно икру мечет». Обыск дал самый неожиданный результат: были найдены золотые серьги и детское пикейное одеяло. «Баба» созналась во всем: и в том, что сама вырыла эти вещи, и что почти все их продала, и что все время ждала случая, чтобы свалить свое преступление на кого-нибудь, так как, по ее словам, этот грех не давал ей покоя и она пять лет подряд каждый день ждала ареста, а по ночам ее мучили кошмары.
Ее судили за хищение, и за дачу ложных показаний, и за клевету на безвинного человека. Судила ее выездная сессия показательно, в родном селе, и приговорила к пяти годам лишения свободы. Народ приветствовал это наказание аплодисментами.
Справедливости ради, надо отметить и то, что половина заседателей не любит нашу работу и в суд их приходится вытаскивать чуть ли не с милиционером. Вадим Артемьевич всегда готов — в любое время слушать любое дело. Если я его не вызываю неделю, он идет в сельсовет и напоминает мне по телефону:
— Семен Кузьмич, вы меня не забыли?
— Никак нет, Вадим Артемьевич. Только что думал о тебе.
— Значит, мне завтра приходить?
— Обязательно.
Я очень хорошо понимаю столь нетерпеливое рвение Ухорина к правосудию. Вероятно, он сидит без куска хлеба. В суде же он за день работы получит десять рублей, купит в магазине четыре буханки хлеба и неделю как-нибудь протянет.
Вадим Артемьевич одинок и беден, как крот. В колхозе Ухорин числится общественным казначеем. Я очень смутно представляю, что это за должность, за которую он получает тридцать рублей в месяц. Поэтому на работу в суде он смотрит как на свой основной заработок и дорожит ею. Жена и дети ему не помогают. Правда, раза два в год, по большим праздникам: 7 Ноября и 1 Мая, он навещает их и гостит в городе дня по три. Возвращается он домой с какой-нибудь обновкой: это или сатиновая рубашка с галстучком, или дешевые ботинки на резиновом ходу, или просто пара нижнего белья. По его рассказам, были и дорогие подарки. Как раз перед войной жена ему купила совершенно новое бобриковое пальто. Поэтому в районе никто с таким нетерпением не ждет революционных праздников, как бедный Вадим Артемьевич.
Чтоб как-то облегчить существование Ухорина, да и ради пользы дела, я добился утверждения Вадима Артемьевича моим четвертым заместителем.
Заместитель — тот же заседатель, но в мое отсутствие он пользуется всеми правами народного судьи, включая зарплату, и не несет никакой ответственности. Во всем и всегда виноват судья, даже если никакой нет его вины. Если во время моей болезни заместитель вынес явно противозаконное решение, берут за воротник судью… И весь год на совещаниях и в приказах кричат и подчеркивают, что судья Бузыкин пустил на самотек учебу и воспитательную работу среди заседателей. Может быть, они и правы. Только мои заседатели и заместители ужасно не любят учиться.
У меня еще три заместителя: директор промкомбината Родион Алексеев, завсберкассой Авенир Темкин и бухгалтер конторы «Заготживсырье» Иван Михайлович Иришин. Люди они разные, по-своему любопытны, но ни один из них не пригоден для этой работы. Райисполком, утверждая их заместителями, вероятно, руководствовался их общественным положением и совершенно не считался с их способностями и желаниями.
Иван Михайлович Иришин — сама неподкупная совесть и честность. Но если он сам хромает на одну ногу, то его грамотность — на обе. Он пишет: «Евонная корова слизала языком с телеграфного столба известку от евтого корова околела потому что евта известка была ядовитая». Порой у него встречаются такие словечки, до смысла которых не докопается ни один лингвист, а знаков препинания он вообще не признает. Но и это полбеды. Иван Михайлович бесконечно добр, жалостлив и всегда с большой неохотой садится за судебный стол. И все равно он лучше других.
Родион Алексеев вообще презирает юристов и считает для себя незаслуженным оскорблением замещать какого-то судью-молокососа. Зато совершенно другого мнения на этот счет Авенир Агеевич Темкин. Его хлебом не корми, только дай посудить. Он всегда с радостью готов меня замещать и ждет не дождется, чтоб я куда-нибудь уехал: в отпуск, на учебу, неважно куда, лишь бы уехал или просто заболел. В Узоре многие желают мне смерти. Но если б я вдруг внезапно умер, то никто так не радовался бы, как Авенир Агеевич.
Надеясь со временем стать моим преемником, Темкин думает поступить на заочное отделение юридического института и прилежно зубрит Уголовный кодекс. Когда я ему заметил, что при поступлении в институт будут проверять его знания в объеме десятилетки, а заучивать наизусть статьи — тупое и ненужное занятие, он ухмыльнулся и сказал:
— Это очень я люблю.
Я не мог удержаться от смеха. Вспомнился вечер 8 Марта, который мы проводили с Темкиным в компании учителей. Авенир Агеевич сидел неподалеку от меня с пышнотелой директрисой школы, гладил под столом ее сдобное колено и громко шептал на ухо:
— Это очень я люблю.
С самого начала отношение у меня к Темкину настороженное, а доверие очень посредственное. А после того, как он, замещая меня, вынес явно необоснованный оправдательный приговор, я стал сомневаться в его честности.
Я понимал, что мои заместители — слишком заметная и неудобная прореха на суде. И надо было ее как-то штопать. Моей мечтой было иметь заместителей неподкупных, честных и умных. Хотя честность и ум — понятия слишком растяжимые и спорные, а в вопросах правосудия — особенно. Самый честный и умный судья способен вынести более бесчеловечный приговор, нежели судья глупый и недобросовестный.
Решил я вывести из состава заместителей Алексеева и Темкина, а вместо них ввести Юдина и Ухорина. Стал ходатайствовать перед райисполкомом.
— Да ты рехнулся, что ли, Бузыкин… Пьяницу Юлина в судьи?! — возмутился Шилов.
Я попытался оправдаться известной пословицей: «Пьян да умен, два угодия в нем». Но ничего не вышло. Кандидатура Юлина была отвергнута немедленно и безоговорочно. Что касается Ухорина, председатель райисполкома недоуменно пожал плечами и сказал, что я разбираюсь в людях, как его боров в ананасах. Я стал горячо доказывать, что это очень умный и толковый заседатель. Сергей Яковлевич перебил меня:
— Да знаем мы, знаем. У него есть ум, но у него нет воли. А ум без воли — ничто. Был у нас он председателем сельсовета, и секретарем парторганизации, и даже библиотекарем. Ничего не вышло. Он способен только пространно размышлять и советовать. Ну какой же это начальник, который только способен советовать?
Но я все-таки настоял на своем. И как же мне после пришлось пожалеть, что не прислушался к разумным словам Сергея Яковлевича!
Меня вызвали на совещание в область. Я там пробыл три дня. В это время судил Вадим Артемьевич. Когда я вернулся и стал проверять работу своего желанного заместителя, то меня прошиб холодный пот. По всем делам были вынесены противозаконные и абсурдные решения.
— Как же это так получилось-то? — спросил я Вадима Артемьевича.
— Заседатели изнасиловали, — пожаловался он. — Такие строптивые попались заседатели, что не приведи бог. Я им толкую, что надо решать так, а они все нарочно наоборот. А что мне оставалось делать? Как ни вертись, двое против одного. Сам вижу, что решение противозаконное, глупое, а подписываюсь. Плачу и подписываюсь. — Помолчав, с грустью добавил: — Очень я не авторитетный человек. Ты уж, Семен Кузьмич, больше не оставляй меня одного.
Мне ничего не оставалось, как просить прокурора все эти дела опротестовать на предмет их отмены. Что он и сделал с превеликим удовольствием.
Лето 1950 года
Для большинства закон и суд — нечто абстрактное, запретное и грубое. Для меня — это неуютная большая комната, называемая залом судебных заседаний, с четырьмя рядами широких скамеек, деревянная клетка для подсудимого, длинный стол под зеленым сукном, пухлые или тощие дела в синих и серых папках, кодексы, справочники, инструкции, циркуляры и бесчисленное множество бумаг, официальных и неофициальных, слезливых и кляузных, нужных и ненужных.
Они отнимают все мое время, плюют в душу, сушат мозг, отравляют кровь и доводят до того, что сам перестаешь себя узнавать. Не прошло и года, а какая-то частица моей души, причем лучшая частица, пропала; или она затерялась среди бумажного хлама, или секретарь суда подшил ее в какую-нибудь скучную папку и положил в архивный шкаф на съедение мышам. Где же вы, светлые мечты о высоком долге и ответственности? Я давал клятву любить тебя, человек, уважать и со священной осторожностью посягать на твою свободу. Еще на студенческой скамье я, как идолу, поклонялся этой пресловутой, затасканной юристами формуле: «Лучше оправдать сто виновных, чем осудить одного невиновного». Как я мучился и переживал, когда в первый раз лишил человека самого дорогого — свободы. А что, если он не виноват? От этой мысли я вскакивал в глухую полночь и вытирал со лба холодный пот.
Не прошло и года, я стал автоматом. Осудив человека на пятнадцать лет, я моментально о нем забываю, с аппетитом ем, с удовольствием пью и засыпаю крепким сном, с сознанием, что сегодня я много и плодотворно потрудился на пользу Отечества.
Теперь я автомат, холодный, разумный и расчетливый. Человек вместо высшего, таинственного, хрупкого существа стал для меня субъектом преступления, а все вокруг: вещи, предметы, вода, воздух, земля, мысли, любовь, все материальное и неосязаемое, весь мир — объект преступления. Почему же это так получилось? Неужели я утратил свое «я»? От этой мысли мне становится жутко.
Позавчера я организовал выездную сессию суда в Макарьевский сельсовет. Вы, наверное, думаете, что для этого мне специально по заказу подали машину и я погрузился в нее с заседателями, прокурором, адвокатом, экспертами и прочими участниками процесса. Ничего подобного. Я засунул в портфель три тощие синие папки и сказал своему секретарю — Тонечке Пищулиной: «Идем». И мы пошли.
По большаку до Макарьева километров пятнадцать. Мы же двинулись напрямик тропинкой. Утро было ясное, тихое, прохладное, с обильной росой. Солнце еще не жгло, оно тепло и приветливо улыбалось нам с бездонно прозрачного неба. Река, отшумев, убралась в узкое каменистое русло и спокойно текла, мягко покачивая прибрежный камыш, звонко клокотала на перекатах. Над густыми зарослями березняка, свистя и хоркая, тянули вальдшнепы; с противным пронзительным криком, как настеганный, носился чибис.
Но уже чувствовалось, что весна догуливает свои последние деньки, а на смену ей идет лето: душное, пыльное, с роями мух и назойливыми слепнями, с полуденной сонной истомой, соленым потом, с горячим дыханием ветров, бурными грозовыми дождями и изнурительными полевыми работами.
Влажная упругая тропинка вела вдоль берега, крутого и обрывистого. Над водой клубился пар, словно ее подогревали. От берегов стремительно шмыгали ельцы, узкие и темные, как тени, на быстринах плескались язи, а в густых зарослях осоки, как камень, бултыхнулся лещ.
Тропинка свернула в сторону, и мы, перейдя по бревнам крошечное болотце с протухшей ржавой водицей, вышли на широкий низинный луг с редкими приземистыми кустами ольшаника. Свежий, сочный, изумрудный, он цвел вовсю: блестел и переливался миллиардами радужных искр и выдыхал легко и обильно ни с чем не сравнимый аромат.
И я задрожал, как от озноба. Моя иссохшая канцелярская душа встрепенулась, и я чуть не задохнулся от радости. Свершилось чудо! Оно — это тонкое, едва уловимое «я» внезапно вернулось, и мне захотелось кричать и плакать. И я бы закричал и навзрыд заплакал от счастья, если бы не было рядом секретаря, упал бы в траву, жадно бы обхватил ее руками и исступленно целовал бы эту благодатную сырую землю, дающую нам все: и жизнь, и силу, и счастье, и любовь. В одну минуту я забыл все прежнее. И мне стало легче и привольнее, чем птице. Я мог свободно дышать, чувствовать и наслаждаться. Теперь я обладал всем! Все, что окружало меня, было мое: солнце — только для меня, и этот веселый пестрый луг существовал, чтобы услаждать и радовать мое «я».
Удивительно тонкая, капризная и чудесная штукенция собственное «я». И как несчастны и бедны люди, которые ради солидных постов, высоких окладов, ради всей этой внешней шелухи подавили в себе свое «я», то, что способно чувствовать, понимать и находить смысл и радость жизни в самом простом и обычном: и в этом заболоченном лугу, и в кривоствольной чахлой березке, и в стройной гордой сосне, и в полевом лиловом колокольчике, и в этой светлой игривой речонке с нелепым названием Разливайка.
Вернувшееся «я» не покидало меня весь день. Наоборот, оно росло, крепло, и, наконец, я полностью стал самим собой — человеком, умеющим чувствовать, страдать, а также уважать чувства и страдания других.
Когда мы пришли в Макарьево, около сельсовета стояла толпа празднично одетых колхозников. Я подумал, что, видимо, как раз попал на религиозный праздник. Но, оказывается, все они пришли послушать, как будут судить двух вдов — Машку и Наташку, подравшихся из-за жениха Ваньки Веселова.
Помещение для суда было заранее подготовлено, заседатели давно уже дожидались меня, и я, не мешкая, в каком-то приподнятом веселом настроении открыл заседание и объявил, что слушается дело по обвинению Марии Петровны Петровой в нанесении побоев на почве ревности гражданке Комаровой Наталье Ильиничне. В избе, словно ветер, зашелестел смех, и несколько рук вытолкнули к столу Машку с Наташкой. Молодые складные вдовушки, одна в ярко-красной кофте, другая в розовой, как вечерняя заря, в одинаковых черных широких юбках и аккуратных хромовых сапожках, они походили друг на друга, как танцовщицы из русского хора. Только одна была слишком полна и пухла, другая же не толста и не тонка, а так… в меру фигуриста. Они стояли передо мной, стыдливо прикрывая лица платками. У пышной видны были только яркие жадные губы, у фигуристой — два черных настороженных глаза.
— Мария Петрова кто будет? — спросил я.
— Вон та, левая, — подсказал мне заседатель.
— Займите место на скамье подсудимых, Петрова, — нарочито строго, чтобы сдержать улыбку, приказал я.
Подсудимой оказалась толстушка. Она села на узенькую скамейку, съежилась, подобрала под себя ноги.
— Потерпевшая, Наталья Комарова, какие у вас будут ходатайства перед судом?
Фигуристая в розовой кофте женщина отрицательно покачала головой и села рядом с Петровой.
Я хотел сказать, что она только потерпевшая и на скамье подсудимых ей не место, но, подумав, решил: пусть сидит рядом.
— Свидетель, Иван Веселов, здесь?
Мой вопрос был встречен дружным хохотом. Подсудимая вскочила, взмахнула платком и, блестя полными слез глазами, закричала:
— Нетути больше Ваньки-то, гражданин судья. Ванька-то наш на машину, и а-ля ту-ту, поехали.
— Как «ту-ту»? Куда? Зачем? — растерянно пробормотал я, ошарашенный решительным напором подсудимой.
— А кто его знает куды. Известное дело, от суда, от сраму сбежал.
И тут вскочила потерпевшая. Все у нее тряслось: и кофта, и руки, и губы, и голос.
— Врет она, гражданин судья. От нее сбежал, замучила парня.
Подсудимая подбоченилась, топнула ногой.
— Как бы не так, от меня. Да спроси у кого хошь, кто ж от такой сласти побежит.
Потерпевшая Наташка Комарова оглядела ее с ног до головы и презрительно плюнула:
— Квашня.
— Головешка черномазая.
— Свинья кособрюхая.
— Шкилет сухоребрый.
Они принялись поносить и честить друг друга с изумительной изобретательностью русского человека на словечки и прозвища. Потом они мгновенно изготовились к бою и, конечно, вцепились бы друг другу в волосы, но я пригрозил им штрафом за недостойное поведение в суде. Они притихли, закрылись платками и уселись на скамейку. И так каждый раз: когда их темперамент начинал хлестать через край, я напоминал им о штрафе, и это действовало как ушат ледяной воды.
— Гражданка Петрова, — обратился я к подсудимой, — вы признаете себя виновной в том, что нанесли телесные побои своей соседке?
Подсудимая изумленно всплеснула руками и нараспев протянула:
— Царица небесная, ну и бессовестная. Она же первой начала таскаться. Поглядь-ка, товарищ судья, как она, Наташка, двинула холодным сапогом под это место. До сих пор синё, — она схватилась за юбку, чтобы показать, где у нее синё, но я поспешил остановить, сказав, что суд ей и так на слово верит. Моя снисходительность к подсудимой больно задела потерпевшую. Она опять вся затряслась и, глотая слезы, бессвязно залепетала с упорным желанием выдавить у суда жалость:
— Не я зачала таскаться. Она сама первая, гражданин судья. Я и не думала ее ударить. А если так и получилось, то не нарочно, а случайно. Разве я не знаю, что за такие дела можно срок получить.
Подсудимая злорадно заулыбалась:
— Ха, случайно! Знаем мы, как за случайно бьют отчаянно. Вот они, доказательства: тут, — она похлопала по бедру, — да еще и тути, — и, порывшись в лифчике, вытащила крохотную бумажку и помахала ею перед носом соперницы. — Вот она, справочка от доктора. Мы тоже не пальцем деланы и законы знаем. Так что вместе чудили, вместе и клопов давить будем, моя милая Наташенька.
Наташенька, сверкая глазами, злобно процедила сквозь зубы:
— Суд еще посмотрит, чей козырь старше, — и вытащила из-за пазухи горсть волос и изорванную в клочья кофту. — А еще она, гражданин судья, повалила меня на землю, топтала ногами, царапалась и все старалась задушить. Поглядите, как она своими граблями разуделала мне шею. А груди так болят, что и дохнуть нет никакой возможности. Так вот, дорогая Машенька, суд знает, кому больше давать.
По всему выходило, выражаясь словами Наташки, «давать» надо было обеим. Хоть и так было ясно, но вопрос, из-за чего произошла драка, как зуд, защекотал мне язык. И я задал его. Да простят потерпевшая с подсудимой мне молодость и шаловливое любопытство.
Мария Петрова нехотя поднялась и, не поднимая глаз, тихо ответила:
— Из-за Ваньки Веселова.
— А кто он?
— Шофер здешнего леспромхоза.
— Что у вас с ним было?
— Любовь. Он обещал жениться на мне.
— Вам он тоже обещал? — спросил я потерпевшую.
Она кивнула головой и всхлипнула:
— Обещал, и даже раньше, чем Машке. А потом она его запутала. Парень-то он уж больно слабохарактерный, гражданин судья.
— Ничего себе слабохарактерный. А прижмет так, что пуговицы с лифчика как горох посыплются, — возразила подсудимая, и сельсовет задрожал от хохота.
Я сделал от имени суда строгое предупреждение подсудимой и опять обратился к потерпевшей:
— И вы знали, что он одновременно и к ней и к вам ходит?
Она удивленно посмотрела на меня и улыбнулась:
— Так об этом все знали, гражданин судья.
— И вы все-таки продолжали любить его и надеяться?
— Что делать, гражданин судья. Я ведь человек-то живой, — и тяжело вздохнула.
В ее откровенно простодушном признании было столько еще нерасплесканной страсти, искренней, неподдельной любви и безысходной тоски по своему маленькому счастью, что я вздрогнул и невольно взглянул на подсудимую. Ее лицо выражало то же самое. Мне стыдно стало и за себя, и за свои неумные пошлые вопросы, да и за весь этот суд, который ничего не мог принести, кроме горечи, обиды и незаслуженного оскорбления.
Суд предложил им покончить дело миром. Они упали друг другу на грудь, громко расплакались и, обнявшись, вышли на улицу.
— Неразлучные подруги были, — после длительного молчания сказал кто-то.
— Помирятся. Теперь им делить нечего, — добавил другой.
— А бабоньки-то они славные: добрые, старательные. А вот, видишь, как их судьба-то обошла, — сказал мой заседатель и щелкнул языком, — судьба-злодейка.
А бородатый старик, сидевший в углу около печки, глухим басом авторитетно изрек:
— Во всем виновата эта война распроклятущая. У меня тоже сноха с тремя ребятенками мается.
По второму делу мне тоже удалось заключить счастливый мир. Это дело было одновременно и бракоразводное и алиментное.
Гражданка села Озерки Зинаида Хотелова подала в суд заявление о расторжении брака с мужем, гражданином Хотеловым Степаном Григорьевичем, и о взыскании алиментов на содержание малолетнего сына Тимура Степановича. Когда я зачитал длинное и грузное заявление иска, к столу протиснулись стороны: Он, Она и их неопровержимое доказательство — Оно. Я взглянул и ахнул от изумления. Ответчику, то есть мужу, Степану Григорьевичу, еще было бы незазорно и по яблоки лазать, а истице — прыгать через веревочку. Так они молодо выглядели. Между ними стоял, держась за батькин карман, краснощекий карапуз в немыслимом по размерам колпаке, а на шее у него висела, как огромная медаль, желтая клеенчатая слюнявка.
Несмотря на свою молодость, супруги были очень серьезны. Видимо, они сознавали важность, ответственность своей затеи.
— Сколько же вам лет? — спросил я.
Степан Григорьевич не торопился с ответом. Придав лицу деловое и озабоченное выражение, то есть наморщив лоб, опустив углы губ и нарочно солидно растягивая слова, ответил:
— Мне, товарищ судья, скоро будет девятнадцать. Зинаиде Олеговне, жене моей, недавно исполнилось совершеннолетие. А сыну нашему Тимуру Степановичу — два года, — он нагнулся, вытер ладонью Тимуру Степановичу нос.
— И когда же вы успели обзавестись наследством? — удивленно спросил я.
— То есть вы, гражданин судья, имеете в виду нашего Тимура? — не теряя степенства, переспросил Степан Григорьевич и пояснил: — Мы только как месяц назад в сельсовете сочетались законным браком. А до этого существовали в незаконном браке.
— Ну вот, не успели расписаться, а уже разводитесь. Куда же это годится, Степан Григорьевич? Ведь это же очень нехорошо, — заметил я.
Степан Григорьевич покачал головой и, как старичок, сокрушенно вздохнул:
— Она очень молода, гражданин судья. Я так думаю, и глупа поэтому.
Истица фыркнула в нос и, рассекая ладонью воздух, категорически заявила:
— Пусть я буду самая распоследняя дура. А все равно с тобой жить не буду.
— Это почему же? — спросил я.
— Дерется он, как самый последний мужик. А еще десятилетку закончил.
Степан Григорьевич свою роль разумного хозяина и строгого мужа вел с уморительной солидностью. Зинаида Олеговна изображала глубоко оскорбленную в своих лучших чувствах супругу. А суд походил на спектакль, в котором дети с комической серьезностью разыгрывали для взрослых семейную драму.
— Я, гражданин судья, не дрался. Потому что драться с женщинами — не мужское занятие. А учил я ее уму-разуму, — степенно рассуждал ответчик.
Когда я спросил у него, в чем выражалось его учение, он пояснил так:
— Пришел я это, товарищ судья, со службы домой. А служу я в лесничестве, при бухгалтерии состою. Пришел я домой и вижу, простите за грубое слово, полный хаос, дверь раскрыта настежь, изба полна кур, собака позволяет себе спать на нашей новой, с пружинным матрасом кровати. Тимур сидит под столом, плачет и весь запачкан, извиняюсь за некультурное выражение, собственным поносом. Перво-наперво я ликвидировал этот хаос, а потом пошел разыскивать жену. А вы знаете, где я ее нашел? На самом краю деревни у ее незамужней подружки Лидки Хреновой. А чем они занимались?.. Срам сказать. Отплясывали под патефон танцы с фокстротами. Дело ли это, товарищ судья, для замужней женщины? Я так думаю, что не дело. И это было не в первый, а в третий раз. В первый раз я ее просто предупредил, потом предупредил крепко, а в третий раз взял за волосы и провел по улице до самого дома. Она выла, как зарезанная, и, конечно, нарочно притворялась, потому что, между прочим, я ее не таскал, а только слегка держал за волосы. И вот видите, вместо того, чтобы извлечь из моего урока для себя пользу, она затеяла этот скандальный суд. Так что, товарищи судьи, я категорически против развода.
— Что бы ты, Степа, ни говорил, но после такого сраму я с тобой жить не буду. Разводите нас, гражданин судья, по всем законам, — капризно потребовала истица и поджала губы.
Я усмехнулся.
— А не лучше ли помириться, Зинаида Олеговна?
— Ни за что и никогда! — запальчиво выкрикнула Зинаида Олеговна и, смахнув с ресниц слезу, добавила: — Я вся оскорблена и обесчещена.
Однако разводить мне их не хотелось. Да и все, кто присутствовал на суде, не хотели этого, и, конечно, больше всех Тимур. Он уже побывал на руках у отца, потом перебрался к матери, хватал ее за нос, теребил волосы, а она поминутно целовала его и гладила.
Примирение — дело не из легких. Как правило, уже разведенные супруги мирятся дома. В суде же почти никогда.
Я рисовал истице ужасы одиночества, запугивал трудностями, стыдил, уговаривал, просил. Меня активно поддерживали заседатели, а потом начали уговаривать, стыдить и убеждать зрители. И Зинаида Олеговна стала помаленьку сдаваться. Она еще продолжала негодовать и страдать, что женская гордость ее погублена, душа оплевана и чувства растоптаны грубым мужским сапогом. Но гнев и страдание теперь звучали как награда своему самолюбию. Она находила в них облегчение, и радость, и наслаждение. И наконец она, счастливая и румяная, как кукла, с притворной милостью согласилась на примирение. И все, кто был в сельсовете, радовались. А я больше всех. И не только потому, что мне удалось помирить эту наивную смешную супружескую пару, а еще потому, что разбуженное природой «я» помогло мне сделать что-то большое и доброе.
Когда мы с секретарем возвращались из Макарьева в Узор, то опять повстречали чету Хотеловых. Они выходили из лавочки сельпо. Степан Григорьевич согнулся под тяжестью покупок. Одной рукой он придерживал на плече железное корыто, в котором громыхали два больших чугуна, ведро и стиральная доска. Другой рукой он нес банку с керосином, а на шее болтался допотопный фонарь «летучая мышь», который можно еще найти в наших далеких глухих деревушках. Зинаида Олеговна несла крохотный узелок в белом платочке и тащила за руку Тимура. Он волочил ноги и грыз серый и твердый, как кусок штукатурки, пряник. Они прошли мимо, даже не взглянув на меня, а может быть, просто не заметили. Я же долго смотрел им вслед, улыбался и думал: «А все-таки, наверное, хорошая, черт возьми, эта штука — мир!»
Кампании и уполномоченные
Минул год, прошла зима, и вот опять изумрудный веселый май. В моей жизни — ни перемен, ни особых событий. Были кое-какие истории, но я о них лучше умолчу.
В Узоре я теперь свой человек. Судью знают везде, в самых дальних и глухих углах, куда почта через три дня на пятый приходит. Все знают, не боятся, с охотой принимают и сажают за стол.
Заслуженная эта слава, случайная ли — трудно сказать, но повинен в ней один лишь райком. Я у него и агитатор, и пропагандист, и доверенный член, и представитель, и постоянный уполномоченный по всем видам кампаний и заготовок.
В году кампаний проходит много и разных. И не было таких, в которых бы я не участвовал. Все кампании можно подразделить на легкие и тяжелые, веселые, скучные и даже — смешные. Весенняя посевная кампания всегда у меня вызывает холодный озноб. Кампания по сбору подписей под каким-нибудь воззванием за мир — отрадная, веселая и радостная. А вот собирать яйца с шерстью с колхозников, у которых ни овец, ни кур, прямо скажу, и смешно, и грешно. Но самая скучная и безотрадная — это кампания по ликвидации яловости скота.
Кроме того, все кампании еще можно подразделить на нужные и ненужные, на выполнимые, трудно выполнимые и совсем не выполнимые. Как правило, все кампании в подготовительной стадии выполнимы, потом уже они становятся трудно выполнимыми, а под конец и совсем не выполняются. Но все они бледнеют перед кампанией по распространению очередного займа. Прямо можно утверждать: кто участия в подписке на заем не принимал, тот и горя не видал.
Мне ежегодно приходится проводить эту кампанию в качестве ответственного уполномоченного по Любятинскому сельсовету. Теперь я к этому делу привык, приобрел опыт и закалился. А в первый раз мне это дело показалось диким.
В середине мая, часа за два до объявления по радио сообщения о займе, наша комиссия: Ольга Андреевна Чекулаева, завсобесом Юлин, старшина милиции Кодыков и я — прибыла в Любятино. Там нас ожидала своя комиссия: председатель сельсовета, его секретарь, избач, председатели колхозов, учителя и еще кто-то из местной интеллигенции. Мы объединились, сформировали десять боевых троек. Ольга Андреевна была назначена начальником штаба, а я с Кодыковым — ее помощниками. Мы должны были координировать действия ударных троек, поддерживать постоянную связь с райкомом и вести обработку нерадивых и упорных подписчиков. Разработав операцию и уяснив задачу, мы стали ждать команду из райкома.
Настроение было у всех боевое, как у штрафников перед штурмом неприступного дота.
В час дня раздался телефонный звонок и команда: «Начинай». И мы начали с атаки на председателей колхозов. Они сопротивлялись стойко и мужественно на сторублевом рубеже и только после часовой обработки уступили еще пятьдесят и встали намертво, заявив: «Больше ни копейки». После этого ударные тройки пошли в наступление на колхозников. Я с Ольгой Андреевной остался в штабе ожидать донесений.
Из райкома звонили беспрерывно, требовали ускорить темпы подписки. У нас же, кроме полутора тысяч, ничего не было. А контрольная цифра подписки превышала эту сумму по крайней мере раз в двадцать. К концу дня райком довел ее до сорока тысяч.
Наконец наши утомительные и тревожные опасения за провал операции полностью оправдались. К вечеру явились наши тройки с трофеями. Они были очень скудны. Реальная сумма подписки не превысила и трети намеченной. Больше всех выколотил старшина Кодыков, и самую смехотворную сумму — сто двадцать пять рублей — завсобесом Юлин. Ему удалось подписать всего лишь пять человек. Ольга Андреевна передала сведения о трофеях в райком и получила нагоняй. Райком потребовал переиграть все заново. И отдал строгий приказ: без команды райкома из сельсовета не выезжать.
Эту команду мы ждали пять изнурительных кошмарных дней. За это время мы пять раз переподписывали председателей, измучили колхозников и сами измучились хуже их. Почти всех вызывали в сельсовет и, чтобы выжать каких-нибудь тридцать рублей, вели обработку всеми дозволенными и недозволенными способами: уговаривали, угрожали, стыдили, обещали. А что за подписчики?! С одних можно взять, да никак не взять. С других надо взять, да нечего.
Колхозница деревни Заклинье Алевтина Хорева, бездетная вдова, живет как сыр в масле, — уперлась на ста рублях, и ни с места.
— Алевтина Сергеевна, и не совестно тебе? — стыдит ее Чекулаева.
— А какая мне печаль стыдиться? Что у меня, краденое аль с облаков сыплется? — режет Хорева.
— Тебя не сравнить с Надеждой Головкиной. А ведь она подписалась на полтораста, — говорит Ольга Андреевна.
Хорева, подбоченясь, выставляет вперед груди.
— А что мне Головкина — указка? У нее своя голова на плечах, а у меня — своя. Пусть хоть на миллион подписывается. А я сказала «сто», и хошь на полосы режьте — больше не дам. А не хотите, то как хотите. Это дело полюбовное. Вот мое последнее слово, и я пошла: у меня корова не доена. — Хорева, затянув концы платка, направляется к двери.
— Стой, Алевтина, — приказывает Кодыков.
Хорева останавливается и, прищурясь, смотрит на старшину.
— Ну, стою, может, еще не дышать прикажешь?
— Вот тебе карандаш, а не хошь карандашом, бери мою ручку, заграничную, и поставь вот здесь собственную визу, — вежливо предлагает старшина и поигрывает своей немецкой трофейной ручкой.
— А сколько там?
— Двести.
Хорева поворачивается к нему спиной и хлопает себя по мягкому месту:
— На-ка вот, стукнись, да не ушибись!
Бесстыдная выходка Хоревой действует на нас, как плевок на раскаленное железо.
— Какая наглость! — шепчет Ольга Андреевна.
— Черт знает что, — возмущаюсь я.
Даже робкий Юлин подает голос:
— А еще женщиной называется.
— Я не женщина! — кричит Алевтина. — Это там у вас в городе на высоких каблуках женщины. А я баба, лапотница темная, и хватит вам, культурным интеллигентам, из меня жилы тянуть.
Милиционер Кодыков, равнодушный и медлительный, привыкший ко всему, холодно смотрит на Хореву и тянет, не разжимая зубов:
— Понятно. Так и запишем. Алевтина Хорева, известная спекулянтка, недовольна советской властью.
Хорева мгновенно теряет развязность и спесь.
— Довольна, всем довольна, и властью, и партией, простите, пожалуйста, по глупости, — лепечет она.
Алевтина понимает, что дала маху, и теперь не знает, как поправить ошибку. Ее крупное скуластое лицо посерело, раздрябло, глаза налились слезами, и всю ее колотит и трясет противной трусливой дрожью. А Кодыков, как приговор, кладет ей сухие колючие слова:
— Уходите, Хорева. Денег ваших нам не надо. Без них как-нибудь обойдется государство.
Алевтина, заикаясь, хнычет:
— Простите меня, ради бога.
— Хорева, хватит тут нам жалость распускать, — резко приказывает старшина.