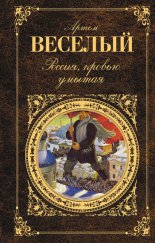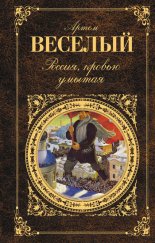На войне как на войне Курочкин Виктор

Читать бесплатно другие книги:
«Выступая на XXIII съезде партии, Вы, Михаил Александрович, поднялись на трибуну не как частное лицо...
«…Отношение племянника к дядюшке было переменное: он любил его и не любил, порой относился с почтени...
«… Не странно ли, что это погружение на дно вместе с Ленинградом, Катенькой, ночной Невой, что этот ...
«…– Я хотела бы узнать, – начала Софья Петровна, согнувшись, чтобы получше видеть лицо человека за о...
«Председатель хуторского ревкома Егор Ковалев, склонив большую, с тугим завитком на маковке голову, ...
«Дым утренних костров стлался по лугу, будто овчина. Расседланные кони дремали, сбившись в табунки, ...